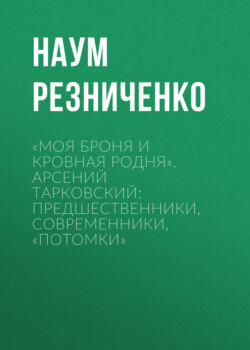Читать книгу «Моя броня и кровная родня». Арсений Тарковский: предшественники, современники, «потомки» - Н. А. Резниченко - Страница 7
Глава первая
«Вы, жившие на свете до меня»
(Диалог с традицией как «пантеон» культурных героев)
Эпоха модернизма (XX век)
Оглавление– один из величайших умов человечества, автор теории относительности Альберт Эйнштейн («Рифма»);
– швейцарский художник-авангардист Пауль Клее («Пауль Клее»), в творчестве которого Тарковский особенно ценил детскую непосредственность и незащищённость;
– русский поэт-футурист («будетлянин»), неутомимый искатель «самоценного», «самовитого» слова, называвший себя «Первым Председателем Земного Шара», Велимир Хлебников («Загадка с разгадкой»).
В пантеон культурных героев XX века следует включить поэтов – старших современников Тарковского, которым он посвятил стихи, как своим учителям, близким друзьям и собратьям по жертвенной «почве и судьбе». Это Осип Мандельштам («Поэт»), Анна Ахматова (цикл «Памяти А.А. Ахматовой»), Марина Цветаева (циклы «Чистопольская тетрадь», «Памяти М.И. Цветаевой») и Николай Заболоцкий (диптих «Могила поэта»). В лирике Тарковского указанные стихотворения составляют своего рода поэтический «некрополь».
За рамками нашей типологии, разумеется, далеко не безупречной, оказался российский царь-реформатор Пётр I, которому Тарковский посвятил два стихотворения: «Пётр» и «Петровские казни». Оба текста рисуют образ царя-тирана, инфернального палача, что «братствовал с тьмой» и «не дружил с человеком» (II, 78–79). Жестокий властитель, кровавый деспот, каким в стихах Тарковского предстаёт Пётр Великий, конечно же, не может быть включён в список культурных героев поэта.
С другой стороны, в этот список, на наш взгляд, нельзя не включить тех, кто составляет его ближайшее родственное окружение – членов его семьи, ставших для поэта первыми наставниками и учителями жизни.
Ходить меня учила мать,
Вцепился я в подол,
Не знал, с какой ноги начать,
А всё-таки пошёл.
(II, 118)
Это приобретённое от матери умение «ходить» в мире Тарковского станет универсальной мерой творческого дара и знаком пророческого служения поэта. Как справедливо пишет Е. Левкиевская, «человеческая жизнь в текстах Тарковского <…> уподоблена странствию – иногда движению по осмысленной дороге, иногда скитанию и блужданию»[12].
Значит, шёл я по верной дороге,
По кремнистой дороге поэта <…>
(I, 162)
<…> И чужда себе, предо мной
Жизнь земная, моя дорога
Бредит под своей сединой.
(I, 350)
<…> Пойду под уклон за подмогой,
Прямую сгибая в дугу, —
И кто я пред этой дорогой!
И чем похвалиться могу?
(I, 254)
Любимый герой Тарковского – человек «на перепутье», которому, подобно герою пушкинского «Пророка», может явиться духовный поводырь, к примеру, «старчик» Григорий Сковорода, что «по лицу моей вселенной <…> до меня прошёл, как царь» (I, 334), но чаще всего он оказывается один на один с жизнью, когда на неё «чёрной пряжей опускается судьба», как безымянный персонаж стихотворения «Портной из Львова, перелицовка и починка»:
На полу лежит в теплушке
Без подушки, без пальто
Побирушка без полушки,
Странник, беженец, никто.
(I, 123)
Странник и скиталец, лирический субъект Тарковского совершает судьбоносный шаг, открывающий ему путь пророческого служения:
На полустанке я вышел.
Глагол «вышел» особо значим в мире Тарковского как начало поэтической инициации, во многом инициированной (да простится нам такая тавтология!) самим героем. Такой «выход» – ответ на вызов жизни и судьбы, угрожающе обступившей человека.
И не песок пришёл к нам в те года,
А вышел я песку навстречу, —
напишет поэт в одном из ранних стихотворений, недвусмысленно обозначив начало той страшной социально-исторической трагедии, которую ему пришлось пережить вместе со всей страной: «Мне было десять лет (в 1917 году! – Н.РД когда песок ⁄ Пришёл в мой город на краю вселенной <…>» (II, 35). Так же и первый человек Адам выходит «из рая в степь», чтобы вернуть «дар прямой разумной речи» всему Божьему творению, пережившему апокалипсическую степную засуху («Степь»).
Если мать в мире Тарковского стоит в начале дороги, ведущей человека в «отворённую» жизнь, а испечённые её руками в голодном «девятнадцатом году» картофельные лепёшки инициируют первое появление «музы в розовой одежде» и «первое стихотворенье» сына, сочинённое, «как в бреду» («Жили-были»), то образ отца стоит в начале мира ребёнка, подобно камню, положенному во главу угла при строительстве храма.
Камень лежит у жасмина.
Под этим камнем клад.
Отец стоит на дорожке.
Белый-белый день.
(I, 302)
Символично, что «отец стоит на дорожке», словно бы предсказывая судьбу сына, для которого «дорожка» блаженного райского сада детства станет бесконечной дорогой жизненных странствий.
<…> Там пробирался я к Азову:
Подставил грудь под суховей,
Босой, пошёл на юг по зову
Судьбы скитальческой своей <…>
(I, 333)
На наш взгляд, отец в мире Тарковского больше чем культурный герой: он скорее «домашний бог» – носитель бессмертной космогонической сущности, не подвластной тлению даже в могиле.
В траве на кладбище глухом,
С крестом без надписи, есть в городе моём
Могила тихая. – А всё-таки он дышит.
А всё-таки и там он шорох ветра слышит
И бронзы долгий гул в своей земле родной.
Незастилаемы летучей пеленой,
Открыты глубине глаза его слепые
Глядят перед собой в провалы голубые.
(11,38–39)
Отец поэта Александр Карлович Тарковский в молодости стал членом партии «Народная воля», за что был приговорён к тюремному заключению и ссылке в Сибирь. Его революционно-демократические убеждения («Зато у отца, как в Сибири у ссыльного, ⁄ Был плед Гарибальди и Герцен под локтем <…>» (I, 290)) унаследовал старший сын Валерий, погибший в неполных шестнадцать лет в бою с бандой атамана Григорьева на подступах к Елизаветграду. Валерий был для ребёнка Арсения примером в учёбе (рассказ «Марсианская обезьяна») и образцом безмерной храбрости и героизма в борьбе за «молодую свободу». Незадолго до своей ранней гибели Валерий научил младшего брата стрелять из огнестрельного оружия, добытого подпольным путём, что придавало особую романтику этим тайным «урокам».
Там у вокзала стоит бронепоезд в брезенте,
И брат меня учит стрелять из лефоше.
(II, 44)
Впоследствии это умение пригодится поэту – мужественному защитнику «родной земли», потерявшему ногу на фронте и воспринявшему личное несчастье как пророческое посвящение:
Как птица, нищ и, как Израиль, хром.
Я сам себе не изменил поныне,
И мой язык стал языком гордыни
И для других невнятным языком.
(II, 59)
Особую, во многом судьбоносную, роль в жизни Тарковского-поэта сыграла его первая женщина Мария Фальц – та, «что горше всех любил», с которой он познакомился в семнадцатилетнем возрасте[13]. Марии Фальц посвящено около 20-ти стихотворений. В одном них – «Первых свиданиях» – прямо указано на магическую причастность возлюбленной к «первородным» истокам творчества поэта – к формированию его Слова и Мира:
Ты пробудилась и преобразила
Вседневный человеческий словарь,
И речь по горло полнозвучной силой
Наполнилась, и слово ты раскрыло
Свой новый смысл и означало: царь.
(I, 218; курсив А. Тарковского)
Продолжая перечень «культурных героев», сопричастных «золотому» (определение А. Тарковского – II, 235) детству поэта, нельзя не назвать учителя музыки Михаила Петровича Медема[14], душевной теплотой и «бумазейной курточкой своей» (I, 401) напоминавшего немца-гувернёра Карла Иваныча из повести «Детство» Л.Н. Толстого. В стихотворении, посвящённом его памяти, «старый Медем» предстаёт как подлинный культурный герой – кудесник, «великан лукавый», посвящавший ребёнка в таинство игры на «заспанном» рояле, минуя скучный «Ганой» – старый «классический» учебник по овладению фортепианной техникой. Музыка, которой учился «по средам» Асик Тарковский у взыскательного и вместе добрейшего Медема, стала одним из источников его светоносно-огневой «прометеевской» поэзии:
Много было в заспанном рояле
Белого и чёрного огня,
Клавиши мне пальцы обжигали,
И сердился Медем на меня.
(I, 401)
Не случайно в личной «поэтогонии» Тарковского музыкальная «инициация» предшествует литературной, звук опережает слово, о чём – не без удивления – говорит поэт в стихотворении с характерным названием «До стихов»:
И странно: от всего живого
Я принял только свет и звук, —
Ещё грядущее ни слова
Не заронило в этот круг…
(I, 191)
Исследуя истоки жизни и судьбы поэта, в каталог культурных героев Тарковского мы должны включить и безымянного «старика слепого», игру которого на «пятиротой дудке тростниковой» (II, 36) будущий поэт слышал в раннем детстве в родном Елисаветграде. Слепой дудочник играет, стоя на мосту через реку, что в мифопоэтическом дискурсе означает переход («выход») в новую жизнь и обретение нового экзистенциального статуса.
Во все пять ртов поёт его дуда,
Я горло вытяну, а ей отвечу!
И не песок пришёл к нам в те года,
А вышел я песку навстречу.
(П, 36)
Ср. в поздних стихах с тем же сюжетом инициации поэта-пророка, восходящим к Библии и, конечно же, к Пушкину:
И мне огнём беды
Дуду насквозь продуло <…>
(I, 207)
Мне вытянули горло длинное,
И выкруглили душу мне,
И обозначили былинные
Цветы и листья на спине,
И я раздвинул жар берёзовый,
Как заповедал Даниил,
Благословил закал свой розовый
И как пророк заговорил.
(I, 64)
«Обозначенные» на спине поэта «былинные цветы и листья» позволяют выявить ещё одного безымянного культурного героя, изофункционального странствующим волхвам, «каликам перехожим», давшим силы богатырю Илье Муромцу, что, парализованный от рождения, тридцать лет «сиднем» сидел в отцовой избе. Это – «странник захожий» из стихотворения «Я вспомнил далёкие годы…», в подтексте которого скрыт «степной» сюжет, связанный с бегством 14-летнего подростка в степь из поезда, в котором его везли на «революционный суд» из Елисаветграда в Николаев за антиленинские стихи[15].
Я вспомнил далёкие годы,
Мне снится – я снова стою
Под ранней звездою свободы
В степном неоглядном краю,
Где странник захожий – ошибкой
Мне силу недобрую дал,
И стал я певучим, как скрипка,
И лёгким от голода стал.
(I, 397)
Кто этот «странник захожий» и почему сила, которую он дал «ошибкой», «недобрая», – остаётся только гадать. Стихи написаны в особо тяжёлый, кризисный период, когда 39-летний поэт не дождался выхода в свет своей первой книги, уничтоженной после печально знаменитого постановления ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград». В стихотворении «недобрая сила» становится «певучей силой» и «мукой блаженной», от которой поэту уже не избавиться, как от первородного «священного дара».
Особый раздел в «словаре» культурных героев Тарковского, как уже было сказано, составляют поэты – старшие современники, представленные четырьмя именами: Ахматова, Мандельштам, Цветаева, Заболоцкий. Первые два – главные «учителя» поэта, от которых Тарковский перенял культуроцентризм и «семантическую поэтику»[16]. С Мариной Цветаевой его связывала тесная личная дружба, возникшая в преддверии трагической гибели старшего поэта (Тарковский – адресат последнего стихотворения Цветаевой «Всё повторяю первый стих…»). С ровесником его старшего брата Николаем Заболоцким Тарковского сближает натурфилософская устремлённость поэтической мысли и широта научной эрудиции (I, 426). Все четыре имени объединены парадигмой «трагическая судьба поэта в тоталитарном государстве». Мандельштам и Заболоцкий – узники сталинского ГУЛАГа; доведённая до самоубийства Цветаева – жертва бесчеловечной государственной тирании; Ахматова, как и Заболоцкий, сумевшая выжить в страшные годы репрессий, – великомученица и «плакальщица» по всем безвинно убиенным.
Автор циклов «Чистопольская тетрадь», «Памяти А.А. Ахматовой», «Памяти М.И. Цветаевой», стихотворений «Могила поэта» и «Поэт», Тарковский – вслед за Герценом – создаёт свой «мартиролог» поэтов, звучащий как поминальный реквием. Указанные стихотворения – при всех их концептуально-тематических и сюжетно-композиционных различиях – сближает общая ономастическая поэтика: сакральное отношение к имени адресата, его утаённость в стихе, замещение имени либо яркой метафорой (например, в стихотворении памяти Заболоцкого «Могила поэта»: «череп века, его чело, язык и медь» (I, 97), либо ассоциативной фонетической игрой («Имя твоё – Ангел и Ханаан» – в цикле «Памяти А.А. Ахматовой»), либо развёрнутой психолого-поэтологической характеристикой, как это сделано в стихотворении «Поэт», посвящённом памяти Мандельштама:
Как боялся он пространства
Коридоров! Постоянства
Кредиторов! Он, как дар,
В диком приступе жеманства
Принимал свой гонорар.
<…>
Гнутым словом забавлялся,
Птичьим клювом улыбался,
Встречных с лёту брал в зажим,
Одиночества боялся
И стихи читал чужим.
<…>
Там в стихах пейзажей мало,
Только бестолочь вокзала
И театра кутерьма,
Только люди как попало,
Рынок, очередь, тюрьма.
(I, 198–199)
Создавая поэтический «некрополь», Тарковский выстраивает целую систему биографических и стихотворных аллюзий, позволяющих безошибочно угадать имя адресата. Как замечательно показал в статье о стихотворении «Поэт» А. Скворцов, текст Тарковского цитирует рифмы, строфику и даже фонику «Стихов о русской поэзии» Мандельштама и вообще представляет собой «реминисцентный конспект» его поздней поэтики[17]. А диптих «Могила поэта» «апеллирует» к центральной теме Заболоцкого – теме смерти и бессмертия, одновременно цитируя шекспировского «Гамлета» и «Стихи о неизвестном солдате» Мандельштама:
Не человек, а череп века,
Его чело, язык и медь.
Заката огненное веко
Не может в небе догореть.
(I, 97)
В ахматовском цикле – помимо указанной ономастической игры – «подсказывающую» роль играют петербургские топонимы («<…> По чёрному Невскому льду, ⁄ По снежной Балтийской пустыне <…>» (I, 313); «Домой, домой, домой, ⁄ Под сосны в Комарове <…>» (I, 313)) и реминисценции из раннего мандельштамовского посвящения Ахматовой (ср.: «Зловещий голос – горький хмель — ⁄ Души расковывает недра <…>» (1,93) и «<…> К твоим ногам прильнуть заставил ⁄ Сладчайший лавр, горчайший хмель» (I, 312)). А «горацианская» тема памятника, заявленная в первом стихотворении цикла, замыкает тарковский текст на ахматовский «Реквием». Ср.: «Я памятник тебе поставил ⁄ На самой слёзной из земель» (I, 312) – «И пусть с неподвижных и бронзовых век. ⁄ Как слёзы, струится подтаявший снег <…>».
Ахматовский поминальный цикл очевидно корреспондирует со стихами памяти Заболоцкого. Их сближает описание последнего приюта поэта, в котором используется один и тот же сакральный библейский символ:
Твоя могила в белой шапке,
Как царь, проходит мимо них (живых – Н. Р.),
Туда, к распахнутым воротам,
Где ты не прах, не человек,
И в облаках за поворотом
Восходит снежный твой ковчег.
«Могила поэта»
(I, 97)
Как для деревьев снег,
Так для земли не бремя
Открытый твой ковчег.
Плывущий перед всеми
В твой двадцать первый век,
Из времени во время.
«Памяти А.А. Ахматовой»
(1,313)
«Плывущий ковчег» – это спасительный Ноев ковчег среди бушующих волн всемирного потопа, но одновременно и Ковчег Завета, в котором хранились каменные скрижали с десятью заповедями, полученными Моисеем на горе Синай. «Восходящий ковчег» – бессмертное Слово Божье, повторённое в слове поэта, которое он, обращаясь к потомкам, отправляет в «плавание» «из времени во время». Как скажет Тарковский в другом стихотворении,
Мне моего бессмертия довольно,
Чтоб кровь моя из века в век текла.
(I, 243)
На фоне поэтики неизречённости сакрального имени, унаследованной Тарковским от Мандельштама и так очевидно проявившейся в рассмотренных мемориальных текстах, стихи памяти Цветаевой составляют разительное исключение. Имя «Марина» названо в трёх из шести стихотворений, входящих в цветаевский цикл (не считая прямого упоминания фамилии поэта в третьем стихотворении «Друзья, правдолюбцы, хозяева…»), а также в заключительном стихотворении цикла «Чистопольская тетрадь» («Зову – не отзывается, крепко спит Марина…»). Это можно объяснить несколькими обстоятельствами: во-первых, близкими личными отношениями двух поэтов; во-вторых, неизбывным чувством вины Тарковского перед Цветаевой, погибшей в «еловой, проклятой» Елабуге – совсем недалеко от Чистополя, где проживала эвакуированная из Москвы «колония» советских писателей (в том числе Тарковский вместе с матерью и со второй семьёй) и куда просилась на жительство Цветаева, готовая быть посудомойкой при писательской столовой… Здесь нелишне упомянуть о том, что именем Марина – за несколько лет до знакомства с Цветаевой и в её честь – Тарковский назвал свою дочь, которую он всю жизнь нежно любил.
Имя Цветаевой не входит в список поэтических «учителей» Тарковского. «Я предпочитаю Ахматову», – не раз говорил он своим собеседникам – особенно в последние годы жизни (II, 243). Но Цветаеву можно и должно включить в «пантеон» культурных героев Тарковского, как поэта трагической, «горящей» судьбы.
Судьба моя сгорела между строк,
Пока душа меняла оболочку,
– эти строки из стихотворения «Рукопись», посвящённого боготворимой Анне Ахматовой, с полным правом можно отнести к Марине Цветаевой, с которой, по слову поэта, «было тяжело. Она была слишком резка, слишком нервна» (II, 243), но чья смерть оказалась для него «слышнее всех разлук». Не став для Тарковского учителем в поэзии, Цветаева стала для него «учителем» горькой и просветляющей памяти.
Не речи, – нет, я не хочу
Твоих сокровищ – клятв и плачей, —
Пера я не переучу, —
И горла не переиначу, —
Не дерзости твоих страстей
И не тому, что всё едино,
А только памяти твоей
Из гроба научи, Марина!
(I, 203–204)
В заключение отметим, что среди лирических текстов Тарковского есть примеры, когда поэт задаёт целый список культурных героев, выстраивая своего рода «малый пантеон» в пределах одного лирического высказывания. В стихотворении «Поэты» это сделано в имплицитной форме, поскольку речь идёт о библейских персонажах, чьи имена в сознании Тарковского составляют осевой ряд первопоэтов и учителей веры:
А вы нас любили, а вы нас хвалили,
Так что ж вы лежите могила к могиле
И молча плывёте, в ладьях накренясь,
Косарь, и псалтырщик, и плотничий князь?
(I, 194)
«Косарь» – это первый человек Адам (ср.: «Адам косил камыш, ⁄ А я плету корзину» (I, 286)), «псалтырщик» – певец-пастух Давид, а «плотничий князь» – Иисус Христос, сын плотника Иосифа и Царь Иудейский. Адам у Тарковского – знаковый образ поэта как такового. А «адамова тайна» – таинство дарования имён в Эдемском саду в присутствии Творца, первая мистерия, совершённая человеком и ставшая его первым поэтическим актом. Пастырь овец, а впоследствии великий царь, гениальный слагатель псалмов, Давид пропел гимн во славу Божию, передав всей мировой поэзии свой «псалмический мелос». Богочеловек Иисус Христос в определённом смысле тоже Поэт: Он стал воплощением Слова, которое творило мир, и искупил своей жертвой эдемский грех первых людей. Жертва Христова, по Тарковскому – это «матрица» судьбы поэта-пророка.
И от кого из пращуров своих
Я получил наследство роковое —
Шипы над перекладиной кривою,
Лиловый блеск на скулах восковых
И надпись над поникшей головою?
(П, 70)
Другой, «секулярный», пример списка культурных героев – стихотворение «Загадка с разгадкой». Свойство этого «списка» таково, что он, подобно волшебной сумке, полученной Персеем у нимф, может растягиваться в разных направлениях по оси культурно-исторического времени: от Пушкина, стоящего в начале списка и представленного аллюзивно по отношению к «смуглому отроку» Ахматовой с его «треуголкой» и «растрёпанным томом Парни» (ср.: «Кто, ещё прозрачный школьник, ⁄ Учит Музу чепухе ⁄ И торчит, как треугольник. ⁄ На шатучем лопухе?» (I, 183)) и к самому себе (ср. известную фразу из письма Пушкина к Вяземскому: «Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата»). - к похитителю «скачущего огня» Прометею, а от него – через Анакреона, Державина, Хлебникова и целую когорту поэтов, воспевших кузнечика-цикаду – «разгадку» шутливого, но на самом деле очень серьёзного стихотворения Тарковского, – к эксплицированным путём скрытого цитирования именам Заболоцкого и Мандельштама с его «ионийским мёдом» поэзии:
Мой кузнечик, мой кузнечик,
Герб державы луговой!
Он и мне протянет глечик
С ионийскою водой.
(I, 184)
Украинское слово «глечик» актуализирует столь дорогой сердцу поэта малороссийский дискурс, что позволяет включить в «дополнительный» список культурных героев «старчика» Григория Сковороду. Античный же «раздел» развёрнутого в «Загадке…» ономастикона – опять-таки за счёт контекстуальноассоциативных притяжений – может быть дополнен именами светозарного Аполлона («Муза», «храм»), шаловливого Эрота («золотой зубчатый лук») и римского поэта Овидия – по сути, «номера первого» в античных поэтических «святцах» Тарковского.
Особая интертекстуальная глубина этого стихотворения позволяет говорить о заключённой в нём «потенциальной культурной парадигме», которая, как некий хорошо отлаженный механизм, расширяет «пантеон» культурных героев поэта воистину «от альфы до омеги». Отождествив себя с кузнечиком и его запечным «близнецом» сверчком, чьё имя, как известно, было «арзамасским» прозвищем начинающего поэта-лицеиста Пушкина, Тарковский автоматически включает в этот «пантеон» и своё собственное имя.
12
Левкиевская Е.Е. Концепт человека в аксиологическом словаре поэзии А. Тарковского. С. 69.
13
Подробнее: Тарковская М.А. Осколки зеркала. М.: Вагриус, 2006. С. 268–272.
14
Подробнее: Там же. С. 273–275.
15
Подробнее: 1) Педиконе П., Лавр ин А. Тарковские: Отец и сын в зеркале судьбы. М.: ЭНАС, 2008. С. 31–32; 2) Резниченко Н.А. «От земли до высокой звезды». С. 85–98.
16
См.: Левин Ю.И., Сегал Д.М., Тименчик Р.Д., Топоров В.Н., Цивьян Т.В. Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма // Смерть и бессмертие поэта. Материалы международной научной конференции, посвящённой 60-летию со дня гибели О.Э. Мандельштама. М.: Изд-во РГГУ, 2001. С. 282–316.
17
Скворцов Артём. «Поэт» Арсения Тарковского: от реального – к идеальному // Вопросы литературы, 2011, № 5. С. 284.