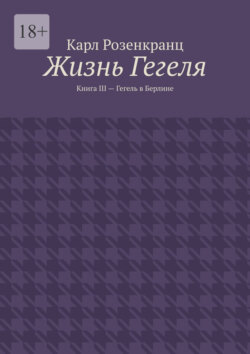Читать книгу Жизнь Гегеля. Книга III – Гегель в Берлине - - Страница 4
Введение с кратким изложением книги III
Глава вторая – Берлин и философия
ОглавлениеВ Берлине царит критический дух, который Розенкранц описывает следующим образом:
Берлин – город абсолютной рефлексии, и эта неугомонность мысли сосуществует с еще не завершенным развитием прусского государства, как и самой столицы. В Берлине нет ничего наивного, ничего непосредственного, но все в нем – работа рефлексии. (494)
Во всех классах общества присутствует острая рассудительность, которая придает им практическую направленность. Размышления могут привести к иронии, даже к скуке и бездействию. Чтобы преодолеть ее, необходимо неустанно стремиться к ней.
Философия преодолевает дуализм рефлексии. Религия преодолевает противоречия на уровне чувств: так, например, происходит в Вене. Но в Берлине сама религия пронизана рефлексией. Ее вера – это не спонтанная преданность, а попытка постичь собственное содержание.
Таким образом, университет дал Берлину возможность самовыражения. Там преподавал Фихте (1810—1814), покинувший Йену в 1799 году и недолго преподававший в Эрлангене в 1805 году. Фридрих Шлейермахер (1768—1834) был более важной фигурой для берлинцев. Карл Зольгер (см. ниже) учился у Фихте, преподавал и с 1811 года до своей смерти в 1819 году работал в Берлине в качестве профессора:
Карл Зольгер
Гегель писал о Зольгере через 10 лет после его смерти. Зольгер был промежуточной фигурой между Шеллингом и Гегелем и отвечал тем, кто стремился подвергнуть спекуляцию испытанию. Как и Шеллинг, он писал о диалектике, этике как политике, эстетике и философии религии, но не в систематизированном виде. Ему почти нечего было сказать о натурфилософии. В политическом плане он был согласен с Гегелем. Диалектику он представлял как диалог. Философская деятельность, таким образом, приобрела социальную форму: вопрос-ответ. Он остановился перед гегелевской идеей «самодвижения понятия», которая абстрагирует от таких субъективных форм. Зольгер придерживается диалогической точки зрения и не одобряет гегелевскую привилегию спекулятивной научной мысли. Зольгер пишет:
Несомненно, эти философы [как и Гегель] фактически признают высшую спекулятивную мысль как совершенно отличную от обычной мысли, но они считают ее в ее законности и универсальности единственно действенной, а все, что не является ею, включая эмпирическое сознание в той мере, в какой оно не связано с этими законами, – фрагментом их, ошибочным и пустым во всех своих отношениях.
Розенкранц пишет по этому поводу:
Гегель никогда не оспаривал необходимость опыта как такового, но он тщательно показал, как в силу своих собственных противоречий он толкает от себя к всеобщности и к необходимости детерминаций.
Зольгер изучал идеи творения, любви и жертвоприношения через античную мифологию. Он использовал иронию, чтобы ввести отрицание в свои рассуждения. Зольгер и Гегель были друзьями и обменивались терминами о преподавательских обязанностях.
Фридрих Шлейермахер
Теперь мы вернемся к отношениям Гегеля с Фридрихом Шлейермахером (см. ниже), которые также являются темой другой главы.
Ранняя литературная слава Шлейермахера возникла благодаря его «Речи о религии перед ее культурными презрителями» (1799). Он был проповедником в Берлине, и вокруг него собралась община. Он читал лекции в Берлине:
диалектике
психология
этика
эстетика
истории философии.
Он внес вклад в теорию веры и развитие протестантизма. Типично северогерманский характер, он был замкнутым, самоконтролируемым, но открытым к деятельности, «мастер рефлексии стать природой». Однако у него не было взаимопонимания с Гегелем. В это время теолог де Витте (1789—1849) написал письмо матери Санда, студента-теолога, который зарезал Коцебу как подозреваемый в шпионаже в России. Де Витте был уволен из университета, а Санд казнена. Это привело к ссоре между Гегелем и Шлейермахером в 1819 году [см. корр. письма 359, 390]. После нее они написали друг другу уважительные письма, как только остыли чувства. Эдуард Ганс [1836] полагает, что источником антипатии стало противодействие Шлейермахера приему Гегеля в Академию. Фихте тоже не был в Академии, и это считалось неподобающим для философа, создавшего школу. На публике эти два человека хорошо ладили друг с другом и даже вместе катались на санях в саду Тиволи. Однако их ученики образовали враждебные лагеря. Гегель, в свою очередь, не хотел, чтобы Шлейермахер участвовал в работе «Берлинского журнала».
Гегель преподавал свою систему дисциплинированно. Этот методичный подход дополнял разносторонность Шлейермахера. Это также способствовало тому, что Гегель, подражая ему, стремился превзойти своего коллегу. Розенкранц [в отрывке, цитируемом Кауфманом] говорит, что необходимо было привести в соответствие северо-восточные и юго-западные элементы немецкого духа. Многие люди со всей Германии и Швейцарии посещали курсы обоих мужчин.