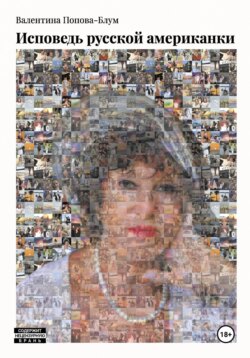Читать книгу Исповедь русской американки - - Страница 10
Часть первая
Осколки памяти советского
и постсоветского периода
Глава 7
ОглавлениеМама
Уезжала я радостно. 1993 год. Еще до поездки в Японию. Все непонятно было в Москве, и хотелось сменить сумасшедший ритм, отдохнуть от борьбы и увидеть Америку, конечно.
В Москве тогда оставалась моя старенькая мама, что меня весьма волновало. И когда я в 1995 году по приглашению Всемирной ассоциации сексологов готовилась к поездке с большим докладом в Японию, я опять столкнулась с российской бюрократической машиной.
Нужно было позаботиться о маме. Моя мама, заслуженный учитель России, была преклонного возраста, с потерей памяти (синдромом Альцгеймера), жила одна на окраине Москвы в хорошей квартирке, где летала черная моль величиной с бабочку.
Это потому, что мама была диабетиком и по рецепту районной поликлиники получала ежемесячно очень тогда дефицитную гречневую крупу. Съедать ее она не успевала, да и не спешила – предпочитала хранить «на случай голода или войны», как она говорила. В крупе заводились червячки, из них вылуплялись бабочки. И летали черной тучей, прилепляясь к стенам и потолку черными пятнами. Когда пришлось очищать мамину квартиру, я нашла горы гречневой муки, в которую превратилась крупа.
Еще мама хранила газеты с важными статьями с 50-х годов. Она не хотела их выбрасывать, несмотря на мои просьбы. В газетах она прятала деньги – пенсию, когда ее приносил почтальон. Устав от многочасовых поисков, я так и выбросила тонну этих газет.
Мама прятала деньги за батарею, в валенки, в посуду, которой не пользовалась с тех пор, как привезла ее из Германии, где работала в посольской школе. Потом маму стали грабить в районной сберкассе – когда обнаружили, что она может расписаться и уйти, забыв деньги. Ей тогда вообще перестали их выдавать. Она этого не понимала.
Я маму навещала не часто. И работала много, и жила далеко, но с тяжеленными сумками еженедельно тащилась к ней через всю Москву городским транспортом с пересадками. А приехав в следующий раз, находила испорченную еду, протухшие продукты, отложенные «на голод», и, конечно, сердилась.
А теперь предстояло оставить ее на пару месяцев. Она сильно сдавала. Колола сама себе инсулин, не дожимая шприц негнущимися пальцами, – сил не было или экономила на случай войны. Дверь она стала запирать на большой ключ и прятала его в углубление на шкафу, для чего залезала на табурет. Затем в поисках ключа мучилась и шарила там, падая с табуретки и ушибаясь. Торопилась, когда кто-то стучал в дверь (чаще добрые соседки, простые женщины, уважительно помогающие старой учительнице).
И еще страшнее было то, что она ставила на газ чайник, иногда пустой, и накрывала его полотенцем для просушки. Ее даже не остановил пожар у соседа, который она сама заметила и вызвала пожарных. Пожар произошел по аналогичной причине. А я должна была лететь на Всемирный конгресс в Йокогаме в Японии и потом к мужу в США.
Полет вокруг земного шара: из Москвы в Токио и потом через Лос-Анджелес в Нью-Йорк!
Я решила поместить мать в надежное заведение, где она могла бы быть под надзором – и медицинским, и бытовым.
В Москве это была не просто проблема, а полное отсутствие всяческой возможности найти такое место. К счастью, рядом с маминым домом я нашла пансионат – многоэтажку, стоящую, как раскрытая книга, на канале Москвы-реки.
Я выяснила, что это пансионат для жителей Москвы, но только для ветеранов культуры. Учителя, даже заслуженные, как мама, в эту категорию не входили.
Комнаты там были на двоих с большой лоджией.
Там, например, жила и умерла Лидия Русланова.
Я сходила к главному врачу. Это была замечательная женщина, фронтовик. Потому там был порядок, и не воровали. За пациентами хороший уход, внимание, культурные программы.
Мне там очень понравилось, но, увы, это место было не для всех.
Надо было искать выход из безвыходной ситуации, и я пошла в Минздрав. Сказала, что еду в Японию с докладом о наших успехах в решении социальных проблем, а сама нуждаюсь в социальной помощи. Что я одна от России приглашена на Всемирный конгресс с лекцией о своей работе с российскими подростками – среди 100 стран-участников и тысячами представителей разных континентов. Видимо, это впечатлило, и мне помогли пристроить маму в приличное место. Чиновники Минздрава дали разрешение на пребывание мамы в элитном заведении сроком на месяц. Я знала, что еду надолго, но про это молчала, надеясь на русское «авось». Этим «авось» позднее оказалась моя дочь, которая правдами и неправдами (в том числе денежными) добилась маминого пребывания там в течение нескольких лет, до ее конца…
Но выяснилось, что для помещения пациента в этот пансионат нужна сотня справок – о том, что у претендента нет туберкулеза, сифилиса, что она не хулиганка, не привлекалась и так далее. Чтобы собрать все справки, нужен был месяц, а у меня его не было. В маминой маленькой поликлинике в Химках Московской области, откуда нужно было получить справки, я случайно встретила главного врача крохотной подмосковной больницы – чудного пожилого мужчину, который предложил мне помощь: нужно было поместить маму к нему в стационар на 10 дней, и он, вызвав всех специалистов, все сделает.
Я нашла сердобольных друзей, они отвезли нас с мамой в эту деревенскую больницу. То, что я увидела, впечатано в мозг навсегда.
В лесу, в трех километрах от прекрасного шоссе, ведущего в международный аэропорт Шереметьево, стоял небольшой двухэтажный деревянный сруб, покосившийся и ветхий, над дверью которого была тусклая вывеска: «Городская больница г. Химки».
Рядом был колодец, и на веревках висели портки и простыни. Похолодев от ужаса, я вошла внутрь. Облезлые стены, ободранный линолеум. На покосившихся дверях надписи «Процедурная», «Медсестра», «Главврач». И запах карболки.
У меня сохранились фото, которые я сделала в этом аду. Полы, потолки, покосившиеся облупленные двери. Правда, было чистенько.
Маму провели в палату. Это была комната метров пятнадцать, где стояли вплотную семь-восемь железных кроватей с рваненьким, но чистым бельем. И столько же низких тумбочек. Лежали там деревенские старушки. К маме подошли три-четыре приветливые бабульки. Остальные лежали в забытьи, стонали с жуткими лицами и ввалившимися ртами. На клеенках.
В комнате стоял туалет – фанерный старый стул, окрашенный в ядовитый зеленый цвет, в сиденье которого была вырезана прямоугольная (!) дырка. Под стулом, прямо под дыркой, стояло синее ведро.
Нам показали свободную койку. Все они были очень-очень низкие.
Я в полном шоке лихорадочно себе повторяла: «Только неделя! Надо потерпеть».
Мама опустилась на эту свободную низкую кровать и заплакала. «Это дом престарелых?» – тихо, без эмоций спросила она.
Я, глотая слезы, стала горячо убеждать ее, что это только на неделю. Мама, стараясь меня успокоить, сказала обреченно: «Ничего, ничего». Но она не верила мне. Как и все окружающие – и пациенты, и сотрудники.
В этом доме жили двадцать четыре выброшенных на помойку старика. Внизу – женщины, на втором этаже – мужчины.
У кого-то сгорел дом, кто-то был одинок, кто-то слишком долго болел, остальных сдали дети или родственники.
Жили старики там годами – до смерти. Больница была на бюджете Минздрава, того самого, замминистра которого предлагал мне бороться с системой. Бюджет был нищенский, и работали только несколько сотрудников – кстати, все они были энтузиасты или инвалиды.
Работать в такой больнице было и физически, и психологически тяжело – копеечная зарплата, украсть нечего, нищие больные, никому не нужные, выброшенные из жизни старики. Да еще далеко от любого транспорта.
Еда у пациентов – минимально возможная, чтобы не умерли с голоду. Ничего не отщипнуть.
Стирали белье и исподнее лежачих вручную. Сушили на веревках на улице. Я оставила маму там и потеряла сон. Было лето, я жила на даче с внуком.
Мне нужно было готовить доклад на сорок минут перед тысячной аудиторией на непонятном английском. В пять утра я оставляла внука на попечение подруги, которая сидела на даче со своей внучкой, ехала на электричке, потом на метро, потом на сельском автобусе. С сумками, полными еды и фруктов для маминых соседок по палате, тащилась пешком три километра до этого кошмарного барака. Мама была спокойна, пользовалась уважением, привычным в народе по отношению к учительнице, и даже бывала недовольна, что я угощаю ее соседок.
Помню, одну слепую лежачую старушку я спросила, не хочет ли она банан.
А та спросила, что это такое – банан. И недоуменно жевала беззубым ртом душистую мякоть.
Вскоре нужные бумаги были собраны, и я перевезла маму в отличный элитный пансионат, в двухместную большую комнату с лоджией.
Устроила маму и улетела в Японию на Конгресс. Оттуда – в Штаты к мужу. И задержалась там надолго. Но за маму я была спокойна. Она была под надзором: сыта, относительно ухожена и в безопасности.
Ее немаленькая пенсия шла пансионату. Звонила я ей еженедельно, платила за дополнительный уход, даже говорила с ней иногда, пока однажды какая-то медсестра или нянечка не крикнула грубо мне в трубку: «Что вы звоните? Она совсем дурочка, ничего не понимает». И бросила трубку. Я долго не могла прийти в себя. Но как врач понимала, что все правильно.
Мама доживала в хороших, в отличие от тысяч других стариков, условиях. Хотя и без дочери рядом. Родных у нас не было.
Конечно, маму я больше не увидела.
Я застряла без подтвержденной визы в Америке, без которой выезд из страны невозможен. Вернее, въезд потом обратно, после выезда. Ждала ее продления долго.
А у нас там уже был дом, и муж сам не умел жить без женского ухода, был избалован пятью женами.
Короче, знаю, что я плохая дочь, но мучилась из-за этого и до сих пор испытываю чувство вины перед матерью.