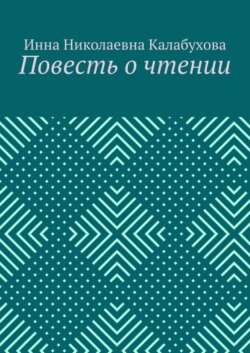Читать книгу Повесть о чтении - - Страница 5
Часть первая
Глава II. Рабочий городок
ОглавлениеВ Рабочем городке (окраина Ростова) мы прожили, ожидая обмена московской комнаты на жильё в Ростове, примерно столько же, сколько в Ставрополе. Но впечатления совсем другие. И качественно, и количественно. Можно объяснить это тем, что я на полгода повзрослела. Но я убеждена – причина иная. Именно тогда появился в моей биографии, в моей судьбе, в моих буднях и праздниках этот катализатор, который в дальнейшем и по сей день организует, ускоряет, усложняет, (а если надо – упрощает), но всегда – украшает жизнь.
Но сперва о чисто зрительных впечатлениях, эпизодах, застрявших в памяти, наряду со ставропольскими (вернее – вслед за). Новые лица, хозяева домика, в котором мы снимаем комнату: Надежда Захаровна и Феликс Викентьевич. Необычные, но подходящие к их очень индивидуальному облику имена, благодаря чему сразу запомнились. Она – с седой короной кос. Он – с ярко-синими глазами и ореолом седых кудрей вокруг блестящей лысины. Их пес Букет, крупная собака на цепи, которой следовало опасаться, что я и делала. А вот Юрий шагнул к ней сразу, раньше, чем его успели предупредить. И Букет, как родному, положил лапы дяде на плечи и лизнул в лицо, ко всеобщему удивлению и восхищению.
Комната наша понравилась мне сразу: светлая, уютная, удобная (хотя таких понятий, а тем более слов, я ещё не знала). Но – хорошая! И большая! Так я чувствовала. И, наверное, была права. Мы ведь жили в ней вчетвером и все довольно комфортно размещались. Впрочем, что я знала о комфорте в неполных три года? Главное – все меня любили – поэтому мне и пространство, и удовольствия были обеспечены. А на новом месте – и новые впечатления.
Что из них удержала память? Вид из окна (окон?) – осенний, зимний. Значит, переезд из Ставрополя состоялся осенью. Большое, пустое поле. Его пересекает трамвайная линия. Парные вагончики появляются редко. А я их приезда жду – на них прибывают из Ростова мои домашние. Днем – бабушка, ходившая за покупками. К вечеру – мама и Юрик. Если бабушка отлучается надолго, со мной приглашают «посидеть» мальчика Колю. Лет, наверное, десяти-двенадцати. Соседского? Знакомого? Никаких его родных не видела. Или не помню. А где он жил? Ни один дом по соседству с нами не просматривался. Из окна, во всяком случае. Чем мы с Колей занимались речь впереди.
Сейчас об одной необыкновенной прогулке с мамой. Вечером, в полной темноте. Только при свете луны. И в жуткую слякоть после вчерашнего или позавчерашнего ливня. Тогда я впервые взглянула на небо, узнала о существовании луны, а мама показывала и называла мне созвездия: Большую и Малую Медведицу, Полярную звезду, Плеяды, Кассиопею (нет, это я сегодня фантазирую; показывала она мне, может, и больше, но кроме Медведиц навряд ли я что-то восприняла и запомнила; а вот, как в этой жуткой грязи завязла и потерялась моя калоша, и что сказала по этому поводу бабушка, помню отлично; не слова, а интонацию).
Ещё один эпизод из жизни в Рабочем городке: какие-то друзья по фамилии Бируля, которые приезжают к нам в гости из Ростова. Целая семья: муж, жена и сын Никита, мальчик на год-полтора моложе меня. Делать с ним абсолютно нечего. А может, не из Ростова они приезжали? Потому что когда, наконец, мама поменяла московскую квартиру и мы переехали в «Новый Быт», эти Бирули вселились на наше место, к Надежде Захаровне и Феликсу Викентьевичу. А потом уже мы несколько лет наносили им визиты из Ростова. Никита подрос, и мы с ним подружились.
А вот действительно выдающееся событие – наша поездка в город на том самом трамвае. Долго (по моему впечатлению), неисчислимое количество остановок. В действительности восемь-десять. Вылезаем возле «Магазина с колоннами». Так это место, эта остановка в районе Центрального ростовского рынка называлась ещё много лет вперед. Магазин с колоннами – цель нашего путешествия. Вернее цель – встреча с бабушкиной подругой, тётей Женей, которая работает в магазине кассиром. Безусловно, важная персона. Может, самая главная. Сидит в специальной застеклённой будочке в центре зала, среди обилия разных красивых, ценных вещей. В том числе – игрушек. К ней все обращаются. Она крутит ручку блестящей штуки, которая сначала урчит, а потом щелкает. В промежутках между этими важными действиями тётя Женя разговаривает с бабушкой и ласкает меня. Перед нашим уходом она отлучается из будочки на несколько минут и возвращается с великолепным белоснежным игрушечным зайцем. Нет, зайчихой, судя по пышной, в зеленую клеточку юбке. Бабушка игрушку осматривает, они о чём-то совещаются, какими-то бумажками обмениваются. Урчит и щелкает волшебная машинка тёти Жени. И явно с её соизволения, распоряжения я становлюсь на много лет владелицей этой роскошной игрушки, которую буду любить и в её великолепии, и когда она обветшает, когда загрязнятся ее белоснежная мордочка и лапы, обвиснут уши, оторвётся и потеряется юбка, в результате поменяется пол, зайчиха станет зайцем. А я всё буду любить его, и в пять, и в семь лет. И до войны, и во время войны. Хотела сказать – и после… Но вспомнила, что, уехав в июне сорок пятого в Москву и вернувшись в ноябре сорок шестого, я своего старого друга не обнаружила. А с ним улетучились последние воспоминания о Рабочем городке…
А вот, оказалось, не улетучились… Эта россыпь фактов, событий, картинок, которые я сейчас перечислила, где-то же она хранилась. В памяти? В душе? И как только дёрнула за веревочку, дверь открылась и они посыпались на бумагу. Вернее, я вошла в эту комнату моего раннего детства под названием «Рабочий городок»… Опять не так… Перестану обращать внимание на логику и композицию текста. Сообщу в лоб, почему тянет меня в это место, в эти месяцы. Не биография, не география. А то, что именно тогда и там вошли в моё существование совершенно новые предметы, новые понятия, вокруг которых разрозненные эпизоды, кусочки нашей, моей жизни сгруппировались, приобрели собственный смысл, адекватную цену. Превратились из случайных, непреднамеренных, завалявшихся любительских снимков в нечто вроде крошечной, но уже киноленты, попытки документального фильма. Это осмысление происходящего вокруг меня, соединение разрозненных кадров в последовательный сюжет я безоговорочно отношу на счет появления в нашем доме книг. И такого времяпрепровождения, как чтение. Нет! Долой слово «времяпрепровождение»! Такого удовольствия! Такого счастья, как чтение!
…Увы, поздно затеяла я эти разборки! Абсолютно не у кого спросить: а что, действительно до Рабочего городка мне ничего не читали? В нашей, безусловно, расположенной к литературе семье? Но почему же ни в одной из ставропольских сценок, эпизодов нет ситуации, где бы я сидела рядом с читающим мне взрослым. Более того – нет просто лежащей, стоящей где-нибудь книги. Между тем я уверена, что сюжеты «Колобка» и «Курочки Рябы» я откуда-то в это время знала. И помнила, что «придёт серенький волчок, схватит детку за бочок». И про сороку-ворону, которая кашу варила, деток кормила. Остаётся предположить, что эти потешки читали мне в Москве и «чудесной» Перловке, а в Ставрополе, в который мы всё «переезжали», «устраивались», да так и не устроились, закончив «переезд» родительским разводом, мои женщины просто пересказывали мне все эти «Гуси, гуси га-га-га» и «Жил-был у бабушки серенький козлик»… Потому что ни книг под рукой, ни свободного времени у них не было. А может, другая объясняющая схема, причина существовала? Чертёж утерян. Архитекторы и строители ушли в мир иной.
Но вот образовалось у нас постоянное место жительства, и книги появились сразу. Главным их поставщиком был, однозначно, Юрий. Как наиболее активный по молодости член семьи? Или свободный от бытовых забот? Но главное, по-моему, всегда склонный не только к чтению, но и собирательству книжек. Хотя у него в тридцать пятом году и собственного дома нет. И появится он нескоро, десять лет спустя. Да и семейное наше пристанище – временное, съёмное. Однако в предвоенные годы стояли на этажерке в «Новом быте» с факсимиле Юрия юбилейный однотомник Пушкина, однотомник Маяковского, «Как закалялась сталь» и сакраментальный первый том Оскара Уайльда.
А в Рабочем городке Юрик покупает книги для меня. Какими чувствами он руководствовался? Родственно-педагогическими? Молодой дядя (ему двадцать лет) нежно любил меня и всегда готов был, хотел со мной общаться, открывать передо мной мир. Но, может, попутно, косвенно утолялась им и эта потребность – покупать, собирать книги? Не вызывая упреков в несвоевременных тратах. Но что теперь рассуждать на пустом, остывшем месте?
Факты таковы: дядя ежедневно ездит в город на работу (грибковая станция) и если не через день, то через два-три привозит для меня книжку. И каждая из них – событие в моем существовании. Этот предмет (опять неправильное слово!) … эта субстанция… это происшествие (подходит…) устанавливает некие особые связи, регламент, ритм, атмосферу в нашем мире. Когда я вспоминаю комнату в Рабочем городке, то книга там обязательно присутствует. То я сижу на маленьком бамбуковом стульчике и слушаю, как мне читают. Чаще всего бабушка. Охотно, азартно – дядя. Очень редко, но с удовольствием – мама. Вяло, отвлекаясь, но все равно мне в радость – мальчик Коля.
А вот – открывается дверь и в комнату, размахивая покупкой, входит Юрик. Я лечу к нему навстречу, выхватываю книжку, распахиваю… Или – интерьер нашего жилища. Обеденный стол в центре. Две застеленные кровати. Куцая кушетка. Выглядывающие из-под них чемоданы. Любимая зайчиха развалилась на подушке. Но рядом с ней на кровати… Или на столе… Раскрытая на половине… Или только что закрытая… Но обязательно – книжка.
Я их помню со всеми подробностями. Все… Или почти все… Первая (вероятно, первая, уж больно подробно представляю) – «Приключения Макарки». Квадратная и, по моему суждению, большая. В плотной картонной обложке. Снаружи и внутри – сплошные синие картинки, изображающие необыкновенные приключения, ситуации, в которые попадает обезьянка по имени Макарка. Под картинками, а то и прямо на рисунках напечатан текст, стихотворный. Я на него пока не смотрю. Зачем? Мне его читают, я слушаю. Полагаю замечательным. Оценка проверке не подлежит – не помню ни единой строчки, не знаю фамилии автора. Больше в жизни мы не встретились. Но это первая книга, которую запечатлело моё сознание. Которую осязали, перелистывали мои руки, рассматривали глаза. А я повторяла про себя запомнившиеся строчки? Отдельные слова?..
Через какое-то время возникает «Телефон» Корнея Чуковского. Тоже большая. Каждый разговор – на отдельной странице, даже на двух. На одной – автор с разными выражениями лица – удивленным, возмущенным, радостным. На другой – слон, медведь, мартышки, газели… И стихи – такие точные, весёлые, ладные. Запомнились сразу. Видимо, уровень таланта Чуковского и автора «Приключения Макарки» был разным.
Но самое сильное впечатление из книжек такого рода (в смысле – сказок в стихах) произвела корниловская «Как от мёда у медведя зубы начали болеть». Размер книжки примерно такой же, но не квадратная, а прямоугольная. А ещё – очень пестро и выразительно иллюстрирована. Эти ярко-жёлтые ульи с нахлобученными крышами. Компания чёрных кротов, трудолюбиво копающих огород в поисках золота. Дятел в красной шапочке, удаляющий гнилой зуб у медведя. И, наконец, счастливый, пляшущий медведь, изо рта у которого бьют золотые лучи. Корниловские стихи запали мне в душу с первой до последней строчки навсегда. Так что детям, а потом и внукам я могла рассказывать историю про медведя-сладкоежку наизусть, если книжки Корнилова не оказывалось в нашем доме в нужный момент.
Ещё очень нравились мне толстовские «Три медведя». Правда, в простой бумажной обложке, зато с картинками Васнецова. И с этими интонациями голосов Михайло Ивановича, Настасьи Петровны и Мишутки, которые старательно изображали все мои читчики. Может, за исключением Коли.
А ещё была тоже лёгонькая, в бумажной обложке и поменьше размером, но опять же квадратная, книжка, названия которой я не помню. Это был совершенно особый жанр – продукт молодой социалистической культуры, журналистики для детей дошкольного возраста. На двадцати – двадцати четырех бледно-розово-жёлтых страницах описывалось, как мама привела определять сына в «очаг» (так тогда назывался детский сад). И пока мама оформляет в администрации документы, Саша (или Миша?) путешествует по территории «очага»: любуется цветником, качается на качелях, копается в песочнице, вслушивается в хоровое пение, внюхивается в аппетитные запахи, долетающие из кухни. Для кого такая книжечка предназначалась? Кого должна была сагитировать в пользу «очагов»? Родителей? Детей? Навряд ли они в этом нуждались. По-моему, желающих всегда было больше, чем возможностей. Или это были годы, когда правильные «очаги» дошкольной жизни только создавались и ещё не были оценены? И баланс ещё клонился в сторону предложения. Больше эта книжка мне никогда не попадалась.
А вот с другой продукцией советской журналистики для детей именно Юрий и как раз в Рабочем городке меня и познакомил. И продолжал эту полезную и благородную деятельность ещё пару лет. За что ему низкий поклон. А как дядя вышел на эти журналы? Кто ему подсказал? Скорее всего, Юрик покупал, если не регулярно, то достаточно часто комсомольские, партийные газеты. В каких-нибудь киосках… Существовали тогда ларьки «Союзпечать»? Если да, то среди чёрно-белых газет должны были привлечь к себе внимание эти яркие книжицы с веселыми, смешными названиями «Ёж» и «Чиж». Между тем эти забавные аббревиатуры расшифровывались самым прозаическим образом – «Ежемесячный журнал» и «Чрезвычайно интересный журнал».
Секрет заключался в том, что содержание, оформление этих первых детских журналов соответствовали как раз их сокращенным псевдонимам, а не вполне казенному полному названию. Дело в том, что эту периодику для будущих строителей коммунизма придумали, включая два варианта заголовков, сочинили в атмосфере весёлых находок, шуток, игры, изобретали рубрики, охотились за художниками-единомышленниками, переписывались с читателями совершенно необыкновенные люди – компания молодых талантливых поэтов. Круг их до сих пор определяют по-разному, потому что он то расширялся, то сужался, то видоизменялся, то назывался «Орденом заумников», то странным словом «ОБЭРИУ» (общество реального искусства). А себя молодые гении именовали «чинарями». Я назову сейчас вам несколько имён: Хармс, Введенский, Олейников, Заболоцкий, Владимиров, Липавский, Друскин, Туфанов. Какие-то прозвучат узнаваемо. Ведь Хармс, Заболоцкий, Введенский, даже Владимиров вернулись к читателю в шестидесятые, и ещё в большем числе – в девяностые. Остальные переключились на мемуаристику, литературоведение. Или вообще исчезли с читательского горизонта. Я уже не говорю о том (вы и сами догадались?), что самые талантливые просто-напросто исчезли из жизни в 37—40 гг.
Так вот, я до этих роковых дней успела их прочитать. И про то, как бегал Петька по дороге, по панели, и про Ивана Иваныча Самовара, и как «Меркнут знаки зодиака»… Нет, насчет Заболоцкого я преувеличиваю. Его стихи я прочитала уже в «оттепель», когда они вышли в «Большой серии поэзии». Для «Ежа» и «Чижа» он был не по возрасту. Зато в этих журналах весёлые стихи Даниила Хармса про отчаянного врунишку перемежались с грустной историей про журавля, который на званом ужине у сороки (я не путаю?) «…опрокинул кружку, хап! И съел лягушку!» И все звери, и все птицы закричали: «Где видано, чтоб гости ели сами гостей?!». Журавля выгнали, и он бродил под луной по болоту – «скучно, грустно одному журавушке моему». На картинке – унылая, виноватая фигура. Чьи стихи? Никогда больше не встречала, не слышала. Интернет нашел – Благининой. А вот ведь запомнились строчки на всю жизнь. Как что-то значительное. Ну, не афоризмы Ларошфуко. Не евангельская заповедь. Но крошечная песчинка чувств, уроненная ненавязчиво и точно в душу ребенка.
Печатались в «Чиже» (или «Еже») отдельные рассказы из книги Зощенко про Миньку и Лельку. Кажется, про обкусанные на елке сласти. Или проданные старьевщику галоши? И ещё стихи Каринского про наивную старушку и ее гадкого кота, который таскал и ел хозяйских цыплят. Разбойника наказали отважные грачи. Иллюстрации к истории были очень выразительные. Но я и строчки запомнила – причитания старушки над упавшим котом: «К счастью, лапки уцелели! Как тебя грачи не съели?». Кот так и остался неразоблаченным фаворитом старушки. Но по заслугам всё же получил…
Если напрячь память, можно ещё какие-то сюжеты, истории вспомнить… Иллюстрированные миниатюры Чарушина, Бианки, рассказы Житкова. Ведь разрозненные номера «Ежа» и «Чижа» Юрик покупал мне ещё года полтора, когда мы уже переселились в «Новый Быт». Между тем, сколько ни заводила я в шестидесятые-семидесятые годы со своими сверстниками разговоры о детском чтении – никто, никогда не видел таких журналов, не слышал о них. Эта необыкновенная, раскованная, звёздная поэзия, эти творческие поиски и находки оказались пропущены нашим поколением. Чем моим сверстникам был нанесен серьёзный ущерб. И когда я в шестидесятые годы, ухватив свеженького, только что изданного, вернувшегося из небытия Хармса, взахлеб читала трёхлетней дочке в купе поезда «Ивана Топорышкина» и «О том, как папа застрелил мне хорька», то попутчики возмущались:
– Что за гадость вы ребенку в голову вбиваете?
Это я рассказываю, чтоб вы взяли на заметку: упущенное в детстве ни восстановить, ни компенсировать не удаётся.
* * *
И вот ещё одна важная книга, которая появилась в Рабочем городке. Она вписана в эту комнату, в эти месяцы, в мою развивающуюся жизнь, в открывающийся передо мною мир накрепко. Это «Конёк-горбунок» Ершова. Стоит мне заговорить о том времени, вспомнить какой-нибудь эпизод, сценку, как она появляется. Я уже писала, что интерьер съёмной рабочегородковской комнаты без детской книги немыслим. Она всегда в каком-то месте, в каком-то ракурсе присутствует. Но если я начну вглядываться пристально, чтобы обсудить проблему детского чтения, то это окажется, конечно, «Конёк-горбунок». Во-первых, даже по внешнему виду это – всем книгам книга. Подарочное издание в нарядном, массивном переплете, на белоснежной бумаге, с билибинскими иллюстрациями. Мне её и на весу не удержать. Однако в любую удобную минуту я к ней подбираюсь, на столе, на кровати ли, раскрываю и перелистываю. Можно сказать, «читаю». Хотя меня ещё и буквам не обучали, но все равно я рассматриваю «Конька-Горбунка» не так, совсем не так, как другие книжки. Открывая одну за другой иллюстрации, восстанавливаю в голове сюжет. Вот Иван, ослеплённый видом виновницы потравы. Я тоже любуюсь лошадью, а кто-то вроде нашептывает: «Кобылица та была вся, как зимний снег, бела. Грива в землю, золотая, в мелки кольца завитая». А по поводу следующей картинки в голове стучит: «К кобылице подбегает, за волнистый хвост хватает. И прыгнул к ней на хребёт – только задом наперёд». И ещё: «Да Иван и сам не прост – крепко держится за хвост».
А вот картинка столичного базара, во всем его многообразии. Я смотрю и вспоминаю что-то про «давку от народу, нет ни выходу, ни входу; Так кишмя вот и кишат» (какое интересное выражение!). И ещё: «Эй вы, черти босоноги, прочь с дороги, прочь с дороги!» – закричали усачи и ударили в бичи».
Вот эта экспрессивность, выразительность, многослойность текста мне нравится, меня захватывает. «Эй вы, черти босоноги!» – и я представляю, что народ на площади одет плохо, бедно, а на ногах и вовсе ничего нет. И унижен, и обижен важными царскими сатрапами (всех этих понятий я не знаю, но чувствую, слово «усачи» создаёт портрет, а «ударить в бичи» обозначает как скорость, так и свирепость расправы).
Но особенно мне нравилась картинка с Чудо-юдо Рыбой-китом. Когда он «начал море волновать и из челюстей бросать корабли за кораблями с парусами и гребцами». А также та, где ерша «проказники-дельфины подхватили под щетины», а он «кричит дельфинам смело: ну а вам какое дело? Я шутить ведь не люблю, разом всех переколю». А потом: «Будьте милостивы, братцы! Дайте чуточку подраться!» Какой смешной и славный!
И, конечно, любуюсь последней картинкой (или предпоследней?). Хотя там и любоваться нечем – торчащие из котла царские ноги. Но это радует. И звучит в голове: «Бух в котел – и там сварился!»
Удивительно, но задерживалась я на некоторых страницах, где картинки отсутствовали. Книгу мне читали уже столько раз, что я безошибочно знала, где напечатаны вполне бессмысленные, не имеющие отношения к истории Иванушки и Горбунка строчки: «Козы на море ушли; горы лесом поросли, конь с златой узды срывался, прямо к солнцу поднимался, лес стоячий под ногой, сбоку облак громовой… Это присказка, пожди, сказка будет впереди». Или: «…Это присказка ведётся, сказка послее начнётся. Как у наших у ворот муха песенку поёт», «Что дадите мне за вестку? Бьёт свекровь свою невестку»… Или «…Сердцу любо! Я там был, мёд, вино и пиво пил. По усам хоть и бежало, в рот ни капли не попало»…
Почему-то эти фольклорные запевы, концовки меня особым образом задевали, запоминались. Мне казалось, что я точно угадываю – с какой строчки в книге, на какой странице начинаются, какой кончаются, какой скрывают дополнительный, добавочный к сказке смысл. А вот интересно: как я понимала слова «свекровь» и «невестка»? Просила их объяснить? А строки «и нейдет ли царь Салтан басурманить христиан?» Самим взрослым это почему-то в голову не приходило. И они были правы. Весь строй, вся лексика Конька-Горбунка была так насыщена чувствами, действием, событиями, что непонятные, неизвестные слова угадывались, подсказывались, если не по смыслу, то по духу, по их месту в миропорядке.
А с другой стороны, некоторые стихотворные реплики соединялись в моей голове с совершенно конкретными житейскими фактами, помогали их постижению. Например, я задумывалась над строками: «Братья сеяли пшеницу да возили в град-столицу: знать, столица та была недалече от села». А конкретно, что имеется в виду под словом «недалече»? И я обращалась к собственному небольшому опыту поездок. Как от Ставрополя до Ростова? Полтора дня на поезде? С ночёвкой в движущемся вагоне? Нет, на телеге это бы на три дня растянулось. А вот поездка на трамвае из Рабочего городка в центр Ростова – самое то. Усевшись в телегу, ершовские герои выезжают из своего села на рассвете, за несколько часов добираются до столицы, за полдня распродаются. А к ночи «с набитою сумой возвращаются домой».
Да только начни я сегодня анализировать ершовский текст, и сразу выяснится, что и представления о разных видах морских обитателей, об их размерах (дельфинов, ершей, карасей, осетров) у меня оттуда. И как выглядит остров. И понятие о коварстве, как в придворном, так и в крестьянском мире. Но и о чести и верности…
Все эти капельки падали в ту же точку, где вырастало сострадание к одинокому журавлю, смешанное с осуждением его за съеденную лягушку.