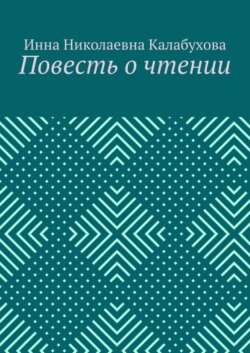Читать книгу Повесть о чтении - - Страница 6
Часть первая
Глава III. «Новый Быт», или От трёх до восьми
ОглавлениеОднако по-настоящему, неразрывно, моя жизнь соединилась с книгой весной тридцать шестого года, когда мы наконец обрели постоянное место жительства. Переехали в «Новый Быт» на долгие-долгие годы. Бабушка и я – на двадцать (плюс-минус по году). А мама – на сорок с лишним, до самой смерти.
Впрочем, и эта жизнь одной семьи под общей крышей (правда, состав ее трансформировался ничуть не реже, чем состав компании обэриутов) определялась прежде всего историческими событиями (весьма бурными) и социальной средой (весьма заурядной). Но также индивидуальными особенностями биографий и характеров. И всё же, и всё же… Не было ли какой-то мистической ауры в этом многолетнем нашем пристанище, с его уникальной конфигурацией, с символической надписью «Новый Быт» на центральной плоскости фасада? Почему про Ставрополь, Рабочий городок у меня остались в памяти отдельные эмоциональные впечатления, вне всякой хронологии, без конца и без начала? А пребывание в «Новом Быте» предстает в моих воспоминаниях не в обрывках, а как подробная хроника семейной жизни со своими особенностями, правилами, философией, конфликтами и праздниками. Правда, осмысленные схемы и формулы этой жизни я вывела много лет спустя, но материал для такой работы накопила именно в новобытовском детстве… Или объясняется всё моим вступлением в следующий возраст? Тот самый – дошкольный. Который у психологов официально относится к трехлетнему.
Во всяком случае, я совершенно отчетливо помню наше вселение, вернее вхождение. Конечно, никакого понятия о летоисчислении я не имела в это время. И тридцать шестой год прозвучал, обозначился много позже, когда я уже подростком ловила всякую семейную хронологию в разговорах взрослых. А вот время года определила моя память: тепло, сыро, пасмурно. Влажные пятна вчерашнего дождя на асфальте. Так бывает в конце марта, начале апреля. «Как раз накануне моего дня рождения», – констатирую я уже сегодня. Те самые сакраментальные три года! Теперь картинка.
Мы идём (кто мы? людей я не вижу), сегодня могу предположить, что вела нас мама. Она уже тут бывала, когда определялась с обменом, оформляла документы, получала ордер. И, конечно, присутствует бабушка, будущая блюстительница семейного очага.
Но я на них не обращаю внимания. Меня интересует только новый дом, «Новый Быт». Это я с НИМ встречаюсь… Иду по левой стороне Мало-Садовой, миную высокое, в классическом стиле дореволюционное здание и с удивлением спотыкаюсь об эту серую кирпичную причуду архитектора Григорьева, которая поражает меня высотой. Хотя многоэтажные дома я уже видела… Да вот только что… Но «Новый Быт» куда выше – целых пять полноценных этажей. А какое обилие окон рассыпано по стенам! Если в соседнем здании окна смахивают на большие глаза, то в «Новом Быте» – на крупные, частые оспины.
Но главное – эти зигзаги, эта гармошка, которой дом преграждает нам путь, а потом отступает назад, образует ущелье для пещеры (подъезда). Мимо первого ущелья мы проходим, не задерживаясь. Минуем ещё один выступ… А вот теперь – поворот. Асфальтовая ленточка вильнула на девяносто градусов от асфальтового же тротуара по направлению к подъезду. И я отчётливо вижу даже сегодня её прямизну, а также обрамляющие дорожку два треугольника вскопанной почвы. С моим ставропольским садовым опытом я догадываюсь – здесь будут посажены цветы (так и случилось).
Асфальтовая речка, вопреки законам природы, не падает вниз, а упирается в ступеньки шестого подъезда, проходного, как и восьмой, которым мы только что пренебрегли (номера подъездов и их особенности будут изучены потом). И совершив несколько подъёмов-спусков по внутриклеточному лабиринту (подъезды в «Новом Быте» почему-то называются «клетками»), мы выходим в громадный, протяжённый двор. Поворачиваем направо и ещё раз направо, и вступаем в пятую, нашу собственную, непроходную «клетку». Опять пещера между двух скал. Но внутри пещеры, в ее глубине, в квартире, оказалось очень светло, тепло и уютно.
Но это всё потом: квартирные впечатления, освоение дворового пространства, выяснение количества «клеток» – всего девять; чётные – проходные, нечётные – нет. Ещё имеются железные ворота. Они выходят на проспект Соколова (по-старому Средний), по которому «Новый Быт» и числится под номерами 17—19 (есть и второй корпус). Сегодня – №№21—23.
Существует ещё какой-то полулегальный выход на Ворошиловский проспект. Пользоваться им детям самостоятельно не рекомендуется. Во-первых, Ворошиловский – одна из главных транспортных артерий Ростова. Того и гляди под машину или трамвай попадёшь. Во-вторых, через него ходят обитатели трёх смежных зданий: второго новобытовского корпуса, областной партшколы, а главное (я это узнала много лет спустя) – работники ОГПУ, разместившегося в той самой дореволюционной многоэтажке. Кстати (кстати ли?) некоторые сотрудники ОГПУ живут в «Новом Быте». В нашей «клетке» в том числе. А энное количество окон серьёзной конторы, забранных матовыми стеклами, выходит к нам во двор, на дальний его закоулок, где в разное время размещается то что-то вроде спортивного аттракциона: высокие качели, соседствующие с шестом и канатом, по которым пацаны постарше пытаются карабкаться. То там выставляют мусорные баки, не меньше десятка. Выносить мусор – моя обязанность, и я стараюсь не пропустить, не опоздать к дню, часу приезда мусоровоза.
Кто, интересно, решал, чем отвлечь или привлечь внимание новобытовцев от или к секретной конторе? Комиссар госбезопасности? Или домоуправление? Или просто в тридцатые и в пятидесятые были разными представления об уюте двора и о способах утилизации отходов? Или в пятидесятые ОГПУ отчалила в другое место?
Но это всё факты и фактики для каких-то других сюжетов, к которым я, скорее всего, не успею обратиться. В том числе – подробности первых детских дружб и недружб; картинки тогдашних дворовых игр: все эти «Золотые ворота», «Здравствуй, дедушка король!», «Красочки», «Чью душу желаете?», «Да» и «нет» не говорите». А ещё «Штандер». И, конечно, «Классики». За них нам всегда попадало от тети Маши Дудченко, которая блюла чистоту тротуаров возле нашей «клетки» и заставляла нас смывать нарисованные мелом квадраты. А когда мы подбрасывали в «Штандере» мяч чуть ли не в небо, ругалась, если он падал на клумбы. Ведь именно Мария Ивановна была главным садовником, организатором дворового актива. И уже через год-два несколько клумб, лента газонов, подросшие акации и свежевыкрашенные скамейки превратили новобытовский двор в хорошенький сквер для женщин-домохозяек, мамаш с колясками, а вечером – для мужиков-доминошников.
Эти детали можно использовать в повести или даже в романе à la сёминские «Семеро в одном доме», где Дудчиха вполне могла бы поспорить яркостью личности и энергетикой с Мулей. А заодно заставить задуматься, так ли прекрасны, благостны, достойны восхищения эти типажи из «простого народа», эти носители морали, философии, энергетики маргинального населения советской провинции?
В семьдесят седьмом году мы заспорили по этому поводу при шапочном знакомстве с Анной Самойловной Берзер. Уже прошло несколько лет, как «Новый мир» опубликовал повесть Сёмина, а в Берзер всё ещё пылал восторг перед явленным миру настоящим народным характером, доселе ей (ей – безусловно) неизвестным. Я же, проживавшая все детство в одном дворе, в одной «клетке» с новобытовской «Мулей», помнила, как трудолюбивая, энергичная, бескорыстная, весёлая тетя Маша в одну минуту превращается в склочную, грубую, глупую сплетницу.
Опять меня занесло не туда… Ни двор-сквер, ни «клетка» -пещера к моему «роману» с чтением отношения не имели. А вот квартира, семья – да. Сто раз – да! Во-первых, сразу сформировалась и определила себе место наша маленькая библиотека. Вернее две библиотеки – взрослая и детская. На рыженькой скромной этажерке, пристроившейся в правом, дальнем углу столовой (так именовалась первая, большая, проходная комната).
Если слово «этажерка» происходит от слова «этаж», то у нашей их было три. На первом, закрывавшемся тугой дверцей, хранились мои разномерные, легко лохматившие книжки. «Конёк-Горбунок» – исключение, в переплёте. Он лёг первым на дно этажерки, этакий фундамент здания. А уже на него навалились номера «Ежа» и «Чижа», «Игрушки» Барто, «Телефон» Чуковского и прочее. Не сказать, что мне досталось удобное место. В сумраке этого скорее подвала, чем первого этажа, нелегко было выловить из бумажной кучи желанного Бориса Корнилова или «Трех медведей». С другой стороны, подвалы, особенно полуподвалы, считались в те годы вполне достойным помещением. В том же «Новом Быте» все «клетки» имели обширные, обеспеченные канализацией и центральным отоплением полуподвалы. С большими окнами, на три пятых выглядывающими из ямок, в которых остальные две пятых прятали от неаккуратных прохожих свои хрупкие стекла. Меньшая часть этих полуподвалов была предоставлена домоуправленческим службам, а в остальных были оборудованы дополнительные квартиры. Они так и обозначались – 51а, 63а, 63б… и, на мой детский взгляд, ничем не отличались от наших. Например, у моей ближайшей подруги Инки Васильченко в нашем подъезде, прямо под нами (мы жили на первом этаже; нет, это называлось «бельэтаж», полуподвал нас приподнимал, особенно со стороны улицы; сколько тонкостей придумал этот чёртов Григорьев!) были точно такие же две комнаты площадью 27 метров, и такие же соседи по общей кухне, в единственную комнату которых вёл такой же кривой коридор.
Тоже непременные особенности «Нового Быта» – кривые коридоры, пятиугольные комнаты (я определила – в виде утюга). Так реализовались внутри дома его внешние зигзаги. Когда тридцать пять лет спустя мой муж, архитектор, поселился у тёщи в «Новом Быте» в ожидании собственной квартиры, то не уставал восхищаться проектом Григорьева, его рациональностью, стопроцентным использованием площади, высоким уровнем (по тем временам) комфорта, замечательной инсоляцией и уникальным силуэтом.
Теперь оставим в покое полуподвальные квартиры, а также нижнюю, закрытую полку нашей этажерки. На второй, открытой, выстроились во всей красе взрослые книги. В два ряда. Сзади стояли большие – юбилейный однотомник Пушкина, Маяковский… Нет, всё вру, всё путаю… Пушкина издали к столетию со дня смерти в тридцать шестом году, осенью, а Маяковского аж в сороковом. Тогда их Юрий и купил, и пометил своим автографом. И вообще, этажерка была не трёх-, а четырёхэтажная. Взрослые книги занимали две полки. Ведь их было довольно много. Даже за вычетом однотомников Пушкина и Маяковского. Не помню, когда появились (я в них в детстве не заглядывала и поэтому в зрительной памяти дошкольницы они отсутствуют, хотя куплены явно до войны) два тома исторических пьес Шекспира из дореволюционного издательства Брокгауз-Ефрон (может, когда дядя учился на историческом факультете после армии?). Вот они создавали второй ряд на одной из «взрослых» полок с тоже рослыми томиками «Как закалялась сталь» Островского, «Бруски» Панферова, «Чапаев» Фурманова. А спустя какое-то время том за томом присоединился «Тихий Дон». На передних планах располагались книги пониже ростом. Во-первых, бабушкина «библия» (я имею в виду потрепанный дореволюционный томик Лермонтова, с которым она не расставалась всю жизнь). Довольно упитанный сборник рассказов и повестей Гоголя. А вот «Рождённые бурей» Юрий поставил перед «Как закалялась сталь» или рядом? А потом одна за другой стали появляться книги местных издательств: «Повесть о детстве» Штительмана, «Ковёр-самолёт» Кофанова, «Волшебная шкатулка» и «Гордиев узел» Василенко, «Академик Плющов» Закруткина. Эти уже, наверное, в тридцать девятом – сороковом. А когда я к «взрослым» книгам приобщилась? Взяла в руки? Услышала? Попробовала читать? Уверена, что – до войны. Потому что в её катастрофическую эпоху и даже в свою школьную жизнь я вступила с ощущением причастности к некоему особому миру, особому слову, особому духу, не до конца понятному, но притягательному, высокому. К литературе для взрослых. И я уже пыталась жить по правилам и понятиям этого мира. А мои близкие, сознательно или интуитивно, меня в него вовлекали. Ведь Пушкина мне читали с четырёх лет. Я не про сказки говорю… «Руслана и Людмилу»! И не один раз. Причем бабушка жаловалась своим подругам, что пыталась сократить шедевр «солнца нашей поэзии», пропуская отступления от сказочного сюжета, вроде всяких посланий Климене. Но я, как когда-то «вестки» в «Коньке-Горбунке» о свекрови и невестке, помнила про Климену и в каком месте Александр Сергеевич захотел с ней побеседовать. И была неумолима. А Юрий мне что-то из однотомника Маяковского читал. Хотя уже носил детские издания – «Кем быть?», «Что такое хорошо», «Что ни страница, то слон, то львица»… Но и эпизоды из главной книги Островского слышу его голосом мне преподнесённые: Павка у попа, инцидент с официантом… Остальное уже дочитывала сама во время войны. А вот «Волшебную шкатулку»?.. Сама лет в шесть читала? Или мне? «Ковёр-самолёт» – точно сама в первом классе. А Штительман? Это ведь был какой-то литературный взрыв в Ростове. Её читали в сотнях домов, восхищались, обсуждали. Может, у нас читали вслух для всей семьи? А когда же я над ней рыдала? А кто читал мне «Ночь перед Рождеством»?
Но ведь были ещё две экзотические книжки, которые неизвестно как оказались в библиотеке Юрия? Это «Мой дядя Бенжамен» Клода Тилье. Её точно читал мне дядя. Причём с педалированием отдельных отрывков, фраз. С объяснением – насколько и почему это смешно, А может, это он не мне читал, а нашим женщинам, просвещая их, а я оказалась рядом, «заодно». Потому что во время нашего военного отсутствия роман Тилье исчез, я его никогда больше не встречала, содержания не помнила, но точно знала, что книга – смешная. Почему – поняла только в шестидесятые годы, посмотрев фильм Данелия «Не горюй!», сценарий которого – ремейк «Моего дяди Бенжамена». Но вот запало же в те годы название, имя автора, какая-то аура. А с каких-то пор, недавних, появилась мечта – все-таки прочесть. Возникла книга, попала в руки, в дом, насовсем… На французском языке… Но тем интереснее. Тем более никто в спину не дышит… А я по-французски со словарем читаю…
Но вот вторую необычную книгу, приобретённую Юрием явно в букинистическом… Или кем-то подаренную… Или что? Но им сначала похваленную. Потом читаемую им пятилетней мне. По одной вещи на выбор. Потом ещё… ещё… Уже я сама…. Потом много, почти все сказки – шести-семилетняя… Потом в девять-десять лет – от сказок к рассказам… К романам (повестям?) … Потом к пьесам… По первому, второму, десятому разу. До знания наизусть. До чтения на шефских концертах в госпиталях. До ранее неиспытанного наслаждения послесловием Чуковского.
Речь идет о сильно потёртом первом томе из собрания сочинений Оскара Уайльда, дореволюционного издательства Маркса. С этим издательством, вернее с его продукцией, я потом познакомлюсь очень близко и проникнусь почтением и благодарностью. Но за Оскара Уайльда – отдельный и низкий поклон. Не знаю, кому ниже – Марксу или Юрику? В который раз задумываюсь: откуда взял его дядя? Все-таки заглядывал в букинистический? Судя по Шекспиру от Брокгауза-Ефрона – да. Но к этим томам могла потянуться рука студента-историка. А чем его привлек Уайльд? Насколько я помню, не очень часто, но о литературе в нашей семье говорили. Бабушка – о Лермонтове всегда с экзальтацией, всегда с придыханием, с постоянным цитированием, особенно «Мцыри». С большим уважением – о Чехове. С живым интересом – о Горьком. Почему-то с ненавистью – о Леониде Андрееве. В круг представлений мамы, получившей наиболее полное, систематическое среднее образование (в Батумской школе, бывшей гимназии Арнольди) входили все положенные звёзды российской и мировой словесности, с упором на Грибоедова, Пушкина, Гоголя, Тургенева, Толстого и, может быть, Диккенса?…Бальзака?.. А может, и нет… У Юрия все крутилось вокруг Маяковского, Островского, Шолохова. Для совместных обсуждений им подходил разве что Эренбург. Но это значительно позже, во время и после войны… Но вот уж Оскар Уайльд в нашей среднеарифметической семье служащих никогда никаких разборок и даже просто упоминаний не заслужил. Читали мне его вперемежку не только с Андерсеном и «Цветиком-семицветиком» Катаева, но и с «Гуттаперчевым мальчиком» Григоровича и «Агитмедведем особого отряда» Кассиля. Нет, всё-таки дядя как-то эту книгу, эти сказки выделял. И с момента её появления в доме, прибегал чаще, чем к другим, и с каким-то нажимом… Может, это очередная ложная память?.. А не была ли эта книга ему подарена специально для меня только что реабилитированным после «ежовщины» бабушкиным братом, дедушкой Мишей, который несколько месяцев жил у нас? Такой автор, такой дух, стиль вполне ему соответствовали… Вот очередной повод для фантазий и размышлений, который дает книга.
Но дело не в этом. А в том, какую роль в моем духовном, умственном развитии сыграл «великий эстет» (так назывался очерк Корнея Чуковского).
Пусть мне нравились все разновкусные потоки, обрушившейся на меня литературы: и Маршак, и Маяковский, и «Дюймовочка», и «Мальчик-с-пальчик», и «Голубой карбункул» Конан-Дойла, и «Честное слово» Пантелеева. Но мир Оскара Уайльда был совершенно особым. Сегодня я бы назвала эту особость «изысканностью». Тогда я этого слова не знала. Но определенно чувствовала, что его волшебство отличается от простодушного, домашнего очарования сказок Андерсена, парадоксальность его детективов – от железной логики Конан-Дойла, ирония «Кентервильского привидения» – от абсолютной серьезности ужастиков Эдгара По. Это, конечно, уже попозже, в первые школьные годы. Или всё-таки до войны? Но важно, что, соприкоснувшись с Уайльдом, я догадалась о существовании литературной иерархии, о делении книг не только по длине текстов, не только по их сложности, занимательности (это я уже знала: «скучно», «а что дальше?»), но и по стилю, манере творчества, особому взгляду на мир. И в этом смысле Оскар Уайльд опережал всех своей яркой, пряной индивидуальностью. Я это почувствовала сразу и в «Счастливом принце», и в «Преданном друге», но особенно в «Соловье и розе» и в «Дне рождения инфанты». Именно их я перечитывала до полного, буквального запоминания. Сначала для себя лично. А только потом, в сложившейся ситуации для публики.
Но про мои взаимоотношения с отдельными авторами, отдельными книгами речь ещё впереди. Сейчас брошу последний взгляд в нашу новобытовскую столовую. Этажерку мы уже рассмотрели. На четвертой, верхней, огороженной низеньким барьерчиком полке почти пусто: небольшое прямоугольное зеркало, пудреница, духи (или одеколон?), расчёска. За зеркалом укрыта какая-то жестяная коробка, в ней исписанные бумажки с печатями. Квитанции? Больше, кажется, ничего нет. Нет, баночка с наклейкой, наполненная белой массой. С наклейки улыбается румяная женщина. Надпись «Весна». Позже, когда могла её прочесть, уже знала, что это мамин крем от веснушек.
Кроме этажерки в комнате – кухонный шкафчик, бабушкин любимец. На почётном месте, покрытый до скрипа накрахмаленной вышитой скатертью. На нём торжественно возвышается кувшин из коричневой глины (керамика?) с кипяченой водой. В центре – большой, квадратный, под клеенкой, обеденный стол. В углу – сложенная вертикальным образом, парусиновая на деревянных козлах койка Юрия. В тридцать восьмом году, когда маме вернули не ею плаченный кооперативный пай («Новый Быт» перешел в собственность государства), на эти «бешеные» деньги был куплен чёрный клеёнчатый диван, шифоньер для «спальни» и настоящий «дубовый» книжный шкаф. После чего кухонный шкафчик отправили в кухню, скатерть и кувшин переместили на обеденный стол, Юре застилали на ночь диван, а книги упрятали в шкаф, который высился в лучшем простенке, как важная персона. Боюсь, что в нём детские книги становились малодоступными. Но ведь этажерка-то сохранилась. Просто переехала во вторую комнату, в которой спали бабушка, мама и я. Где был устроен мой игрушечный уголок. Вот, скорее всего, туда перекочевала увеличившаяся детская библиотека, получив в свое распоряжение все три этажа.
Наверное, к этому времени относится всплывшая сценка. Юрик в голубой майке без рукавов. Крепкие плечи, волнистые тёмные волосы, загорелая шея – влажные после умывания. Он кое-как промокает брызги носовым платком и, невзирая на ворчание бабушки, усаживает меня на диван, вытаскивает из своей папки книжку, яркую, на каждой странице – картинка. На картинке – диковинный зверь.
– «Что ни страница, то слон, то львица», – провозглашает Юрик. Дядя купил подарок вчера, но пришел, когда я уже спала. И вот торопится обрадовать, приобщить… Глаза блестят, он весь светится. И я уже заряжена его азартом. Отказываюсь умываться и завтракать, предвкушая прекрасный выходной с Юрием и книгой…
Но это выходной… А как складываются мои будни?
Нет… ещё одно отступление… Не картинка, не сценка. Мысль (ха-ха-ха!). На мудрость не претендует, но предназначение имеет. Я же собираюсь рассказать, как приобрела свою главную профессию – читателя. Так вот, посыпавшиеся из памяти подробности семейной хроники свидетельствуют – овладеть этой специальностью в совершенстве можно, только освоив… нет… развив в себе… навыки… инстинкты… Не знаю, как сказать… Это, как хорошим архитектором можно стать, только если обучишься всем строительным специальностям, разовьёшь художественный вкус, натренируешь глаз и руку в рисунке, приобретёшь инженерное мышление. Таким архитектором был мой муж.
А настоящему читателю, его ещё называют библиофилом, но не будем становиться на котурны, обязательно требуется наличие двух инстинктов – охотника и собирателя. Кстати, эти свойства натуры порой превращаются в настоящие профессии. А могут оставаться на уровне хобби. Но любителю чтения они необходимы. И мне эти навыки?.. страсти?.. прививали. Сейчас расскажу как…
Хроника нашей новобытовской жизни совершенно однообразна. В шесть утра подает голос черная бумажная тарелка репродуктора. Она у нас не выключается. Не уверена, с чего до войны начинались передачи, – с позывных «Широка страна моя родная» или сразу с «Интернационала»? И тут же встает бабушка. Готовит или разогревает завтрак, будит маму и Юрия (или они поднимаются сами?), кормит их и провожает на работу. Потом принимается за меня. Как положено – умывание, еда (с некоторыми моими капризами), одевание по погоде (предварительно бабушка убирает со стола и моет посуду). И вот мы выходим из дома в длительное путешествие…
Подчеркиваю – в длительное. Предстоит поход по магазинам. И хотя мы живём в самом центре и вышли в десять утра, но раньше полпервого возвращаться не собираемся. Вот теперь хочу определить, вспомнить, куда мы заходим в первую очередь? Все-таки в продуктовый… Хотя по маршруту он был вторым. Но последовательность определялась не топографией, а чем-то другим, каким-то внутренним смыслом. Эта покупка макарон или сахара, была чем-то второстепенным, попутным, механическим, как ежедневное умывание, от которого надо спустив рукава (в смысле закатав) поскорей избавиться и приступить к главному делу.
Впрочем, и в бакалейном этом магазине были интересные штуки… Пока бабушка стояла в очереди, попеременно: к прилавку, в кассу, к прилавку – я в который раз рассматривала две громадные фарфоровые вазы в центре магазина: одна была расписана драконами, другая – невиданными цветами. Назывались вазы «китайскими». Может, и были? И магазин именовали в их честь? Бабушка вечером, выставляя на стол сушки, сообщала маме: «В „китайском“ сегодня давали». Вот когда уже звучало это чисто совковое слово.
Но вот сушки или гречка куплены, кульки спущены в бабушкину сумку («кошёлку» тогда говорили), мы выходим из бакалейного и возвращаемся на сто метров назад. Отворяем большую застеклённую дверь. Её нарядность увеличивается в моем сознании тем, что она находится точно на скрещении двух знаковых улиц Ростова: главной, имени Энгельса (знаменитая Садовая из песни) и осевого проспекта – Ворошиловского, который бабушка упорно называет Большим. И он действительно был самым большим, распахнутым, звенящим, шуршащим всеми видами транспорта. Разве что Будённовский, бывший Таганрогский, мог с ним поспорить. Но того я до войны, кажется, не видела.
Тяжелая двустворчатая дверь открывается медленно, но закрывается за нами ещё медленней. Может быть, не закрывается полностью вообще. Или это опять моё ложное впечатление, что дверь углового магазина приоткрыта всегда… Приглашает… Заманивает…
И мы входим в КОГИЗ. Что это слово обозначает? А-а-а, вот расшифровка в интернете: «Книготорговое объединении государственных издательств». Язык сломаешь. А вот аббревиатура запомнилась сразу. В раннем детстве. И до сих пор рождает приятные ассоциации. Поэтому радуюсь случаю им воспользоваться. Скажешь «КОГИЗ» – и мгновенно возникают широкие застеклённые прилавки, внутри которых выложены только что полученные, нарядные книги. За прилавками – красивые, да-да, красивые, потому приветливые, внимательные женщины-продавцы. А за их спинами – полки. Опять книги! Эти колонны держатся скромно, тесно прижавшись переплёт к переплёту… Впрочем, и тут бывают исключения: какую-нибудь важную особу вдруг развернули к покупателям лицом, чтоб обратили мы внимание на обложку с картинкой или на завлекательное название. Вот именно так: в таком месте, в такой обстановке, в таких деталях начиналось каждое утро в моем новобытовском детстве.
В действительности – не каждое. Были обстоятельства, когда мы вообще не выходили: плохая погода, состояние здоровья. А если мы с бабушкой собирались в кино (в «Хронику» примерно раз в пять дней, в «Юнгштурм» – пореже, но ни «Чапаева», ни роммовскую «Лениниану», ни «Юность поэта», ни «Волгу-Волгу», ни «Кукарачу» не пропустили), то посещение КОГИЗа отменялось. Однако, хотя кино высоко ставилось в наших с бабушкой ценностях и его посещение всегда имело привкус праздничности, визит в КОГИЗ – это совсем другое. Это то, в чём испытываешь постоянную потребность, без чего жить нельзя. Совпадали такие ощущения у меня с бабушкой изначально? Конечно, нет. Мои дошкольные мысли были коротенькими и пустяковыми, скорее всего их вообще не было. Это только сегодня я высматриваю и определяю бабушкины предпочтения. Но все строительство наших будней с их дотошным повторением, мнимой непоследовательностью, разнообразным однообразием создавали сначала привычку, а потом и предвкушение события, уверенность в том, что оно состоится. Я имею в виду КОГИЗ, потому что вместо бакалеи мы могли отправиться в гастроном «Три поросенка», а после сорокового года – в «Маслопром» или вообще обойтись без пищевых покупок. Книжный же был неизбежен. Плюс обилие тамошних впечатлений. Так и образовалось формально ложное, но фактически истинное воспоминание, что мой день в детстве начинался встречей с книгами. Как же она протекала?
Прежде всего, мы разглядываем: что выложено на прилавке под стеклом. Загораемся, я – увидев яркую обложку, бабушка – прочитав новое название. Или наоборот – знакомое, но ещё мне не читанное. А то продавщица, для которой мы уже свои люди, достаёт нам что-то с книжных полок. Я помню если не сотни, то многие десятки книжек, которые мне в те годы купили. И которые не купили, пропустили, опоздали. И потом их приходилось искать для прочтения у знакомых. Или пересказывать своими словами, как пересказывала мне мама «Снежную королеву», которую удачливая сослуживица предоставила ей в обеденный перерыв.
Это действительно было время бума детской литературы? Или это моя фантазия? Или это результат нашего ежедневства? Но уже через год мой «подвал» в этажерке был забит отлично иллюстрированными стихами Чуковского, Маршака, Михалкова, Барто. Тут и «Человек рассеянный», и «Сказка о глупом мышонке», «Бармалей», «Путаница», «Доктор Айболит», «Игрушки», «Дядя Степа». А через два-три года – толстенькие, в переплёте, – их же «Избранное». Однако любая из этих покупок – момент удачи. Непременным же, каждодневным событием было приобретение книжечки из специальной детской серии, которые вылетали из типографий, как конфетти из ёлочных хлопушек: много, непрерывно, а главное, баснословно дёшево, доступно любому, самому скромному карману (копеек пять-десять) и удивительно разнообразно по жанру, по стилю, по содержанию. Просто гвозди от всех стен: из дворцов, из хижин и даже из юрт и чумов (если в них пользуются гвоздями). Вот вам навскидку несколько названий из самой массовой серии «Книга за книгой» (тоненькая тетрадочка в двадцать-тридцать страниц, рассказ или крошечная повесть для детей от семи до десяти лет). Вспоминаю из тех, что поселились в нашей квартире: «Ванька» и «Каштанка» Чехова, «Гуттаперчевый мальчик» Григоровича, «Тёма и Жучка» Гарина-Михайловского, «Белый пудель» Куприна, «Дед Архип и Лёнька» Горького. Сплошные русские классики о жизни детей в проклятом прошлом. «Тёма и Жучка», впрочем, скорее психологический этюд, чем социальный. Зато сугубо пролетарскими настроениями проникнут отрывок из другой книги, из «Рождённых бурей»; под названием «Гудок». «Книга за книгой» опубликовала историю с Андреем Птахой и его братишкой. Эпизодам гражданской войны посвящён «Агитмедведь особого отряда» Кассиля. Но и зарубежные авторы не были забыты. Через эту серию я познакомилась с Гюго – конечно, «Гаврош» и «Козетта», с Джеком Лондоном – «Рыжий волк». И, между прочим, с прекрасными авторами, которые только тогда у нас и промелькнули: «Нелло и Патраш» Уйды и две главы из повести «Сердце» Эдмондо де Амичиса. Обе эти книжки так затронули мои чувства, что я запомнила не только содержание рассказов и их названия, но и фамилии авторов. И потом уже подросшей и даже взрослой библиофилкой искала и сведения о писателях, и их книги. Об Эдмондо де Амичисе узнала довольно много. Может быть, благодаря тому, что его повесть «Учительница для взрослых» послужила сначала основой для киносценария Маяковского и либретто к балету «Барышня и хулиган», а потом канвой фильма «Весна на Заречной улице». Но и «Сердце» в конце концов у нас перевели и издали полностью. Дважды. В первый раз – в 58-м году в Москве. В оттепель я ее отхватила для детей, которых пока не было (даже мужа не намечалось), но я уже куда-то слала бланки-заказы «Книга почтой». Во второй раз, выпасая внуков в 93-м, я налетела на «Сердце», изданное в Ленинграде, в магазине, комплектующем библиотеки. И купила не то 10, не то 15 экземпляров, чуть ли не на четверть семейного бюджета. И оделила не только всех внуков собственных, но дружественных, чем горжусь и поныне. А вот Уйда так и осталась в моем представлении автором единственной книжечки из вышеупомянутой серии. Правда, появлялась она в моей жизни трижды. Первый раз году в тридцать седьмом. Читала мне её бабушка. Погружаясь в трогательную историю дружбу мальчика и собаки, мы обе испытали много добрых и грустных чувств. Кто сказал, что сентиментальность – это плохо? Это, прежде всего, необходимо, чтобы душа, сердце учились чувствовать (не зря же во французском эти слова однозвучны). У дошкольника весь организм активно растёт, формируется: скелет, мозг, мышцы, зубы… Поэтому как раз такая повышенная, открытая, откровенная чувствительность, если её вовремя пролить на детскую душу в достаточном количестве, подействует благотворно. И не бойтесь переборщить. Не опасайтесь передозы. Излишки сентиментальности быстро отожмёт, оторвёт прессом повседневности. Потом всю жизнь будешь в себе раскапывать её крохи…
Так что чувствительный рассказ Уйды пришёлся весьма кстати. Впрочем, ведь и «Гуттаперчевый мальчик», и «Янко-музыкант» Сенкевича, те же «Ванька», «Дед Архип и Лёнька» – все они взяты из того кармана писательской души, в котором хранятся сантименты.
Второй раз Уйда попалась мне в руки тоже в тридцатые, но уже с двумя рассказами. Под одной обложкой с историей о Нелло и Патраше соединили новеллу о маленькой дочери итальянского революционера. В ней акцент падал уже на такие качества юной героини, как верность, мужество. И тоже всё достаточно романтизировано, педалировано, чтоб доходило до моего возраста. Так вот – выбор этого автора я считаю большой заслугой составителей серии «Книга за книгой». Потому что имя Уйды не только в моей памяти удержалось, но декларировалось мною уже во взрослые годы, как образец детской литературы. Я взахлеб рассказывала об этой книжечке молодым вроде меня, а потом – уже моложе меня – мамам; пыталась пересказать истории (особенно «Нелло и Патраш») своим и чужим детям. Но по-прежнему ничего не знала о писательнице и не знала, где взять книжку. И вдруг, чуть ли не в девяностые годы – кто? почему? – издал эти два рассказа. И вроде бы в той же серии «Книга за книгой». Она ещё существовала? Или я просто ухватила на развале довоенное издание? И была счастлива! И читала рассказы Уйды уже внукам. Но когда подросли правнуки (первый родился в 2008 году, значит, к 2013-му) книжка из моего дома опять исчезла и, кажется, безвозвратно. Хотя есть у меня один хитрый план её возрождения. Попробую. Но интересно другое. Буквально на днях, из того самого охаянного, отброшенного мной интернета, заказав в нём справку, я получила исчерпывающие сведения о таинственной незнакомке моего детства – Уйде. Оказалось, что это – очень плодовитая и, наверное, в своё время известная писательница. Уйда – не странная фамилия, а псевдоним Марии Луизы де ла Раме, образованный из ее детской клички, когда ей не удавалось выговорить свое имя (Луиза – Уиза – Уида – Уйда). Родилась Уйда в 1839 году в Англии (отец – француз, мать – англичанка). Жила преимущественно в Лондоне, последние годы – в Италии, где и скончалась в 1908 году. Написала более сорока (!) авантюрно-сентиментальных романов, которые автор справки характеризует так: «С точки зрения чисто литературной критики и по соображениям морали и вкуса романы Уйды могут быть осуждены». Смысл реплики мне не совсем понятен. Насчет погрешностей вкуса – я могу сделать предположения. А мораль каким образом нарушена? Излишняя фривольность, натурализм? Не похоже, не вяжется с другими фактами биографии писательницы. Во-первых, Уйда была активисткой борьбы за права животных (ей даже памятник во Флоренции поставили с акцентом на этот момент её жизни). Во-вторых, кроме романов был у Уйды ещё более любимый жанр – литература для детей. Она регулярно писала для них рассказы, выпуская сборник за сборником. Кроме того, оценка творчества Уйды, опубликованная в интернете, противоречит реплике Джека Лондона, который в интервью заявил, что одним из важнейших факторов, подтолкнувших его к писательству, стал роман Уйды «Signa», прочитанный им в восемь лет. Впрочем, в конце своей рецензии автор одобрительно отозвался о романах «Мотыльки» и «Под двумя флагами».
Вот, пожалуй, и всё, что я извлекла из интернета. Но и это уже достижение! О скромном месте Уйды в мировой литературе я догадывалась. Ведь кого только не вытащили из небытия сегодняшние издатели, а вот Марию Луизу де ла Раме обошли. Зато в моей жизни она свой след оставила. Пусть не такой, как в жизни Джека Лондона (в эту сторону меня увлекли другие авторы). Но в формировании моего внутреннего мира… И опять поклон в сторону создателей серии «Книга за книгой». Какой инстинкт или удивительное знание необъятного поля мировой литературы помогли им вырвать из громадного объема книг Уйды этот крошечный шедевр. Впрочем, жемчужное зерно так или иначе отыскивается. И даже не одной персоной, а многими. К истории о дружбе мальчика и собаки не только сама Уйда обращалась несколько раз, меняя жанр, увеличивая объём, но и киносценаристы, и японские аниматоры. В интернете это парой строк упомянуто. И название ремейков – «Собачье сердце», «Фландрийский пёс». И какие-то комбинации имён главных героев.
Но я возвращаюсь к неоконченной фразе: «В формировании моего внутреннего мира… роль Уйды неоценима». А сегодня она ещё даёт повод вернуться к разговору об интернете. Вот его истинное место в мировой культуре: безотказный, сверхэнциклопедический справочник; словарь, объясняющий значение всех – старинных и суперновых – слов и выражений; корректор, выправляющий все ошибки. Однако ни тот, что занимал когда-то целую стену, ни тот, что помещается сейчас на столе, на колене, на ладони, не мог и не может породить столько чувств в прошлом, столько воспоминаний в настоящем, столько черт в моей личности, сколько вызвала к жизни эта крошечная книжечка «Нелло и Патраш».
Теперь вернёмся в тридцатые, новобытовские годы, в КОГИЗ, и пороемся с бабушкой в ещё более пёстрой и почти ежедневно пополняемой серии книжек для малышей. Действительно, для самых маленьких. Это и названием серии подчеркивается «Книжки-малышки», и фактическим размером – с мою ладонь, и яркостью обложек, обилием иллюстраций – на половине страниц. А остальные страницы – всегда рифмованные. Поэтому они прочитываются залпом, запоминаются сходу, целыми книжками. И такими смешными, звонкими, как про котяток, которые потеряли перчатки (перевод с английского Маршака), и такими серьёзными, требовательными, как михалковские «Жили три друга-товарища в маленьком городе N» – про гражданскую войну в Испании. Мы до сих пор выясняем с подругой, кому правильно подсказывает память – мне («Не о чем нам разговаривать», – так он фашистам сказал») или ей («Не о чем нам разговаривать», – он перед смертью сказал»). Я думаю, мы обе правы. Скорее всего, Михалков сам менял текст, в зависимости от времени публикации – до подписания акта Молотова – Риббентропа или после. Ещё помнится, я всегда радовалась появлению в КОГИЗе книжек про зверушек. Животных я любила. Хотя вблизи с ними не сталкивалась, но зато в книжках! Котята, которые теряли перчатки, сорок четыре веселых чижа, белый пудель, лев и собачка, их нежная любовь, глупый мышонок и его ещё более несообразительная мать – это всё был мир, внушающий доверие и нуждающийся в моем покровительстве. Хотя уже приходили со страниц книжек животные, у которых можно было чему-то поучиться, над чем-то подумать. Например, Рваное Ушко и его мама-крольчиха Молли. А тем более – Королевская Аналостанка. Это Сетон-Томпсон мне о них рассказал. А ещё были милые, со славными картинками, зарисовки о зверятах Чарушина и Бианки, типа «Никита и его друзья». И замечательный «Воробьишко» Горького. Но удивительно другое. Эти простенькие истории знакомили меня с окружающим миром, развивали добрые чувства, но и обогащали мою лексику. Ну, не в четыре года, конечно, но уже лет в шесть, когда я хотела остроумно и кратко объяснить собеседнику, что инцидент обошелся малой кровью, то говорила, что «все окончилось благополучно, если не считать, что мама осталась без хвоста». Этим афоризмом любимого моего Алексея Максимовича я до сих пор пользуюсь.
Но ведь и другое важно: вот это рассматривание, перелистывание страниц, прикасание, ощупывание, откладывание… И наконец – выбор, решение, покупка – одной или даже двух из предложенного десятка. Это ведь тоже формирование личности, её потребностей, интересов. Мне кажется, что у четырех-пятилетнего ребенка, который ежедневно приходит в книжный магазин, чтобы выбрать и купить книжку, и у ребёнка, который два-три раза в неделю ходит с мамой в бутик или косметический салон (даже если в ожидании, пока маман освободится, он разглядывает глянцевые журналы), вырабатывается разное представление о жизненных ценностях.
Но вот наконец-то мы (или все-таки решала бабушка?) сделали выбор. Покупка оплачена. С пустыми руками из КОГИЗа мы не уходили ни разу. И если новую книжку несли в бабушкиной сумке, то предвкушение удовольствия, которое так украшает жизнь человека, разгоралось в моем сердце? душе? Не важно, в каком вместилище горит это чувство, но именно оно делает нас счастливыми. А я испытывала его ежедневно благодаря посещению КОГИЗа. Как ощущала там всегда и необходимый хорошему читателю инстинкт охотника. На книгу?.. За книгой?.. Но была ещё одна особенность в моей читательской биографии. Все эти навыки, чувства, инстинкты во мне развивались, формировались одновременно, параллельно с овладением азбукой.
Да, да… Как раз в эти первые новобытовские не дни, конечно, но если не недели, то месяцы – точно, ещё в неустаканенной обстановке, в нехватке необходимых вещей, с окнами без занавесок (бабушка их делала сама из марли, мережила и туго крахмалила), с раскладушкой Юрия, торчащей в углу вверх козлами, мы с ним выкладываем на стол листы картона, и дядя режет их на хорошенькие квадратики, а бабушка подсовывает нам какую-то коробочку для их хранения. Но я категорически против. Я рассыпаю эту массу по всему столу, все тридцать три картинки (это сегодня я знаю, что их тридцать три). И любуюсь аппетитно нарезанным арбузом, четырехцветным мячиком, широкополой шляпой, встопорщенным ёжиком. А Юрик приговаривает, в зависимости от того, какую картинку я схватила: «Мячик – ммм, ель – е, а ёжик – ё; видишь – две точки…» А уже несколько дней спустя я вижу себя складывающей два мяча и два арбуза в коротенькую строчку (значит, листов картона было несколько, а квадратиков больше, чем тридцать три; или рисунки помещались и на обратной стороне). Поглядывая искоса на сидящую рядом бабушку (так? правильно?), я тяну:
– Ммма-ммма – мама!
Сколько длились эти забавы (я их воспринимала, как игры, развлечения, а не учёбу, не труд)? Но, по-моему, уже через месяц я читала по складам «Игрушки» Агнии Барто:
– И-дёт бы-чок ка-ча-ет-ся; у-ро-ни-ли миш-ку на-пол; сспит сспо-кой-но сста-рый-сслон…
А потом и «Азбуку» Льва Толстого (особенно назойливо мне втемяшивали историю про съеденную без разрешения сливу). Бабушка всё приговаривала:
– Запомни, нет ничего тайного, что не стало бы явным.
Тексты все усложнялись, новые возникали чуть не каждый день. Простенькие книжки я уже читала в гордом одиночестве, без бабушкиного или дядиного (реже – маминого) участия. И, наконец, такие длинные, как «Сказка о глупом мышонке». И уже в КОГИЗе могла выбрать покупку не по картинке, а прочитав название или несколько строчек текста. Лучше всего – рифмованного. А через полгода (год?) дошло до того, что в нашем домашнем театре под названием «Чтение» амплуа полностью переменились.
Когда театр открылся, в нем участвовал «главный режиссер» – кто-то из взрослых – и начинающий, спотыкающийся актер – я. Время прошло, но хотя число персонажей осталось тем же, я превратилась в приму, солистку, звезду, которая ни в партнёрах, ни в суфлерах, ни даже в режиссёрах не нуждалась. Я довольно бойко, без запинки, почти выразительно читала вслух любые стихи Чуковского, Маршака, Михалкова, недлинные прозаические тексты, вроде «Тёмы и Жучки», купринского «Слона» (нет, в этом рассказе есть некоторые длинноты, отвлечённые рассуждения, вряд ли он подходил для триумфа). Впрочем, успех был мне в любой ситуации обеспечен. Ведь вторая роль при новом раскладе была «зритель». Вернее «слушатель». Исполняла её сплошь и рядом бабушка. Причём слушателем она была не только доброжелательным, но и кровно заинтересованным. От наших «спектаклей» она получала сплошное удовольствие. Сценарий разыгрывался такой: бабушка в столовой занималась неотложными хозяйственными делами: вытирала пыль, перебирала гречневую крупу, нарезала лапшу, лепила пельмени. А я, забравшись с ногами на кушетку (уже купили Юрию вместо раскладушки, время дивана ещё впереди), читала вслух новую книжку. Содержание которой бабушке, как и мне, было неизвестно и поэтому не менее интересно. Которую мы с ней сегодня утром, ну в крайнем случае вчера, купили в КОГИЗе… Я к чему в десятый раз возвращаюсь? Что новобытовский период был важнейшим, главнейшим, когда происходило превращение меня из гомо сапиенс в представителя особого этноса, называемого «читатель».
К термину «этнос» я ещё вернусь и постараюсь расшифровать его более полно и точно. Сейчас – о некоторых особенностях, которыми отличается «профессиональный читатель» от остального человечества, от других… классов, типов, содружеств. В частности – от потребителей интернета. Но зато объединяется с профессионалами из мира искусств: художниками, скульпторами, архитекторами.
Последние погружены в свою профессию не только за счёт образования. Их влечёт к творчеству особый психологический, физиологический склад (то, что называется призванием). Художника волнует, возбуждает запах краски, разнообразие палитры, удачное освещение. Скульптора – податливость или сопротивление материала, уникальность модели. Архитектора – ландшафт вокруг будущего здания. Со всем этим люди творческих профессий вступают в контакт силой всех пяти чувств. То же самое происходит у читателя.
В таком раннем возрасте я была подключена к книгам, к чтению всеми чувствами. Невиданно расширился зрительский кругозор. Если раньше он включал пять-десять книг, которые я видела в нашем доме, то теперь их количество увеличилось в несколько раз. Но главное – эти походы с бабушкой в КОГИЗ, которые открыли мне всю громадность, неисчерпаемость книжного мира (а ведь через некоторое время мы освоили и другие источники чтения). Кроме того, переварить эти зрительные впечатления, оформить в понятия, внедрить их в сознание помогали и чисто тактильные ощущения.
Если я до сих пор помню тяжесть «Конька-Горбунка», передаваемого дяде, невесомое шелестение страниц книжонки про «очаг», щелканье картонной обложки «Приключения Макарки», ветерок, когда журнал «Еж» выскакивает из-за пазухи Юрия, то сколько ощущений испытала я, когда, снятые с полок или вынутые из-под стекла прилавка, попадали к нам с бабушкой одна за другой вновь поступившие книги. И вот они высятся целой стопкой. И мы их рассматриваем снаружи, листаем, бабушка что-то резюмирует, откладывает. Я тоже обязательно норовлю не только заглянуть, но и потрогать… И, наконец, получаю в полное владение… Но и тут радость разная: одно дело – книжка-малышка или даже «Козетта» и совсем другое – увесистые, рыжего (золотого!) цвета «Приключения Буратино». От большой, толстой книжки и впечатлений ожидаешь больше, а главное – необычнее. Тем более разгорается любопытство, подстёгивает нетерпение: скорей, скорей домой, узнать про что там, про кого?
А бабушке, видите ли, приспичило зайти в «Маслопром», да ещё стать в очередь за сыром… А я (даже картинку эту представляю в деталях) присела в углу магазина возле стойки с сифонами молочных коктейлей (а не путаю я насчет коктейлей с шестидесятым годом? Но был же какой-то тихий закуток? Окошечко администратора?). Главное – я сижу на корточках и жадно перелистываю только что купленный «Золотой ключик». Какой-то дядька схватил за нос какую-то странную фигурку… Птичку, наверное… Скорей бы узнать – в чём дело?.. И действительно, уже в этот же день прочитала мне бабушка вступительное слово Алексея Толстого… И про ссору папы Карло и Джузеппе… И описание знаменитой каморки. А странное существо оказалось деревянным мальчиком с длинным носом. В дальнейшем книгу читали вслух все члены нашего семейства, включая меня. Всех она увлекала. Взрослые, пропустившие какие-то куски, спешили подравняться вечером (а может, и ночью, которая у меня начиналась в двадцать ноль-ноль). За две недели мы с «Золотым ключиком» управились, но обсуждали долго, перечитывали отдельные главы, пользовались цитатами («пациент скорее мертв, чем жив», «страна дураков», «девочка с голубыми волосами» – про какую-то красивую знакомую). А ещё помню, как в гостях у Гольдштейнов (о них позже) мама расхваливает «Приключения Буратино» и предлагает взять у нас почитать.
Между прочим, раз я рассматривала книжку в «Маслопроме», значит наступил сороковой – год его открытия. И я уже свободно читала. И наши с бабушкой книжные набеги выглядели несколько по-другому. «Книжками-малышками» и «Книга за книгой» мы уже явно не интересовались – разве что-нибудь экстраординарное… Однако, кроме покупки «Золотого ключика», я не представляю момента приобретения «Детства Никиты», «Детства Тёмы», «Доктора Айболита» (по Гью Лофтингу), «Путешествие Нильса с дикими гусями», А между тем все эти книжки уже в нашем доме были. И на моей этажерке стояли. Уже прочитанные. С этим задержки не случалось. Приступали в тот же день. Может, такие классические бренды, как «Детство Тёмы» или сенсационную новинку, сотворенную Чуковским из Гью Лофтинга, покупали в свое время, в своем месте мама или Юрий? Из маминых рук я получила как раз несколько таких ярких, знаковых книг.
Приехав в тридцать восьмом в Хреновое (село под Воронежем, где мы с бабушкой проводили лето), мама привезла большую, нарядную книгу стихов Квитко «В гости». И мы с фланелевым одеялом отправились в лес, почитать в тени сосен «про Кисаньку – про милую мою», про бабку Мирл, «про таких птиц, с такими носами». И, конечно, повесть Белы Балаша «Генрих начинает борьбу», которую мы читали с ней по очереди (пять страниц – она, одну – я) по воскресеньям чуть не месяц, тоже купила мама. И, по-моему, громадный сборник сказок Андерсена. Ещё такие же нарядные, большие, но потоньше «Калмыцкие сказки» и «Черногорские сказки». Андерсен был вне всякой конкуренции, особенно «Дикие лебеди». Но в «Черногорских» мне очень нравились истории про виллис.
Юрий же, отслужив армию (не совсем удачно), отболев, поступив на истфак, продолжал пополнять теперь главным образом свою библиотеку. Его интересовали местные авторы, о которых, вероятно, шли разговоры в пединституте. И «Повесть о детстве» Штительмана, и «Ковёр-самолёт» Кофанова, и «Академик Плющов» Закруткина, и «Волшебная шкатулка» Василенко, конечно, были куплены им. Но они уже и мне оказались интересны и доступны. Особенно «Повесть о детстве» и «Волшебная шкатулка». О! И «Первый ученик» Яковлева. Но и «Ковёр-самолёт», и «Академик Плющов» были прочитаны с некоторой растяжкой, зато в совершенном одиночестве, для себя, «про себя», для собственного… чего? Слово «удовольствие» не подходит. Интереса? Познания мира? Человеческих отношений (между мачехой и пасынком)? Мировой истории (раскопки Трои)? Впрочем, всё равно дядя и о моей персоне не забывал. Книжка детгизовская «О Пете, толстом ребёнке, и о Симе, который тонкий» Маяковского была куплена специально для меня. Тогда же, кажется, обратил он мое внимание в томике Оскара Уайльда на «Кентервильское привидение» и «Преступление лорда Артура Сэвила».
И всё-таки я неправильно резюмировала, что наши с бабушкой визиты в книжный перестали быть регулярными. Просто возросшие с течением времени и с моим развитием наши претензии все трудней было удовлетворять. На каждодневные покупки издательской мощи не хватило. Правда, через некоторое время продавцы стали предлагать нам вместо отвергнутых малышковых серий тоже интересный выпуск под грифом «Рассказы зарубежный писателей». Вот это как раз были идеальные тексты для описанной мною схемы: бабушка выполняет мелкие хозяйственные обязанности, а я читаю «Голубой карбункул» Конан-Дойла, «Маленького старателя» Брета Гарта, «Историю дяди торгового агента» Диккенса, «Ванину Ванини» Стендаля. И наконец – море восторга! – «Мастер Мартин-бочар и его подмастерья» Гофмана. Опять низкий поклон составителям этой серии! С каким вкусом, с каким знанием психологии подростка выбраны рассказы. Но и с каким уважением к мировой литературе. Ведь именно тогда, в шесть-семь лет, я впервые услышала эти великие имена, познакомилась с их сюжетами. Запомнила. Сберегла в памяти в ожидании встречи с «Пляшущими человечками» и «Пёстрой лентой», «Счастьем Ревущего Стана» и «Найдёнышем», «Красным и чёрным» и «Пармской обителью». А главное – с «Рассуждениями кота Мура» и полными «Серапионовыми братьями». Вот только рассказ Диккенса не произвел на меня никакого впечатления. Более того – я не запомнила его содержания. Между тем наша великая встреча с Диккенсом ещё предстояла!
Но, между прочим, бабушка, как и я, не хотела возвращаться домой из КОГИЗа с пустыми руками. Конечно, книги, купленные дядей и мамой, мы с ней прочитывали охотно, с удовольствием. Но, может, у её литературных вкусов, интересов были некоторые особенности? И вот через пару нововбытовских лет у нас появился ещё один библиофильский маршрут. Совершив необходимые продуктовые покупки, посетив безуспешно КОГИЗ (или вообще не заходя в него), мы переходили на противоположную сторону Энгельса (Большой Садовой) и, миновав строившийся (или уже построенный) «Маслопром», заходили в красивое высокое дореволюционное здание (потом узнала – дом купца Сариева). Кажется, четырёхэтажное. Но нам достаточно было подняться на второй этаж. Правда, по очень крутой, да и ещё и с поворотом, и вообще какой-то небезопасной лестнице. А может, всё это были мои фантазии, окрашивающие походы в «другой» магазин неким романтическим светом. Вернее – сумраком. Здесь действительно не было ни громадных окон КОГИЗа, ни его ярких ламп, ни духа нарядности, новизны, исходившего от книжек. Зато была таинственность в их расположении, в их подержанности, в неожиданности их появления на прилавке не только для нас с бабушкой, но даже для продавщицы: «Ой! А вот посмотрите, что я нашла!» – вскрикивала она. Да и продавщица тут выглядела по-другому: менее нарядно, менее торжественно.
Не знаю, когда я осознала, что мы посещаем особый, букинистический магазин. Слово это, наверное, не произносилось, а то бы я об него споткнулась и запомнила. В последующие двадцать лет мы с бабушкой не раз обсуждали наше прошлое, но почему-то ни разу про эти походы на второй этаж дома Сариева не говорили. А между тем, там были куплены несколько любопытных книжек, которые вносят какой-то штрих в бабушкины пристрастия. Или свидетельствуют о том, что жизнь без ежедневного чтения была для нас обеих смерти подобна? (Слегка сгущаю краски.)
Вот именно там мы купили «Пимокаты с Алтайских» и прочли, сначала чередуясь с бабушкой. Но через какое-то время, все ещё в тридцатые, довоенные годы, я её упоённо перечитывала, про себя, для себя. Что уж так меня увлекло в истории первых пионерских организаций в Барнауле? Лёгкий, ясный язык повести? Искреннее волнение автора? Или моя собственная абсолютная совковость, эта беззаветная преданность всем идеологическим штампам, по которой я в четыре года без запинки перечисляла фамилии всех летчиков, спасавших челюскинцев, в пять, сидя на горшке, сочиняла под траурную музыку из репродуктора стихи: «Прощай, Серго, прощай, Серго Орджоникидзе!», в семь – писала героическую балладу:
Просыпалось солнце рано,
Умывалось в речке.
Шли на водопой бараны,
А за ними овечки.
Вместе с солнцем бойцы подымались,
Подымались, в поход собирались!
Ой, вы кони удалые, домчитесь до речки,
А там и переправимся, не дадим осечки.
Слышен топот конский
По степи каленой…
Ты прощай, боец-товарищ,
В бою закалённый!
(Ну, как? Узнаете влияние Лебедева-Кумача?)
Зато в восемь я уже от слов перешла к делу, ловила и чуть не поймала шпиона. Это уже под влиянием рассказов о пограничнике Карацупе и его храброй собаке Индусе (потом из соображений толерантности превратившейся в Ингуса) и рассказа «Слепой гость», который читали по радио.
Но вернемся к повести «Пимокатам с Алтайских», так мне полюбившейся. Она пропала с большинством моих книг во время войны. Но я её всегда помнила. И горько сожалела, что не знаю фамилии автора, чтобы спросить в библиотеке, взять, перечитать. (О библиографических отделах я узнала много позже.) Но в восьмидесятые годы, когда я и о пионерах, и даже о Барнауле, в котором побывала в «оттепель», давно забыла, книгу переиздали, я её купила. И подарила внукам, которым уже никакого пионерства не досталось. И читать они её не стали. Зато я узнала, что написала об алтайских пионерах не больше не меньше, как героическая Ольга Берггольц. Вот откуда так присущая ей и так завораживающая меня искренность, взволнованность.
А ещё купили мы с бабушкой в букинистическом такую же небольшую, квадратную, как «Пимокаты», книжечку «Маленькие товарищи». Если Берггольц дала своей повести название, скрывающее, маскирующее ее идеологический настрой, то «Маленькие товарищи» получили от издательства ещё и алый переплет. Чтоб читатель не сомневался – речь не о каких-то товарищеских посиделках, а о настоящей революционной дружбе. Это действительно оказалась история подпольной юношеской дореволюционной организации. Впечатление осталось умеренное. Впрочем, тогда я вбирала, впитывала абсолютно всё. Но раз чувства мои не дрогнули, значит, литературный уровень был невысок.
Что удивило: имена героев, ситуации их жизни сильно напоминали ту линию «Рождённых бурей», которая касалась молодежи. И тут, и там среди подпольщиков был парень Андрей, еврейская девушка Сарра… ещё имена совпадали? Или события? Удивительно другое – откуда повод для сравнения? Вроде «Рождённые бурей» я читала позже? Или это я «Маленьких товарищей» перечитывала уже в сороковом году? И кто написал? Кто издал эту революционную книжку? (И тут помог интернет – автор Анна Кардашова.)
А ещё одной книги, приобретённой в букинистическом, я даже названия не помню. В нем участвовало имя главного героя – Коля. Действие происходило в день Колиного рождения и сопровождалось событиями, претендующими на приключения, драму, но явно на них не тянущими. Что-то в духе, стиле Чарской, которая открылась советским девочкам в годы войны. Но – не Чарская. Хуже. Так и ушла в небытие. Кстати, таких мелькнувших в детстве книг, неуточнённых, неопознанных, которые перечитать из-за этого невозможно (да и запал исчез), у меня было несколько. Например, «Петербургский приют» – странная книжка, большая, серая, в толстом картонном переплёте. Читали мы её (наверное, бабушка читала мне, такая была ситуация) в Батуми, летом тридцать девятого года. Описание мрачных будней дореволюционного приюта. Особенно шокировала ситуация, когда приютский пахан использует мальчика-идиота Ганю в качестве личного кресла-качалки. (Снова на помощь пришла глобальная сеть: автор повести 1935 года – Алексей Абрамович.)
Ещё вертится в голове одно название, без сюжета – «Гой Дальбак». Связано это с детской библиотекой на Пушкинской. Кажется, книжка даже не попала ко мне для прочтения, а только на просмотр. И чьи-то разговоры… о ней? Это имя героини? Вроде бы… Маячит образ девушки, какой-то особой внешности, в особом платье… Не обязательно красавицы. А в какой стране происходит действие? В Скандинавии? Так хотелось все это узнать. Не пришлось. (Гугл подсказывает: Гой Дальбак – норвежская девочка-подросток, бедная, но добрая и весёлая. Историю о ней придумала вполне советская писательница Надежда Дмитриева в 1934 году. Да здравствует интернет! Великий справочник! Корректор! Секретарь!).
А вот книжечку «Да здравствует Лефланшек!» Михаила Гершензона мы читали с бабушкой по очереди в Кабардинке. Это был роман о жизни то ли бельгийских, то ли скандинавских портовых рабочих или рыбаков. Лефланшек был каким-то профсоюзным лидером. Сюжетных подробностей не помню. Кроме единственного эпизода: второстепенные персонажи, дети восьми-десяти лет, собираются, зажав в зубах монетку, донырнуть до подводного города Винетты, купить там любую мелочь – и город поднимется из моря. А я ведь уже знаю про этот город. Из «Путешествия Нильса с дикими гусями». А ещё позже прочту в толстом сборнике бродячих международных легенд, который мне вручат в детской библиотеке на Пушкинской… Зато откажут в «Гой Дальбак».
Вот я и вышла к этой теме, библиотечной. И к этому году, сороковому, последнему предвоенному. Про посещение книжных магазинов можно закончить. Тут уже всё ясно. Мы в них всё так же ходили. Может, не ежедневно. Потому что и библиотека наша увеличилась, и книги меня интересуют уже другого уровня и (между прочим) размера. И читаю я почти свободно – и вслух, и «про себя».
Нет, не про библиотеку надо рассказывать. К этому источнику книг я приобщилась только в сороковом году. А вот в тридцать девятом, насколько я могу сопоставить в памяти факты, чувства, обстоятельства, впервые пересеклась моя дорожка с… Сейчас, сейчас…
Я уже об этом писала однажды: про дружбу двух семей на протяжении четырех поколений. Последний отзвук этих отношений задел и меня. В разные годы, в разных контекстах. Несколько раз меня вплотную подводило к человеку, который мог стать моим руководителем, наставником в жизни. К Валюше Гольдштейн. Она была восемью годами меня старше, окончила филфак МГУ, стала профессиональным литературоведом. Мы пересекались в Ростове, Вологде, Москве. До войны, во время, в мирные и даже в оттепельные годы… Мы общались очень тепло, нас тянуло друг к другу. И тут же уводило в разные стороны житейскими ситуациями. Оставив, впрочем, след дружеского прикосновения, родственного тепла.
Ну, может быть, ещё несколько мудрых советов мне от неё перепало (советам никто никогда не следует). А вот как раз в тридцать девятом – сорок первом году, в мои шесть-восемь лет, я получила из рук Валюши мощный толчок в мои представления о жизни. Как раз через книги. Опять через них!
В доме Гольдштейнов у четырнадцатилетней Валюши была собственная комната, что произвело на меня неизгладимое впечатление. И собственный книжный шкаф, что называется, «битком набитый».
Нет, порядок событий был другой. Сначала мама или бабушка во время одного из дружественных визитов пожаловались на моё книгопоглощательство (ещё косвенное или уже прямое?). И кто-то из взрослых (Валюшин отец, дядя Эмма?) обратился к дочери:
– Ты бы подобрала что-то девочке.
И тогда я увидела эту комнату с персональным письменным столиком. Эти зелёные шторки с внутренней стороны стеклянных дверец шкафа. И все пять? шесть? полок, уставленных книгами. А потом уже в течение двух или полутора лет, оставшихся до войны, получила из этого шкафа такой внушительный заряд – сведений, впечатлений, чувств. И поводов для размышлений, и разговоров. И со своими домашними. И с той же Валюшей. В разное время и в совершенно необъяснимой последовательности я унесла от Гольдштейнов в «Новый Быт» такие разные книги, как «Кондуит и Швамбрания» Кассиля, «Маленький оборвыш» Гринвуда, «Республику ШКИД» (а авторов уже репрессировали?), «Робинзона Крузо», «Гаргантюа и Пантагрюэля» (адаптированную для детей) и «Тома Сойера – сыщика». (Вот эту-то точно последней, в сороковом или в начале сорок первого года, уже будучи знакомой с приключениями Тома и Гека). Может, Валюша давала мне и другие книги, но мне запомнились, произвели неизгладимое впечатление именно эти. Буду говорить о них. Сегодня с полной достоверностью не знаю, как были читаемы эти толстые, вполне взрослые томики? Которые если издавались «Детгизом», то с грифом «для детей старшего возраста» (в крайнем случае – «среднего школьного». Так вот – мне их читали вслух? Или вслух поочередно со мной, как было уже описано? Или я – самостоятельно? Скорей всего – в разное время по-разному.
Предположительно это началось зимой сорокового – и нехватка магазинных покупок для моей разгоревшейся потребности в чтении, и разговор о моем книгоглотательстве в гостях у Гольдштейнов. Возраст мой – шесть с половиной. Осенью мне в школу. И ещё надо учитывать не только степень моего умственного развития, но и представление о нем у моих домашних. А они всегда оценивали меня более чем трезво. Поэтому «Кондуит и Швамбрания» читалась мне вслух по очереди всеми взрослыми членами семьи. Почему-то я убеждена, что это была первая Валюшина книжка, попавшая к нам в дом. Я сужу и потому, что долго она у нас гостила, – не днями, даже не неделями. Месяцами? Ну, не одним. И как разговаривают о ней взрослые, помню. Вечерами, за ужином. Пересказывают смешные места (про Оську-путаника, его разговор со священником; и я уже знаю – о чём речь). С другой стороны – я живо представляю иллюстрации в «Швамбрании»: карты вымышленного государства, того же Оську на скамейке с попом, вытаращенные глаза «глядельщиков», проезд по школе на партах. И соответствующие куски текста вижу, шрифт, поля. Скорее всего, читая мне Кассиля вслух, взрослые прочитали её каждый про себя. Но и меня увлекательный текст подтолкнул, активизировал. И я не только услаждала бабушкин слух страницами похождений Лёльки и Оськи. Скорее всего, было не так… Я «Швамбранию» не дочитывала самостоятельно, а перечитывала. Я уже знала всё, весь сюжет, все события, все победы, все ошибки героев, но снова и снова вникала в ситуации, смеялась удачным шуткам и розыгрышам, давала героям и их поступкам собственные оценки, может, не совпадающие с оценками моих взрослых.
Что-то похожее, в смысле освоения, постижения книги происходило с «Маленьким оборвышем» Гринвуда. Её также читали мне, потом со мной по очереди и, наконец, я её перечитывала. И не раз. А может, и не два. Конечно, и «Швамбрания», и «Маленький оборвыш» были новой ступенькой в моем постижении мира. Все до этого прочитанные мне (и кое-как мною самою) томики находились в пределах моего умственного и эстетического кругозора: обширный выбор сказок (сделаем исключение для Уайльда), стихи талантливых, но безусловно детских поэтов (не исключая обэриутов), рассказы, повести из жизни детей до революции (без революции). Даже такие объемные, талантливые повести, как «Детство Никиты», «Детство Тёмы», были всего лишь бытовыми сценками семейной жизни, пусть даже дореволюционной, но рассмотренной не под социальным микроскопом, не с политэкономическим арифмометром, а доброжелательной памятью повзрослевшего героя. Это прекрасно, что они были, уцелели, появились именно такими! Не были внесены в знаменитые списки вредных книг Надеждой Константиновной.
Но страницы «Кондуита и Швамбрании» дышали, кипели атмосферой истории, всё там было царапающее, неожиданное – ситуации, конфликты. И кстати – стиль, жанр.
Между прочим, «Республика ШКИД» была очень близка к «Швамбрании» по мысли и содержанию. Но почему-то произвела меньше впечатления. Я уже засомневалась – не попала ли именно «ШКИДа» мне в руки первой и просто оказалась сложновата и скучновата для шести лет? А вот «Маленький оборвыш» был именно «то». Какое открылось совершенно неизвестное историческое и географическое пространство! С такими понятиями, как «ночлежный дом», «работный дом», профессия и даже целая гильдия трубочистов. А тут ещё история с похищением трупов и продажей их нелегальным анатомам. Когда я летом сорокового года прочитала в Кабардинке «Приключения Тома Сойера», то уже была готова к кладбищенской истории с индейцем Джо.
Но ведь Гринвуд к тому же подробно исследовал внутренний мир мальчика-бродяги, формирование его психики, нравственности. Как это было интересно! Чёрт побери! Я вот только сейчас поняла, что ещё в этом, шестилетнем возрасте проявились мои истинные литературные пристрастия – к психологической прозе на фоне повседневной жизни. Ведь «Робинзон Крузо» и особенно «Гаргантюа и Пантагрюэль» увлекли меня значительно меньше. А может, не меня, а моих «читчиков», которые уже знали содержание и читали кое-как? Хотя, «Гаргантюа» откуда? Или скучновато было и для бабушки? Но, во всяком случае, великие имена уже в моих ушах прозвучали. Иллюстрации Доре впечатления произвели. И след на песке человеческой ноги в «Робинзоне»…
Что касается «Тома Сойера – сыщика», то его я, конечно, читала сама, про себя, в сорок первом году, потому что помню скромный вид книжки, её потёртость, дешёвую бумагу, тусклый шрифт. Но мой интерес от этих недостатков не ослабевает. Ещё бы! Это же продолжение двух главных книг марктвеновской серии про дружков из Питсбурга! Которые я прочла прошедшим летом в Кабардинке! Вот про этот, совершенно новый, особый этап моего чтения – особо.
Я уже писала когда-то, что одно из жизненных правил моей матери было – ребёнок должен проводить лето на природе. Из нескольких опробованных вариантов был в конце концов выбран наилучший: бабушка устраивается на летний сезон работать в какую-нибудь здравницу, а я пребываю при ней. Это способ подходил нашему семейству и по протяжённости, и экономически. И был использован в моем детстве четырежды. Первый раз, в тридцать седьмом году, бабушка работала медсестрой всё лето в майкопском доме отдыха. Хотя мне было всего четыре года, я получила за эти месяцы массу впечатлений, особенно от экзотической природы и уникальной обстановки. Дом отдыха располагался в горах, в бывшей монастырской обители, с громадным садом, пасекой, специальным цветочным лугом для пчёл, коптильней и хорошо сохранившимся храмом (правда, высоко в горах). Но мне хватало места для блужданий и внутри монастырской ограды. И какие-то подружки у меня завелись: двоюродные сестрички Ира и Мика (Микаэла?), приехавшие с мамой одной из них в качестве отдыхающих, и дочка домотдыховского завхоза с необыкновенным именем Малинка.
Но вот книг в этом райском местечке я не помню. Навряд ли они полностью отсутствовали. Просто до самостоятельного чтения я ещё не созрела, хотя буквы точно знала. А бабушка только входила в подзабытые обязанности медсестры, ей было не до чтения. Нет, что-то где-то мелькало. Она мне читала. Но эпизодически.
Зато два года спустя (или три? в сороковом) накопив информационного опыта, мама (а я уверена, что эти занималась именно она) устроила бабушку на работу в элитный санаторий на самом берегу Чёрного моря. Ощущение комфорта кабардинской жизни было даже у меня, семилетней девочки. И отдельная комната для нас с бабушкой (так же жили все медсестры с детьми, врачи – тем более). Крытый пляж с солярием. Комплекс громадный водных и физиопроцедур как раз рядом с нашим жильём. А море только что ступеньки у нас не обмывало. И кормили отлично. Хотя какой-то сдобной булочкой отдыхающий мальчик со мной поделился (персоналу их не досталось). Но это уже был перебор всеобщего благополучия и взаимной любезности. Был в санатории и большой, комфортный клуб. А в нём и самодеятельность отдыхающих и сотрудников – вполне приличная. И приезжавшие на гастроли чуть ли не столичные артисты. Но главное – ежедневное кино! На открытом воздухе, на берегу моря. И мы, дети персонала, устроившиеся на песке, перед первым рядом, чтоб лучше видеть все эти победы над басмачами в пустыне, лучше слышать все песенки Чарли Чаплина, все куплеты Целиковской. И друзья у меня в Кабардинке завелись настоящие. Кроме мальчика-отдыхающего, приехавшего с мамой на месяц (это была семья погибшего летчика! Я только что сообразила, почему так много было военных в санатории, – это были участники позорной финской кампании; было им где истрепать нервы!), я за пять месяцев крепко сошлась с детьми главврача, восьмилетней Литой (Аэлитой) и пятилетним Генрихом. Этот хоть годами не дотянул, зато лазать с ним по деревьям было одно удовольствие. К сожалению, он всегда оказывался выше – весил мало и тонкие ветки под ним не гнулись.
Но все плюсы кабардинской жизни меркли перед главным удовольствием, которое находилось в том же клубе. Только дверь была с тыльной стороны здания. Зато открыта ежедневно и непрерывно. Так мне казалось. Это была библиотека.
Опять я что-то фантазирую. Потому что картинки моего визита в библиотеку, не только самостоятельного, но даже с бабушкой, у меня в памяти нет. Вот дверь приоткрытую помню. Скорее всего, бабушка ходила туда без меня и книги выбирала по своему усмотрению. И, возможно, по совету библиотекаря. Ну, что ж, низкий им поклон! Во всяком случае, перерыва в моем – чём? просвещении, развитии, душевном обогащении? – не было. В нашей комнате всегда присутствовала библиотечная книга. И каждый день она была «читаема». Утром, днём, вечером – первые месяцы это определялось графиком бабушкиных дежурств. А каким образом? Это зависело от сложности книги.
Я уже писала – «Да здравствует Лефланшек!» читала ещё бабушка. Я в неё и не заглядывала. Прочла всю до конца? Не уверена. Все-таки было в ней на вид страниц двести – сто пятьдесят. Неужели не нашлось ни единого запоминающегося эпизода, кроме ныряния с монетой? Видимо, бабушка почувствовала, что не в коня корм, и дочитывала уже в одиночестве. Похожая история повторилась с «Тридцатилетней женщиной» Бальзака. Кстати, в этом случае я не запомнила не только автора, но и названия. Зато знаю, что был какой-то тревожный эпизод в запертой каюте корабля, в открытом море. Что-то происходило, какой-то конфликт между женщиной и пиратом (про пиратов я уже знала из Гью Лофтинга). Пират угрожал, женщина пускалась на хитрости. Но всё равно было скучновато. Тут бабушка, видимо, осознала свою промашку и принесла для меня что-то другое. Я тут же выбросила историю с пиратом из головы. А девять или десять лет спустя, когда подписалась на Бальзака, получив соответствующий том, вспомнила Кабардинку, опознала анонимного автора и анонимную повесть.
Что вместо Бальзака принесла мне бабушка? Судя по тому, что какое-то время она читала мне вслух, скорее всего, это были «Дети капитана Гранта». Мы как раз зимой или весной посмотрели фильм. И пришли в восторг. Все посмотрели. Весь Союз. И все напевали «Жил отважный капитан». А ещё – «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер». Занимательно, весело, празднично! Сплошные приключения! Книжка оказалась суше… Скучнее? Нет, это слово не подходило. Но требовала внимания, терпения. И от бабушки. И от меня. Она настойчиво читала мне ежедневно. Кусок за куском. Главу за главой. И постепенно втягивалась… То, что знала сюжет, помогало или мешало? Скорее помогало. Все мои невеликие умственные способности направлялись на подробности. Я наливалась знаниями географии, биологии, астрономии. Но и моё представление о людях, их характерах, взаимоотношениях расширялось, усложнялось. И Роберт, и Паганель, и Джон Манглс, и сам капитан Грант предстали не условными исполнителями определенного набора амплуа, а реальными людьми. Хотя и не был Жюль Верн мастером психологического анализа. Даже Мария Луиза Раме рассказала мне больше на тридцати страницах о мальчике Нелло, его внутреннем мире, чем Жюль Верн о Роберте Гранте в целом романе. Но, во всяком случае, всё у автора так хорошо сочеталось, сплеталось – приключенческое с реалистическим, быт с природными катастрофами. И с политическими обстоятельствами. Очень интересно было слушать. А постепенно и самой читать вслух, сменяя бабушку. И тренируя свою беглость.
А бабушка стала приносить из библиотеки книги более разборчиво. Может, ей помогала заведующая. А может, уже вмешался в подбор литературы для меня дядя? Он приехал в Кабардинку в конце июля на лечение. Жил в корпусе, но почти всё время проводил со мной. Хотя срок его путёвки – двадцать четыре дня. А я-то провела в санатории пять месяцев и познакомилась за это время не только с Жюлем Верном. («Таинственный остров» следующим летом или вообще в школе?) Ещё читали мы по очереди с бабушкой «Человека-невидимку» Уэллса. И… вот оно! Наконец-то… Вот первая встреча – «Приключения Тома Сойера»! И подряд, следом – «Приключения Гекльберри Финна». И, между прочим, большую часть этих книжек – «про себя». И для себя. Хотя порой снисходила к бабушкиной просьбе, когда её одолевали бытовые проблемы. Но это уже в порядке исключения, одолжения. Вот, может, эти книжки выбрал для меня нагрянувший Юрий. И ещё pendent к ним «Воспоминания американского школьника» Томаса Олдрича. Эта малоизвестная книжка (за все мои детство и юность я встретила её однажды) монтировалась с марктвеновскими повестями содержанием, ещё была проиллюстрирована хорошими гравюрами. Жизнь провинциальных американских городов прошлого века я теперь представляла отлично. Для меня потом книжка Олдрича была таким же загадочным воспоминанием, как рассказы Уйды. И я… так же была счастлива в девяностые (или двухтысячные годы?) встретить её переизданной, приобрести для внуков, перечитать и не разочароваться.
О Марке Твене и говорить нечего. «Том Сойер – сыщик», которого я буду читать через полгода, послабее. Но приключения Тома и Гека, выпавшие мне в Кабардинке, – это не просто увлекательное чтение, это (siс, школьные литераторы!), великолепнейший материал для домашних сочинений на любой возраст (от двенадцати до шестнадцати лет; а в какую охотку дети кинутся их писать!), в любых аспектах: сюжетных и философских. В этих повестях удивительно переплетаются насыщенность событиями, занимательность и ненавязчиво, но неотступно возникающие вопросы этического плана к читателю, которые он просто обязан разрешить. Я в свои сорок с лишним лет была безмерно удивлена и тронута, когда мой десятилетний сын, читая «Приключения Гекльберри…», возмущался издевательствами, которые придумывал Том для псевдоосвобождения давно свободного Джима. Ведь я-то в детстве пропустила мимо сознания эту дешёвую развлекаловку с риском для чужой жизни. Так была увлечена подбрасыванием ложек и простыней тёте Салли. И никто моего внимания на этот моральный дефект в личности Тома не обратил. Не за всем успевали уследить мои воспитатели!
Но зато ещё одну важную книжку они мне предоставили летом сорокового! Вот это точно Юрий из библиотеки притащил. И мы с ним читали по очереди – и на прогулках по горам, и на пляже – рассказы Джека Лондона. Кажется, «Киш, сын Киша», «Отступник», «Любовь к жизни». Аппетитный довесок к главному пиру. Вполне по возрасту. Не то что Бальзак!
* * *
Короче, когда во второй половине августа я с дядей возвращалась в Ростов (мне предстояло поступление в школу, а у бабушки ещё продолжался рабочий сезон), то была совсем другим существом, чем то, которое в апреле уезжало на «свежий воздух». Конечно, выросла на несколько сантиметров. Окрепла и закалилась – все эти часы на пляже, в море (Юрик в два дня научил меня плавать, до флажка доплюхивала), лазанье по деревьям, одинокие путешествия в «поселок рыбаков» с перепрыгиванием через небольшие расселины, коллективные прогулки в горах (как всё это мне помогло пережить в недалеком будущем военные тяготы!). Во всяком случае, к любым школьным перегрузкам я была физически готова.
Но главное не в этом. В августе сорокового мне были не страшны никакие правила приёма в школу с восьми лет. (Мне недавно исполнилось семь, и мои домашние боялись отказа). Если бы мне вдруг устроили проверку, то я бы продемонстрировала свободное выразительное чтение любого незнакомого текста, его отличное понимание, способность тут же пересказать. Знание наизусть десятков стихотворений. И не только детских, но и Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тютчева, и даже Блока (был сборничек из серии «Книга за книгой»)! Я могла рассказать про гражданскую войну в Испании и про борьбу немецких коммунистов с фашизмом («Генрих начинает борьбу» был уже нами с мамой прочитан). И про Великую французскую революцию, и про Парижскую коммуну («Марсельцы»! А про коммуну что? Я, невежда, вероятно, к ней Гавроша относила). И про бедных американских негров я всё знала. Ведь (вспомнила!) Валюша мне ещё и «Хижину дяди Тома» давала. Но до школы? Или в первом классе? Но уже и Марк Твена достаточно!
Короче, 45-я школа получила ученицу вполне грамотную, «образованную», может, несколько развязную?.. самоуверенную?.. Нет! Меня всё-таки хорошо воспитывали. Редко хвалили. Замечали все промахи и ошибки. А на попытки самодовольства у бабушки была любимая поговорка: «Кому много дано – с того много и спросится».
Но сегодня я не эту свою «продвинутость», не эту свою «сверхподготовку» к школе считаю главным положительным итогом семи дошкольных лет. А то, что любое из вышеперечисленных увлекательных кабардинских занятий, включая кинофильмы про басмачей и храбрых пограничников, любые круглогодичные ростовские удовольствия: дворовые игры, поход с мамой в кафе, визит подружки – я если не готова была в любой момент прервать, то уж отложить, заменить чтением только что появившейся или даже старой, но любимой книжки – да, да, да! Читатель с большой буквы, читатель как будущая профессия, уже вступал в свои права. Книги притягивали меня тем, что как бы подробно и красочно ни расписывал мне автор характеры героев, детали их биографий – всегда оставалось место для моей фантазии, моего истолкования, моих аналогий, моих споров, возражений. Пусть даже не случившихся, как при чтении «Гекльберри Финна», – но они были. И они пробуждали какие-то совершенно особые свойства моего существования, которых во мне раньше не было. Или они дремали. И безусловно, без чтения новых, взрослых книг они никогда бы не проснулись.
* * *
Осталось пересказать последний год моей довоенной жизни. Хотя он пришёлся на первый класс, я отношу его к дошкольному периоду. Потому что перемены и в моих жизненных обстоятельствах, и в моей личности если и произошли, то плавно-незначительные. И даже в той сфере, о которой я пишу – в моих отношениях с книгами, – движение вперед и вглубь оставалось вполне равномерным, соответствовало и количеству протекающего времени, и процессу развития моего организма.
О, более того! Каким-то образом мои читательские запои сократились, обмелели, что ли? Особенно в первые два школьных месяца, пока бабушка не вернулась из Кабардинки. Мама с трудом справлялась со службой. Нет, со службой – хорошо, а с вот с упавшим на ее плечи хозяйством – не совсем. И возникали мои школьные проблемы (тут подключилась соседка Екатерина Ивановна, к которой я и до школы ходила в «группу» (такой частный «полуочаг»). Она меня в школу отводила, приводила. Я у неё делала уроки. Кажется, в школе мною были довольны – вот когда помогала моя начитанность! Но для хождения по книжным магазинам, по дружеским библиотекам, для полуторачасовых смакований «Генриха, начинающего борьбу» времени у матери не было. Юрий иногда что-то покупал, говорил, подсовывал, но тоже был озабочен выше крыши. Да я и сама была загружена не только чисто физически – посещение школы, выполнение домашних заданий, – но и психологически: новый ритм жизни, неизвестные проблемы, целый класс незнакомых детей, выбор приятелей, потом – друзей. Конфликты с не приятелями (пишу слово раздельно, врагов не случилось, а вот конфликты с одноклассниками бывали). К счастью, учительница у нас была замечательная, старушка Надежда Ивановна, ещё с дореволюционным образованием педагогического класса гимназии. Кстати, она нам иногда на уроках читала какие-то небольшие классические рассказы вроде «Тёмы и Жучки». И я в ней ощущала родную душу.
А в начале ноября вернулась из Кабардинки бабушка, и всё немного устаканилось. В доме воцарился идеальный порядок. В КОГИЗ мы, конечно, ежедневно не ходили. Но книги появлялись постоянно. Чаще всего их покупал Юрий (я уже писала про местные издания). Ну и возобновились поступления из Валюшиной библиотеки (она, кстати, училась со мной в одной школе, в девятом классе). Вот тогда я обрадовалась продолжению приключений Тома Сойера. А может, именно в этот год мы читали с бабушкой «Хижину дяди Тома». Чтение постепенно опять отхватило значительный кусок моей жизни. Пусть новые книги попадали к нам в дом реже, но все они были объёмными и довольно сложными (нет, не то слово, взрослыми – больше подходит). Но я бы их и сама осилила (опять неподходящий глагол), насладилась ими. Однако, они были интересны и бабушке. И именно в этот год утвердилась лет на пять (с перерывами по семейным обстоятельствам) эта система: я читаю вслух, она выполняет мелкие бытовые дела и слушает. Но теперь случалось, что я забегала вперёд, увлеченная сюжетом, а потом повторяла для бабушки уже известный мне отрывок.
Вот так и прошли остаток осени, зима и начало весны. И ворвались в мою жизнь новые обстоятельства. Почему я настаиваю на весне? Потому что свои одинокие путешествия по Пушкинскому бульвару я помню исключительно как прогулки по тёплому, солнечному воздуху, с присаживанием на скамейки под деревьями с набухшими почками или с густой, но очень свежей листвой. Особенно долго отдыхала я на обратном пути, когда разглядывала новополученную книгу. А то и прочитывала маленький рассказ, сказку, две-три страницы из повести. Апрель – первая половина мая, не позже. Потому что в конце мая мы уже опять были в Кабардинке.
Кто меня надоумил записаться в детскую библиотеку? Юрий? Учительница Надежда Ивановна? Мама? Почему-то бабушка мне тут не подходит. Во всяком случае, записываться туда я ходила одна. Но я ведь и в школу, куда более далёкую, чем библиотека, со второй четверти добиралась без сопровождающих. Переходить же опасный Ворошиловский надо было в обоих случаях. А в школу трамвайную линию ещё и повторно. В библиотеку же – неполные два квартала по благоустроенному бульвару. Помню, что, не доходя Семашко, у каких-то прохожих спросила, и мне указали на красивый подъезд. На второй этаж по крутым ступенькам поднималась неуверенно. Что меня тревожило? И в действительности – как происходила запись? Ведь для того, чтобы стать официальным читателем любой библиотеки, кроме самых сильных желаний и даже высочайшего читательского уровня потребен был какой-нибудь официальный документ. Скорее всего – мамин паспорт. Неужели мне его доверили для святого библиотечного дела? Не исключено. А может, я в первый раз ходила в одиночестве (в этом не сомневаюсь, так живо помню незнакомость и тревожность ситуации!) – на разведку. Поговорила с библиотекарем, получила разъяснения и через пару дней (в мамин выходной) пришла с ней записываться. Это возможно. Но второстепенно. Главное, что передо мной открылся новый… канал – нет, сухо, ручей – мелко, склад – казённо, пещера Аладдина – претенциозно, преувеличенно.
«Пещера Аладдина» случится в моей жизни, но четыре года спустя. Сегодня – просто дополнительный источник книг с дополнительными впечатлениями, которых я доселе не знала. Даже в Кабардинке. Ведь там книги выбирала бабушка. Теперь – я сама. Правда, не без помощи работников библиотеки. А какие именно? В те месяцы вклад каждой конкретной книги в моё формирование, в мою жизнь, был не только прямо пропорциональным их возрастающей толщине, но зависел от таланта автора, от сюжета, от совпадения моего и писательского настроения, от тысячи случайностей и закономерностей, благодаря которым я до сих пор вспоминаю почти все книги, которые я принесла в эти полтора месяца в «Новый Быт». Между прочим, мне кажется, сейчас подходящий случай объявить, что названия и содержание всех книг, которые мне читали и которые я читала сама в детстве, я действительно помню так подробно, включая стихотворные строчки, что никуда заглядывать, ничего разыскивать мне не надо. Это ещё одно доказательство в пользу раннего чтения.
Итак! Какие же библиотечные книги? Кроме мифической «Гой Дальбак», которая мне не досталась, отчетливо помню «Карла Бруннера». Повесть того же Белы Балаша, что и «Генрих начинает борьбу», которую мы уже с мамой прочитали известным способом: мама пять страниц, я – одну. И которая уже числилась самой любимой книгой в моей подросшей библиотеке. Несмотря на полное идейное и очень близкое сюжетное тождество обеих повестей (Бела Балаш, венгерский коммунист, специализировался на описании борьбы антифашистского подполья с гитлеровским режимом), «Карл Бруннер» увлёк меня меньше. Может быть, потому что с семи-шестилетним Генрихом мне было легче себя ассоциировать, чем со взрослым Бруннером. И можно было сколько угодно воображать себя совершающей все его подвиги. Не хватало разве верного пса Вольфа и мерзких шуцманов-штурмовиков. Ничего, пусть только сунутся. «Мы не дрогнем в бою, за отчизну свою…». Я-то понятия не имела про пакт Молотова – Риббентропа. А что же в библиотеке чистку не произвели?
Ещё принесла я домой из библиотеки на Пушкинской несколько превышающую мои читательские и мыслительные способности толстую, тяжёлую книгу в твёрдом картонном переплёте: «Герои и мученики науки». Почему мне её выдали? Я позарилась на неё сама на каком-нибудь стенде или в стопке свежесданных книг? Или библиотекарше захотелось поддержать мои претензии на чтение не по возрасту? Или, наоборот, остудить их трудноперевариваемой книгой? Но та пришлась мне весьма по душе. Тем более что в её освоении приняла активное участие мама. Она сама её какими-то ночами (днём мама дома практически не бывала) прочитала. Что-то мы читали по очереди вслух уже по принципу два/один). Но главное – разговоры о Копернике, Галилее, Джордано Бруно. Выяснение, кто из них достоин подражания? Какие-то подробности о Пастере, Пауле Кохе, которых не было в книге, но о которых знала мама. И тут же, именно в тот же день, извлекла она откуда-то серенькую книжку, вроде бы среднеарифметического формата, но как-то экономно обрезанную, вплоть до текста, убористо напечатанную на газетной, сурового времени тридцатых годов, бумаге. Не помню, то ли мама прочла мне из книжки отрывки? Или я взялась за неё сама? Вряд ли. Для восьми лет трудновато и скучновато. Но в таком виде и в такое время «Охотники за микробами» Поля де Крюи вошли в мою жизнь впервые и навсегда. Стали непременным участником моей биографии. С ними периодически что-то приключалось. Один экземпляр пропал при глобальном катаклизме войны. Другой терялся при переездах. Третий кем-то зачитывался. Но через некоторое время возникали новые, то в качестве подарка отца с его комментариями от руки на полях по поводу случившейся кончины Ру, то с букинистического прилавка, то вынырнувшее из груды домашнего хлама. Но всегда именно этого же, 1932 года издания. Как будто их издали единственный раз, но зато миллионным тиражом.
А между тем другие работы де Крюи выходили и в конце 30 – начале 40-х, и в 50-е, и в 60-е годы. «Стоит ли им жить?», «Борцы со смертью», «Борьба с голодом», «Борьба с безумием» – иногда под именем Пауля Крафта. К семидесятому году они уже были собраны у меня в доме, стояли на отдельной полке. Определенные как гимн человеческому гению и гуманизму. Тысячу раз рекомендованные, может быть, даже навязанные для прочтения друзьям, знакомым. А особенно детям. И своим, и чужим. И внукам… А вот сегодня не обнаруженные среди семи тысяч томов моей библиотеки. В ужас я по этому поводу пришла. Куда девались? Скорей всего, сама раздала детям, внукам, когда разъезжались по своим судьбам, городам, квартирам, когда комплектовали свои библиотеки, а я в ажиотаже стремилась не допустить пробелов в развитии грядущих правнуков.
Правнуки появились. Книги Поля де Крюи сохранились ли? Служат свою службу? Но вот в моём доме они живы. В моей памяти. И не просто сохранились. Во-первых, активно участвовали в формировании жизненной философии. Ничуть не меньше, чем сакраментальный «Мцыри». Если по лермонтовскому тексту я училась гордости, мужеству, свободолюбию, то «Охотники за микробами» были учебником тех же качеств, но не в абстрактном, отвлечённом виде: «дружбы краткой, но живой меж бурным сердцем и грозой», а в бесконечном повторении однообразных опытов, в способности найти истину наперекор установившемуся мнению. Не в экзотических схватках со свирепым барсом, а в изучении с помощью микроскопа при лабораторном освещении крошечных существ, которые, если исследователи их вводили в собственный организм, оказывались в сто раз опаснее не то что барса, но даже льва…
А как описывает работу микробиологов Поль де Крюи! Какие находит слова, как волнуется сам и как заставляет волноваться читателя! Как будто и тот, и другой в экспериментах Пастера, Коха, Эрлиха участвуют, сомневаются, рискуют, терпят неудачи – и побеждают в конце концов. Или гибнут.
А ещё через эту книжку, между её строк, я прочитала историю знакомства моих родителей на эпидемии чумы, определила, хотя бы частично, их характеры, особенности их личностей. Ведь не случайно в мою библиотеку один за другим попадали уже прошедшие через их руки экземпляры «Охотников за микробами»…
Но что-то я разрушаю хронологию. То забегаю в восьмидесятые годы, то возвращаюсь в тридцатые. Вернемся к весне сорок первого. И получим, с подчёркнутой оговоркой «на десять дней, не больше» (срок, на который выдавалась любая книга, и который я всегда опережала; значит, одаряли меня дефицитом) какую-то даже на вид добрую, уютную книжку, с уютным же названием «Комната на чердаке». Вероятно, первую повесть Ванды Василевской, изданную в СССР после присоединения к нему Западных Украины и Белоруссии. А фактически – кусков Польши и Австро-Венгрии.
Этих политических обстоятельств я тогда не знала, не понимала, не интересовалась ими. И вообще. все детали, подоплека происходившего на просторах моей родины оставались для меня скрытыми как минимум пятнадцать лет, как максимум – полвека. (Открылись сегодня-то полностью?) Но вот с Вандой Василевской я успела познакомиться довольно быстро и разносторонне. Сначала с «Комнатой на чердаке». Через два-три года, в разгар войны – с мрачной, страшной в своем натурализме «Радугой». А ещё через пять-семь лет, когда я училась на филфаке, с неукротимой блюстительницей, провозвестницей взглядов партии на художественную литературу. На всех писательских форумах, при всех скандальных разборках она оказывалась роялисткой больше самого короля, во всяком случае, больше своего сверхверноподданного мужа, Корнейчука. Но это всё годы спустя. Сейчас о «Комнате на чердаке». Своего рода уникальный случай в моей читательской биографии. Не берусь сегодня судить о литературных достоинствах повести Василевской. Но чем-то она меня затронула. Описание этой скромной, но дружной жизни пятерых (или четверых?) сирот, мальчиков и девочек в возрасте от семнадцати до пяти лет (может, с возрастом и количеством детей память меня подводит, но это неважно). Их скудные трапезы, их бедные одёжки, их постоянные бытовые проблемы. И в то же время – их взаимная любовь, доброта, трудолюбие. Я ведь до сих пор в книжках про эту сторону жизни не читала. Любимое «Детство Никиты» наполнено бытовыми подробностями, но абсолютно благополучного существования, сплошные праздники. Тут тебе и Рождество, и Пасха, и приезд гостей. И маятник качается от просто хорошего к очень хорошему. А «Детство» Горького ведь тоже было прочитано? Но если даже «да»… Там – другое. Герой – мальчик Алеша – пленник ситуации, обстоятельств. Как маленький оборвыш Гринвуда. А дети Василевской пытаются – и им удается – преодолевать неблагоприятные социальные условия. И я получала двойной урок. Ведь я не только про тяготы будничной жизни не читала – я их никогда не испытывала, защищённая, оберегаемая моими тремя взрослыми ничуть не хуже, чем Никита – социальным положением своей семьи в царской России.
Конечно, никакого сравнения! Аналогия и не подразумевалась. Наоборот, «Комната на чердаке» была написана для разоблачения трудности жизни простого народа в капиталистической Польше. Но ведь в чём могучая сила искусства? Литературы в конкретном случае. Пишет Ванда Василевская в меру доставшегося ей таланта (был он, был, иначе не испытывали бы читатели такой ужас над страницами «Радуги») достоверные, подробные сценки из жизни сироток: что ели, как мёрзли, как любовалась старшая сестра витриной с хлопчатобумажными тканями, а у читателя перед глазами возникают своё отключившееся отопление, необходимость занять десятку у соседей. Даже я вспоминаю, как томилась в бакалее, пока бабушка стояла в очереди. Но тут же писательница рассказывает, как отдают старшие дети младшим свои куски, как через силу помогают друг другу. Этот дух человечности пронизывал повесть. Но приводил ли он к хотя бы сносному финалу, не помню. Зато помню, что об этой книжке говорили в какой-то взрослой компании – и у нас дома. И в каких-то гостях. Значит «Комната на чердаке» была действительно талантливо написана. И талант превозмог идеологическую зацикленность. Меня, во всяком случае, книга сделала чуточку внимательнее, добрее к людям. Сдала я ее, кстати, тоже досрочно. Не подвела стоявших в очереди за «хорошей книгой».
Впрочем, чаще в библиотеке мне доставались не книги-события (к последним я, безусловно, отношу большой, нарядный сборник «Японских сказок», чуть не треть которого я прочитала по дороге домой, присаживаясь на скамейке Пушкинского бульвара.
С «Маленьким оборвышем», «Детством» Горького, «Республикой ШКИД» – сравниться трудно. Но японцы такие изобретали сюжеты, таких задействовали персонажей, что не оторвёшься!). Так вот перемежались мои эпохальные книжные встречи с короткими касаниями на бегу. То мне предложили рассказы Пантелеева. В сборнике находилось мне знакомое «Честное слово». Но также неизвестные рассказы о Белочке и Тамарочке. Они меня соблазнили, но и разочаровали, когда я прочла их дома – совсем для малышей. Мне даже и в голову не пришло, что их автор один из тех, кто написал «Республику ШКИД». Вот тот неудачный случай, когда знакомишься с писателем от сложного к простому. Зато с Гайдаром всё получилось правильно: сначала я прочитала полученную в библиотеке «Голубую чашку», а уж потом «Военную тайну» и «Школу». А эти повести когда? До войны? Во время? Но не старше, чем в десяти-одиннадцатилетнем возрасте.
Но особенно гармоничные, последовательные отношения сложились у меня с Сетон-Томпсоном. Началось, как я уже рассказывала с «Рваного Ушка» в серии «Книга за книгой». Через год выпала откуда-то (ни источника, ни издания не помню, помню глубокое впечатление) «Королевская Аналостанка», которая обогатила, усложнила моё отношение к животным, в частности – кошкам. Но накрепко вписала в мою память эту сложную фамилию – Сетон-Томпсон. Хотя в пять лет я ещё не слишком авторами интересовалась. И вот в библиотеке на Пушкинской мне предлагают громадный том этого писателя. По виду, по размеру, по оформлению напоминает «Героев и мучеников науки». И название какое-то аналогичное. Выглядело так: «Животные-герои. Из жизни гонимых».
«Королевская Аналостанка» справедливо была помещена в раздел героев. Но в компанию к ней Сетон-Томпсон определил таких разнообразных представителей животного мира, что предо мной открылась целая вселенная, не менее сложная и удивительная, чем человеческая и даже сказочная: Лобо, Бинго, Вулли, Мустанг-Иноходец, Виннипегский волк, бультерьер Снап, кролик Джек – Боевой конёк – это были личности, характеры, судьбы, портреты, биографии не менее увлекательные и героические, чем герои Марка Твена, Дефо и Кассиля. А чем-то и более. Потому что, зная сюжет книги, я могла догадаться, как поступит тот или иной мальчик, что скажет даже взрослый герой. Мир животных открывался мне, как чудо. Даже если речь шла всего лишь о голубе или воробье, о которых автор написал в разделе «Из жизни гонимых». С того дня, вернее недели, когда я окончила эту замечательную книжку, то не только определила Сетон-Томпсона в ряд любимейших писателей, не только в течение нескольких лет перечитала все им написанное – и «Маленькие дикари», и «Мальчик и рысь», и «Домино», но утвердилась на всю будущую жизнь в мысли, что у ребенка, не встретившегося в свое время с Лобо, Снапом, Бинго, Виннипегским волком, той же Королевской Аналостанкой, ни душа, ни ум не получат полного гармонического развития. Так же, как не сформируется физически правильно ребенок, которого не обеспечили в детстве витамином «Д». Причем кривые ноги, сколиоз позвоночника, «куриную грудь» можно подправить в пять, десять, двенадцать лет. Душевный и духовный авитаминоз требует предупреждения.
Мне кажется, что мои библиотечные хождения-похождения завершаются. Больше из этого полутора (двухмесячного? с марта?) чтения мне ничего не припоминается. Да, была антифашистская книжка какой-то немецкой писательницы (как и «Карл Бруннер», своевременно не убранная в спецхран; как будто предчувствовали, что скоро потребуется; в действительности небрежно следили за детскими учреждениями – «вредителей» хватало во взрослом мире). Что-то про голодных детей, запертых в доме. И мать, побродив безрезультатно по городу, бросается в реку вместе с ключами. Не совсем уверена, но похоже, что так.
Ещё до войны остается полтора кабардинских месяца, с санаторной библиотекой. Но, честно говоря, конкретных книг я не помню. Сезоны сорокового и сорок первого года у меня смешались. Может какие-то свои впечатления-достижения я уже описала досрочно. И быстро всё произошло в сорок первом году: только мы приехали, обжились, только я возобновила дружбу с Литой и Генрихом, только посмотрели несколько фильмов, только запаслись парой каких-то книг… И вот, как гром средь ясного неба – прибежала с работы бледная бабушка, какие-то ежедневные совещания, на детей никто не обращает внимание, суета, сборы, даже слёзы – непонятно по какому поводу. Война – это так интересно по стихам Благининой… И возвращение в Ростов.
Дальше начнётся совсем другая, особая жизнь. И начнётся формирование совершенно особого этноса, существование которого я открыла, ковыряясь в своих воспоминаниях. К которому я и себя причисляю. Но это особая тема. И ей особое место.
А сейчас о двух-трех замечательных книгах моего дошкольного детства, которые куда-то ускользнули от меня. А между тем без них портрет будущего «ребёнка войны» получится неполным. Не все мои симпатии, вкусы и предпочтения будут объяснены. Поэтому – ещё полстраницы вашего внимания. Начнем с объяснения – почему я об этих книгах забыла. Потому что они не появлялись. Их никто не покупал, не приносил. Они в нашем доме всегда были. Именно начиная с «Нового Быта». Даже не как книжный шкаф и марлевые занавески, которые сшили, купили, повесили в определенный день, а всегда. Как главный стояк «центрального отопления» протыкал нашу столовую, снабжая теплом весь дом, заставляя моих женщин до войны задыхаться, а переживших холода сороковых – его благословлять. А он, как стоял розовой колонной в апреле тридцать шестого – тёплым, в феврале сорокового – горячим, в январе сорок седьмого – холодным, а начиная с пятидесятого – по сезону, так и эти три книги всегда лежали, то здесь, то там, на столе, на диване, закрытые, раскрытые. То читаемые вслух, то «про себя», то рассматриваемые.
А в «Гулливере» было что рассматривать. Книжка была громадная, подарочная. Адаптированная для детей первая часть – «Путешествие в Лилипутию». Зато с глянцевыми иллюстрациями Доре, размером 84 х 108. И я могла насладиться всеми деталями, всеми подробностями приключений героя, не утруждая себя текстом. Впрочем, почему «не утруждая»? Текст мне очень нравился! Причём он был к семи годам столько читан мне, я знала его почти наизусть и помнила безошибочно: какого цвета нитки за какие успехи в акробатике вручались придворным; какого размера были лилипутские ведра, с помощью которых Гулливер пытался потушить пожар в императорском дворце. В смысле выразительности удачного способа тушения рисунок Доре выигрывал по сравнению с текстом. Зато абсолютно неосведомлённая о том, какие истинные политические события Англии скрываются за приключениями Гулливера, не знавшая о существовании Болингброка, а тем более – о противостоянии протестантов и католиков, я впервые в жизни осмыслила, восприняла, использовала сложный книжный образ, метафору, когда по поводу дурацкого спора между мамой и бабушкой – какую кофточку мне надеть, заявила: «Что вы, как остроконечники и тупоконечники, ругаетесь по пустякам?» Чем всех развеселила. Ведь из книг приходит всё: и знания, и мудрость, и шутка.
Вторая постоянная спутница моей новобытовской жизни – «Ребята и зверята» Ольги Перовской. О ней естественно было бы поговорить рядом с Сетон-Томпсоном. Но, как я уже выше объясняла, слишком она была вездесуща в моем детстве, чтоб её замечать. И в то же время слишком ее рассказы о животных отличались от сетон-томпсонских. У того удивительно сочетались серьёзные естествоиспытательские научные знания о животных с писательской манерой их очеловечивать, за них думать, чувствовать, чуть ли не говорить. Не зря же я определила – «животные-личности».
У Ольги Перовской – задача другая. Кстати, кем она была? Профессиональным писателем? Или практикующим зоологом, призванным в детскую литературу Маршаком? И достаточно ли овладела новой профессией? Надо бы заполучить в руки сборник «Ребята и зверята». Перечитать. Проверить литературные способности автора. Тем более сделать это нетрудно. Книга переиздаётся у нас каждые пять-десять лет большим тиражом и прекрасно расходится. Что уже свидетельствует в пользу автора. Да и сомнения мои – дурацкие. Ведь я до сих пор вижу тот сборник во всех внешних деталях: нарядный, белоснежный вначале и потемневший на долгой службе через несколько лет. Помню все ватагинские иллюстрации: Дианка и Томчик на поводке, тигрёнок (нет, уже тигр!) Васька с ощеренной пастью, марал Мишка, выбивающий барабанную дробь на спине отшельника, подросший лисенок Франтик с курицей в зубах, ласковые мордочки осликов Ишки и Милки, Чубарый, вытянувшийся в скачке. А главное – могу сию секунду пересказать во всех подробностях историю появления, приручения, проживания, дружбы каждого животного с детьми лесничего. Всё это свидетельствует о незаурядном таланте Перовской. Но главное – об огромном заряде чувств к братьям нашим меньшим (это тигр-то меньшой? марал? жеребец?), который она накопила в своем удивительном детстве, сохранила и сумела передать читателю.