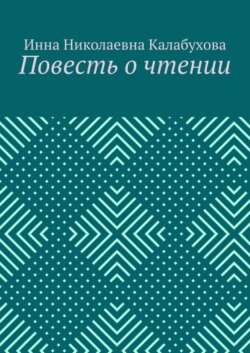Читать книгу Повесть о чтении - - Страница 7
Часть первая
Глава IV. Три месяца и три года. Что читали «дети войны»
ОглавлениеИтак, об этом особом, военном чтении детей восьми-двенадцати лет. На собственном примере. Полностью я в него погрузилась с октября сорок первого года.
Когда война грянула нам с бабушкой на голову 22 июня в Кабардинке, стало не до книг. Жизнь превратилась в стремительное действие. Санаторий, вероятно, был расформирован. Во всяком случае, сотрудники с детьми разъехались в несколько дней. Мы в том числе. Потом несколько суматошных месяцев в Ростове, во время которых я подговорила своих дворовых подруг бежать на фронт. План был таков: дойти пешком до Рабочего городка – там проходила какая-то железнодорожная ветка, я её видела, когда мы в 37—38 гг. навещали Бирулей. По моей фантазии, она предназначалась для военных эшелонов. Упросить военных, чтобы нас взяли в поезд, и попасть на фронт сестрами милосердия, в лучшем духе стихов Благининой (и ещё кого?), напечатанных во время финской войны в «Мурзилке» и в той же серии «Книга за книгой».
Готовясь к побегу, мы (во всяком случае я) копили продукты: яблоки, печенье. В назначенный день получили разрешение нарядиться в зимние пальто, якобы для репетиции какого-то спектакля. Как же были перепуганы, озабочены наши взрослые, что готовы были выполнить любые дурацкие просьбы, лишь бы отвязаться. По-дурацки одетые, вернее, по-дурацки нагруженные (пальто мы тащили в руках, собираясь облечься в них уже на фронте, в разгар боёв), мы прошли четыре-пять кварталов в предполагаемую сторону, присели на поребрик, умяли все припасы, облегчив хоть частично свою ношу, и бесславно вернулись домой.
Тут подоспело первое сентября. Было несколько посещений школы. А потом мама была мобилизована как врач, и начались наши сборы в эвакуацию. У меня они как раз были полностью связаны с книгами. Поскольку с собой разрешалось взять только самое необходимое, то книги исключались категорически. Мои взрослые все «излишки» оставляли в запертой квартире, собираясь скоро (или не скоро?) туда вернуться. Я же почему-то решила свои книги, уезжая, раздарить. Откуда эта мысль? Я считала, что мы уезжаем «навеки»?! Или появился повод для красивого, как раз книжного жеста: раздаривание главных своих ценностей наиболее достойным… моя грусть… моя щедрость… их счастье… Две самых любимых книжки – «Золотой ключик» и «Доктор Айболит» по Гью Лофтингу – я подарила четырнадцатилетней Вальке Дудченко, младшей дочери той самой Марии Ивановны. Валька была писаной красавицей и признанной командиршей всей девчачьей мелюзги дома №17 от шести до десяти лет…
…Как весь этот романтический сценарий оказался разрушен, когда по нашем возвращении через полгода я если где и встречала остатки моих прекрасных книг, то в совершенно чужих руках и в совершенно непотребном виде. Но все-таки свою долю возвышенного общения с книжными сокровищами я получила, когда их раздаривала.
А теперь, пропустив в рассказе баржу, которая везла наш госпиталь из Ростова до Калача, посетив в Калаче книжный магазин и купив там две книжки: «Маугли» Киплинга и «Егорка» Петра Гаврилова (про медвежонка на военном корабле), я оказываюсь в товарном составе, вернее, в одной из теплушек, в которой персонал эвакогоспиталя следовал из Калача в Ташкент через немереные версты советской страны.
Про этот теплушечный быт написано много. Я тоже писала. Про нары, прибитые друг против друга в два этажа, на которых что? – спят?.. едут?.. живут?.. – по семь-восемь человек. На «нашей», верхней полке – мама, бабушка, я, врач Елена Яковлевна Воронина с дочкой Галей лет двенадцати, врач Лебензон с дочкой Аней семнадцати лет, врач Виккер с молодой, красивой женой, артисткой оперетты Варенькой. А Виккер спал на нашей полке? Или уходил на нижнюю, где ютились преимущественно мужчины? Но внизу жила ведь и какая-то женщина-врач с четырнадцатилетней дочкой Леной (фамилии их не помню, а может, вообще не знала). Полной ясности в системе заселения нар у меня нет. Помню, что верхнюю полку напротив занимали два семейства: экономист Сладков с женой, сыном Мишей и тещёй и политрук Плахотнюк с женой и сыном Витей. Оба мальчика – мои ровесники. А кто спал на второй нижней наре? Наверное, какие-то холостые мужики, раз я их совершенно не помню. Меня интересовали только дети, да и то не слишком. С Галочкой Ворониной мы быстро подружились, этого общения нам хватало.
Между нижних нар стояла чугунная буржуйка, которой теплушка обогревалась, на которой кипятили воду, чай, варили или грели еду (если её готовили на весь эшелон). И эту печку топили, выгребали, обслуживали как раз обитатели нижних нар, вот именно мужчины. Что ещё помню? Подушки, примёрзшие к стене вагона. Единственный за три месяца случай посещения бани. В Сызрани или Рязани? Вероятнее первое. А Рязань вскочила в память вопреки географии из-за буквы «З». Ещё вечные проблемы с естественными отправлениями. Один мерзкий антиэстетический случай до сих пор никому не смею рассказать. Зато живо помню ужас, когда на стоянках мы проползали под составами, чтобы посетить уборную. Ведь любой эшелон мог двинуться в любую минуту. И ещё была у меня заветная мечта в этом трехмесячном пути: чудом оказаться в «Новом Быте», в нашей квартире. Причем не в большой пятнадцатиметровой столовой с оранжевым абажуром, не в пятиугольной уютной спальне, где у меня свой собственный угол с книгами и игрушками. Нет! Я мечтаю поселиться в нашей уборной. Именно поселиться. Унитаз, если его накрыть дощечкой (пластмассовых крышек ещё не придумали), будет служить стулом. Перед ним вместо стола поставить табуретку. А спать можно прекрасно на полу… Ведь «Новый Быт» был спроектирован в 26-м или 27-м году зигзагами, которые служили максимальному использованию жилой площади. В результате в нашем туалете (и вероятно, во всех остальных), кроме полутора квадратных метров, на которых расположились унитаз и сливной бачок, оставался дополнительный пустой метр пола, когда входишь – налево. Может, архитектор предполагал, что туда хозяйка поставит какой-нибудь шкафчик. Или корзину с грязным бельём. У нас иногда ставили ведро для мытья полов, веник. А как бы я там удобно разместилась головой и боком, подстелив какую-нибудь ветошь, а ноги обернув вокруг унитаза. Который в таком случае всегда был готов к моим услугам. Какое фантастическое удобство! Какой совершенный комфорт! Для чтения, еды, сна, гигиены!.. Хочу на всю жизнь поселиться в нашем туалете!..
Интересно, а как представляли себе счастливую жизнь остальные обитатели теплушки? Что-то я таких разговоров на нарах не слышала. Зато помню азартные реплики наших женщин, когда, занавесив полку от остальных жителей парой простыней, они устраивали тотальную вошебойку. Елена Яковлевна Воронина, снимая лифчик приговаривала: «Вот волшебный он у меня. За все два месяца ни одной штуки в нем не оказалось. Вот взгляните», – и она раздвигает глубокий шов, а там сидят сразу три – серенькие, жирненькие, довольные жизнью… Все хохочут…
Всё бывало. Жизнь в теплушке складывается из множества забот. У врачей, у того же экономиста Сладкова, у политрука – какие-то служебные обязанности. Выполнять их они убегают на стоянках в штабной вагон, где застревают иногда на час, а то – на целый день. Ведь состав движется вне расписания и останавливается по воле случая. А вот случаи бывают чрезвычайные. Плахотнюку поручили на какой-то станции забрать недоданные в Сызрани и наконец-то догнавшие госпиталь продукты. В помощь себе он взял двенадцатилетнего сына какой-то врачицы из штабного вагона, Продукты Плахотнюк получил. Но пока они с мальчишкой пихали брикеты концентратов и пакеты сухарей в рюкзаки, наш состав тронулся, без гудка, без свистка, полным ходом. И политрук с мальчиком догоняли его десять дней всеми способами военного времени. Мать же пацана чуть не хватил за эти дни инфаркт.
А откуда бралось топливо для вагонных буржуек? А как поддерживался боевой дух сотрудников госпиталя? Вот это, наверное, была прямая обязанность Плахотнюка. Но мне почему-то видится, как моя мать читает лекцию (в смысле – рассказывает) о фашизме – варварстве XX века.
Это все про взрослых, про служащих. В смысле – про сотрудников госпиталя. Но ведь ехало несколько ещё так называемых «иждивенцев». Например, моя бабушка. Бабушка Мишки Сладкова. У них тоже забот хватало. Минимум комфорта и гигиены своим близким обеспечивали именно они. Без конца что-то штопали, зашивали. Пытались подтереть, застирать, простирнуть. О выстирать не могло быть и речи. О! Следить за детьми! Нужно было этим заниматься? Или мы уже были обузданы необычной обстановкой, необычным временем? Самим словом «война»? Скорее всего, так и обстояло дело. Потому что я не помню за все три месяца никаких конфликтных ситуаций в теплушке, связанных с детьми. Никуда мы не прыгали, никуда не лазали. Ничего не ломали, не ссорились, не дрались. И вообще почти не общались. Вернее, общались автономно, парами. Мы с Галей Ворониной на правой верхней наре, на которой спали. Мишка Сладков и Витька Плахотнюк – на левой. Четырнадцатилетняя Лена, которая спала с мамой внизу, каким-то образом участвовала в жизни взрослых. Перекрестный контакт за всё время случился один раз – на Новый год. Когда нам поставили маленькую елочку, Мы уже ехали на Север, через хвойные леса. Для ёлки мы сами изготовили жалкие украшения. Каждый прочитал какой-то стишок, а я даже пересказала из приложений «Мурзилки» новогоднюю историю. И подарки нам принесли из штабного вагона.
В обычные же дни не знаю, чем занимались Мишка и Витька, а на наших нарах было принято что-нибудь рассказывать друг другу. Главным зачинщиком оказалась Варя Виккер (или у нее была девичья фамилия, сохранённая для сцены?). Варя изложила сюжет не менее пяти оперетт, в которых пела в мирное время. Попутно напевая арии, разыгрывая сценки. Стыдно признаться – ничего не помню. Только песенку из «Принцессы доллáров» – так тогда произносили.
Диги-диги-диги-дон, доллáрчик,
Прячься поскорее в ларчик!
Диги-диги-диги-дон,
Он сулит мильон!
Безусловно, кто-то в кого-то влюблен! Вроде – разница в имущественном и социальном положении… нет… Дырка в голове.
Зато запомнилось, как бабушка моя рассказывает о лекциях, которые читал в 1913 году на «Курсах повивальных бабок» в Петербурге профессор Отт, лейб-медик Ея Императорского Величества. У него была теория, что пол будущего ребенка зависит от питания беременной женщины (вот откуда возник разговор – после очередного супа из концентрата). Он рассказывал, что знатные, богатые люди десятками лет не могут дождаться наследника. Ухоженные, перекормленные жены рожают только девочек. У нищих же крестьян и вечно голодающих китайцев – сплошные мальчики…
По-моему, я и Галя на эти воспоминания не приглашались – не по возрасту, дескать. Считалось – мы во что-то играем. Однако, не знаю, как у Гали, но мои ушки стояли на макушке. И я вспомнила этот рассказ в восьмидесятые годы, когда не только лейб-медика Александры Федоровны, не только самой императрицы не было в живых, не только моей бабушки, но и моей мамы. Я прочитала, что в Японии проходят удачные опыты по формированию пола у рыб путем подбора кормов. А французские ученые замахнулись на самого «царя природы». Они советовали мужьям, жаждущим сыновей, кормить жен белковой пищей, а мечтающим о девочках – фруктами, кондитерскими изделиями и ещё не помню чем. Но по их (ученых) диете. И начинать это всё до зачатия. Вот когда я оценила прозорливость старинного профессора. И заодно вспомнила, что мои дети вскормлены в материнской утробе именно по французской схеме: дочь – апельсинами, яблоками, деликатесами и сладостями, сын – пирожками с ливером, дешевой колбасой (так сложились семейные обстоятельства).
Но не будем уклоняться от нашей теплушки. Поговорим о том, что был у нас с Галей Ворониной действительно повод забираться вдвоём в укромный угол… Нет, я путаюсь в последовательности событий, забегаю вперед. Ведь я уже в Калаче держала в руках две новенькие книжки. С ними садилась в вагон и сразу в них влипла. Что называется, «одна другой лучше». «Егорка» – про медвежонка у краснофлотцев, очень мне понравилась. Как раз по возрасту, занимательная, жизнеутверждающая. Я её проглотила залпом. «Маугли» я тоже прочла быстро. Но совсем по-другому. Это был не только новый мир, необычный сюжет, удивительная информация. И что? Сочла ли я «Маугли» реалистической повестью? Я ведь уже где-то читала (или мне мама рассказывала? Нет, читала – вижу картинку) об индийских девочках, обнаруженных в волчьих логовах. И Сетон-Томпсон, явный реалист, позволял себе очеловечивать животных, приписывать им взамен инстинктов, интуиции, генетических навыков (а если не взамен, то плюс к) нравственные и психологически побуждения…
Так вот представьте себе – нет! Я не детским умишком – кожей почувствовала, что книга эта написана, чтоб чему-то меня научить. Сегодня я скажу, что «Маугли» – учебник философии. Тогда я и слова такого не знала. Да что там! Я и про учебник не думала, наслаждалась сюжетом, образами (ведь действительно – образы) И Багира, и Балу, и Каа, и Акела. Типажи, личности. Оторваться невозможно. И всё-таки. И всё-таки. Какое-то впитывание происходило. Какое-то нравственное воспитание, обогащение. Я приобретала знания… Но не как орехи собирать, не как от жары укрываться, не как остерегаться кобр и тигров… А выбирать друзей, хранить верность, помогать в беде…
Кстати, насколько серьёзно повлиял «Маугли» на мою личность я поняла, может быть, лет через двадцать, когда прочитала Киплинга почти полностью. И почувствовала, что он не только неутомимый создатель философских теорий, но и настойчивый их проводник. И в романах, и в рассказах, в «Книге Джунглей», и в стихах. В стихах – особенно. А я – его верный адепт. Во всяком случае, «Заповедь» с 1951 года хранится в моей главной записной книжке. Собственно, там перечислены все те же заветы, которым обучал человеческого детеныша Балу.
Но это всё – годы спустя. Тогда же осенью сорок первого в сумрачной, зябкой теплушке, среди шума и толкотни тридцати людей, стеснённая ими, задеваемая, отвлекаемая, я опять и опять погружалась в историю «Маугли». Влюблялась в Багиру. Ненавидела Шерхана и Табаки (по-разному, Табаки даже больше, потому что ещё и презирала). Повторяла, примеряя к своим жизненным ситуациям. «Мы – одной крови, ты и я!». Обдумывала – могла бы я полюбить гладкого, холодного, скользкого питона? (В мои понятия о любви все же входили ласка, соприкосновения, объятия.)
На несколько дней отдавала книгу кому-нибудь на прочтение: той же Гале Ворониной, Вареньке. Ане Лебензон. И снова втыкалась в неё по возвращении. Перечитала раза три. Подряд – от начала до конца. Выборочно: историю с промахнувшимся Акелой. Афоризм «Акела промахнулся» я беззастенчиво приватизировала и несколько раз попыталась поразить общество или собеседника (не знаю, насколько впопад) своей эрудицией. Но оказалось (правда, немного позже, при выходе моём в более начитанную аудиторию), что эта реплика давно взята любителями чтения на вооружение. Ещё нравились мне история с бандерлогами, сражение с рыжими собаками, жизнь в деревне, уроки Балу, водное перемирие. Эта книга была неисчерпаема. Я постоянно о ней заговаривала. И с Галей Ворониной. И с бабушкой. И с мамой.
Галя, с удовольствием прочитав «Маугли», сказала: «А вот я какую книжку этим летом читала!» – и дня два или три пересказывала мне «Тиля Уленшпигеля». Боюсь, что получалось у неё не очень хорошо. Плавного, последовательного движения событий не выходило. Оптимистического финала я вообще из её рассказа не помню (может, ей досталась какая-нибудь первая часть), но вот отдельные эпизоды: дьявол, являющийся Каталине, сожжение Клааса (значит, и «Пепел Клааса стучит в мое сердце»), рыбник, его вафельница с зубчиками – эти эпизоды, видимо, произвели на неё большое впечатление – и соответственно – на меня. Вытянув из Гали всё, что она знала об Уленшпигеле, и твёрдо решив добраться до этой книги при первой возможности, я опять взялась перечитывать то ли «Маугли», то ли хотя бы «Егорку». Но тут надо мной сжалилась мама: «Попробую тебе что-нибудь в штабном вагоне раздобыть». И принесла «Трёх мушкетеров». Это, конечно, было длинновато для восьмилетней девочки, несколько перегружено подробностями, деталями историческими и бытовыми, не всегда понятными. Но всё равно – интересно. И мне кажется, что непонятность этот интерес даже усиливала, интриговала что ли? Но, конечно, читались «Мушкетёры» куда медленнее «Маугли». А если напомнить, что свет плохой, вагон трясётся, тебя отвлекают, то уж никак не меньше недели.
И вот началось самое важное, переломное время в моей читательской биографии. Я раз и навсегда окончательно вошла в мир взрослых книг. Как и большинство моих сверстников в эти дни. Выбитые из нормальной жизни, оторванные от школы, детских библиотек, радио, кино, дворовых игр, короче – обычных времяпрепровождений, мы жадно накинулись на книги. Они заменили нам всё вышеперечисленное. Добывали их любым способом. Соглашались на любых авторов. На шедевры и на макулатуру. На тысячестраничные эпопеи и на брошюрки газетных фельетонов. Лишь бы занять свои мозги и подкормить своё воображение. Книга стала для нас такой же насущной потребностью, как еда. И поглощалась даже с большей жадностью.
В доказательство привожу список книг, прочитанных мной в теплушке. Ну, предположим, на первый месяц, когда мы устраивались, обживали теплушку, мне хватило «Егорки» и «Маугли». Да ещё Галиных рассказов об Уленшпигеле и Варенькиных либретто. А вот что попало мне в руки, а главное – в голову в короткие дни долгих двух зимних, холодных месяцев. Особенно холодных ещё и потому, что, доехав до Кызыл-Орды, мы, вместо Ташкента, повернули на Север (столица Узбекистана трещала от наплыва эвакуированных) и только в середине января ступили на твёрдую почву – в Вологде! Так вот, эти два месяца я, вместо того чтобы на непредсказуемых остановках изучать через быстро отодвигаемые и задвигаемые двери картинки нашей необъятной родины (нет, было-было: где-то в Средней Азии я увидела на какой-то станции навьюченного верблюда; а уже в северной стороне, когда кому-то что-то понадобилось выбросить из вагона, мимо меня впервые в жизни промелькнул заснеженный еловый пейзаж), – я, сидевшая напротив двери, уткнувшись в книгу, отводила взгляд с раздражением..
Это были (даже последовательность помню) «Три мушкетера», «Пётр Первый» Алексея Толстого, «Великий Моурави» Антоновской (два или три тома?), «Далёкие огни» Шолохова-Синявского, «Детство Пануки» Кофанова, «Принц и нищий» Марка Твена. И какой-то номер альманаха «Воронеж» – ни до, ни после невиданного и неслыханного мной издания. Так как это книги всем известные – и их содержание, и их объём, то вы догадываетесь, что скучать мне уже было некогда. Короткие перерывы между удачными мамиными экспедициями заполнялись тем, что я пересказывала Гале прочитанное. Задержать книгу, чтоб кто-то ещё в нашей теплушке её прочел, не получалось. На книги стояла очередь (в штабном вагоне? или среди маминых знакомых?). Значит, ещё оставались в это трагическое время, в этом вывернутом наизнанку месте люди с хронической болезнью – любовью к чтению. Это они, невзирая на приказ «ничего лишнего», взяли из дома книги, полагая их насущным. Это они ссужали их маме для её восьмилетней дочки. Давая при этом советы. Например, некий доктор Червинский, вручая «Принца и нищего», сказал: «А ты не боишься, что девочка, прочитав о жизни принцев, разочаруется в пролетарском существовании?» Интересно, это была шутка? Или серьёзная мысль? Высказанная сторонником Надежды Константиновны или её непримиримым противником?
Но, как бы там ни было, «Принц и нищий» была единственной книгой, подходящей мне по возрасту. Читалась удивительно легко и быстро. И кажется, благодаря этому, её успела прочитать и Галя Воронина, подстерегая каждую минутку, когда я была занята бытовыми обязанностями. Я, между прочим, тоже умудрялась отдельные эпизоды повторно просмотреть про себя и даже озвучить для бабушки. И кстати, впивалась в неё, каждый раз всю жизнь, если оказывалась под рукой. Детям и внукам покупала неоднократно, в каждую отпочковавшуюся библиотеку внедрила, каждому, едва осмыслившему, прочитала – то ли за обедом, то ли перед сном. При этом каждый раз испытывала то же удовольствие. А может быть, и большее. Я заметила, что детские книги, когда их читаешь во взрослом состоянии, производят особое впечатление. Особенно пропущенные. Ранее не встреченные. Так, я читала детям вслух в шестидесятые годы сказки Каверина, «Винни-Пуха», «Орден Желтого Дятла», «Питера Пэна», «Приключения Карлсона». Вдруг неизвестно откуда вывалившуюся повесть «О девочке Маше, о собаке Петушке, о кошке Ниточке» Введенского. Во мне как бы перезагружался некий вакуум, предназначенный для детского чтения, заполненный во время войны не только хорошими взрослыми книгами, но и всякой случайной посредственностью.
Однако именно с теплушечного времени я твёрдо знала: мне интересны все книги. В разной степени, с разных сторон, для разных целей. Но абсолютно все.
Хотя кто знает? Может эта всеядность торжествовала в военные годы по объективным причинам? Во-первых, вкус ещё не сформировался, во-вторых, возможности выбора не существовало. Ведь появились же со временем книги, которые я прочитывала со скукой, брезгливостью, и не то что не перечитывала, даже новые «шедевры» авторов отказывалась в руки брать. Но вот уж если взяла, то считала долгом одолеть. Образовалось такое внутреннее правило – из уважения к любому писательскому труду. Даже неудачному. В теплушке благодаря этой всеядности я «переварила» «Далёкие огни» Шолохова-Синявского. А, может как раз таки «переварить» не удалось. Потому что не помню абсолютно ничего – ни сюжета, ни одного действующего лица. Только зелёный цвет картонного переплета. Однако и она как-то встроилась в мою информационную копилку. Что-то я узнала о жизни людей, их отношениях. В частности, о том, что евреи между собой называют русских «гоями». А может, всех неиудеев? Значит, что-то там было о национальном конфликте? Или семейном, на почве национальности? И я эту деталь запомнила. А почему ничего более? Скучна была книга? Элементарно плоха? Значит, какой-то вкус у меня уже сформировался?
А вот кофановское «Детство Пануки» понравилось. Потому что про ребёнка? Или это действительно талантливый писатель? И кривая его судьбы поставила точку на его возможностях? Удивительно, что не показались мне скучными такие разные книга, как «Пётр Первый» и «Великий Моурави», несмотря на их пугающие размеры, ошеломляющую насыщенность историческими и бытовыми деталями. Наоборот… Эти подробности поражали, увлекали, сразу превращались в картинки, сценки, запоминались на всю жизнь. Ведь именно с восьми лет я представляю эту обстановку крестьянского быта петровских времён: детей, спящих покатом на печке, Саньку, выскакивающую во двор по нужде (как я ей позавидовала) в единственных на всех четверых ребятишек валенках. И благодаря роману Толстого я узнала о существовании царевны Софьи и Василия Голицына (эта личность мне почему-то запомнилась особо). И как-то встроилась в меня, выстроилась в правильной последовательности родословная Романовых после Алексея Михайловича. И ранняя смерть Федора Алексеевича, и тут же вспыхнувший стрелецкий бунт, и провозглашение двоецарствия, и два малолетних несмышлёныша-царька, чужими интригами воздвигнутые. И далее – их разная жизнь. Царь Иван, бледной тенью маячивший десятки лет на фоне Петра, но все-таки умерший своей смертью, успев породить будущую Анну Иоанновну, с ее Минихом и бироновщиной, о которой мне ещё предстоит прочитать «Ледяной дом» Лажечникова и «Слово и дело» Пикуля.
А из свадьбы юного Петра с Евдокией Лопухиной, из той курицы, которую жених рвет на части и вручает невесте, когда их оставляют наедине, народится царевич Алексей. И не только толстовский, описанный довольно бледно… да что это я?.. скорее всего, в сорок первом году Алексей Николаевич издал только первую часть романа, ещё не дошел до трагедии отца и сына. И я о ней узнала сначала, увидев в Третьяковке в сорок пятом картину Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе». А потом из трилогии Мережковского, которую я буду читать уже в старших классах. По частям… По томам… Добывая, разыскивая… Не всегда в правильной последовательности. Кажется, сначала «Леонардо да Винчи», потом «Юлиан Отступник». И только чуть ли не в пятидесятые годы «Христос и Антихрист». Но началось это особое погружение в русскую историю именно в теплушке.
А как упивалась я сплетениями взаимоотношений при царском дворе в книге Антоновской. Казалось, после насквозь авантюрного построения «Трёх мушкетёров», где политические, экономические, военные конструкции, выстраиваемые Ришелье, – только фон для стремительных, ярких приключений мушкетёров, медленная и дотошная история превращения крестьянского юноши в Великого Моурави должна утомлять. Ничего подобного! Как раз, вспоминая эту книгу сегодня, я с трудом восстанавливаю цепочку биографии главного героя: что-то про первую юношескую любовь к односельчанке, превратившейся позже в святую Нину. Образ Русудан – скорей мужественной, чем женственной, как и подобает супруге Великого Моурави… Сын, отправленный в заложники ко дворцу султана… Какие-то битвы… Пожалуй, всё. А главное впечатление – нескончаемые сети плетущихся при царском дворе интриг. Все эти оттенки взаимоотношений эристави и каталикоса. Эти тайные встречи. Эти публичные намёки и взгляды. Эти торжественные и тут же нарушаемые клятвы. Эти молчаливые, но неуклонно выполняемые договоры. Может быть, мой интерес к подробностям грузинской истории подогревался тем, что, побывав летом тридцать девятого года с бабушкой три недели в Батуми (плюс её рассказы о двадцати пяти годах, прожитых в Грузии), я считала, что хорошо знаю грузин во всём их блеске, красоте, гордости и мужестве. И вот сегодня узнаю – из каких корней такие характеры вырастают.
А что вычитала я в остальных книгах? Про занимательность «Принца и нищего» и про восхитительный юмор этого автора я уже писала… Но эта книга, а также «Детство Пануки» и альманах «Воронеж» подтолкнули меня к другому. Все три, хотя совершенно по-разному. Они обратили меня к ранее прочитанному. Заставили задуматься об авторах, их личностях, их творческих приемах, уровне их таланта. Конечно, не в такой терминологии, абсолютно неосознанно, импульсивно, по-детски. Но думать… Объясню через подробности.
Например, взяв в руки «Принца и нищего» я сразу вспомнила читанных «Тома Сойера», «Гекльберри Финна», «Тома Сойера – сыщика». Надеюсь, что заметила, поняла многие остроты, шутки великого американца. В общем, наслаждалась вовсю.
Читая «Детство Пануки», я немедленно вспомнила «Ковёр-самолёт». Выходит, знание автора уже входило в обязательный набор моих сведений о книге. Да, я ещё до войны знала не только имена Жюля Верна, Кассиля, Марка Твена, что «Муху-цокотуху», «Телефон» и «Путаницу» написал Чуковский, а «Человека рассеянного» Маршак, но даже что автор «Ясочкиной книжки» – украинская поэтесса Наталья Забило.
Однако в случае Кофанова мое обращение к прочитанному в Ростове «Ковру-самолёту» носило совсем другой характер, чем с Марком Твеном. Читать «Детство Пануки» было интересно, но я сразу оценила её скромнее «Ковра-самолёта». Хотя Панука был почти мой ровесник, а герой «Ковра-самолёта» – подросток. Хотя содержанием «Детства Пануки»… были как раз впечатления моего сверстника, его доступные чувства, мысли, порой почти параллельные. А в «Ковре-самолёте» разбирались тонкости психологических отношений подростка и его мачехи. Тема совершенно от меня далёкая. Но мне та книжка понравилась больше. Было ли дело в том, что герои «Ковра-самолёта» жили в наши дни, со всеми сегодняшними реалиями и конфликтами? А Панука – до революции, причем в северо-кавказской среде, с экзотическими особенностями, типа проезда эмира Бухарского. Как-то меня эта ориенталистика не воодушевила. А скорее всего, разгадка была в том, что свое детство Кофанов описал лет пятнадцать-десять назад (книжка была издана в тридцатые годы), а «Ковер-самолет» был куплен Юрием с пылу, с жару только в сороковом году. Выходит, я уже могла оценить рост писательского мастерства? Жаль, что не могу я заполучить сейчас эти книги и проверить свои предположения.
И, наконец, несколько слов об альманахе «Воронеж». Не помню, чем был заполнен стопятидесяти-стосемидесятистраничный журнал. И весь ли я стала читать? А вот два рассказа Полиена Яковлева сразу привлекли мое внимание. Ещё бы! Любимый писатель ростовчан! Автор читаного-перечитаного «Первого ученика»! А тут, в альманахе – два рассказа о Швабрине, главном антигерое повести. В «Первом ученике» учитель гимназии Швабрин носил прозвище Швабра и был совершенно однозначен. Являлся воплощением всех худших человеческих и профессиональных качеств. Со всеми положенными советской литературе преувеличениями и безапелляционностью. По сравнению с гимназическими учителями «Кондуита и Швамбрании» был совершенным монстром. Впрочем, в повести Полиена Яковлева были показаны и швабринские антиподы. Но всё равно, прежде всего он должен был олицетворять казённое бессмысленное дореволюционное образование. И с этой ролью справлялся. А поскольку книга была переполнена яркими сценками гимназического быта, выразительными характерами детей, то Швабрин, как глушитель мальчишеской жизни, успешно выполнял свою церберскую роль в несколько окарикатуренном виде.
В альманахе Швабрин вдруг оказывался вне сюжета повести, вне гимназической среды, в частной жизни одинокого, не слишком устроенного, малообеспеченного человека. Преодолевать сложности холостяцкого быта ему помогает приходящая прислуга. Она и обнаруживает, придя на работу, подброшенного на ступеньки младенца. Тут же успокаивает хозяина, что сейчас выполнит кое-какие срочные дела и отнесёт ребёночка в воспитательный дом. И вот пока она, всё-таки напоив, а может, и покормив чем-то ребёнка (подробности улетучились) занимается неотложными делами, Швабрин разглядывает крошечного мальчика (в гимназию ему не надо, день воскресный), и последовательно думает то о безнравственности тёмного народа, то о печальной (к сожалению) судьбе младенчика. То о каких-то своих житейских обстоятельствах, о планах молодости. О постигавших неудачах. Об их преодолении. О достигнутом если не благополучии, то равновесии, хотя бы душевном. То есть оказывается перед нами не схемой, не карикатурой, а вполне среднеарифметическим человеком, вызывающим как минимум сочувствие. И в этих блужданиях мысли Швабрин доходит до решения усыновить подброшенного младенца. И уже с умилением наблюдает, как прислуга перепелёнывает намокшего ребёнка в его старую простыню, кормит с ложечки теплым молоком. И представляет, как будет воспитывать из него честного, порядочного человека, может быть, как раз первого ученика, но уж во всяком случае верного сына царя и отечества.
Он сообщает о своем решении прислуге. Та удивляется и пытается Швабрина отговорить. Пугает сложными ситуациями. Он непреклонен. Но одна неприятность тут же случается. От молока или от чего другого у ребенка схватывает живот. И он кричит, как резаный. Женщина быстро одевается. Но Швабрин её останавливает. Однако кроме крика на него угнетающе действуют собственные мысли. Но ведь так может быть ежедневно. А как же вечерняя подготовка к занятиям? Проверка работ гимназистов? Отдых, наконец? А сколько понадобится расходов! Об этом ему рассказала прислуга. Кроватка, одежда, няня. А может, и кормилица? Рассказ заканчивается тем, что Швабрин в окно смотрит на удаляющуюся женщину с ребенком. И старательно придумывает оправдания для своего решения, которое, конечно, прежде всего продиктовано заботой о ребёнке.
Я, прочитав эти рассказы (второй тоже был посвящен частной жизни Швабры? или насчет двух – та самая «ложная память»? ), вопреки своему детскому возрасту догадалась: они напечатаны отдельно не только потому, что выпадают из сюжета «Первого ученика». Они – совсем другого стиля, жанра (конечно, такие термины мне в голову не приходили, я о них понятия не имела). «Что-то не то, другое» – вот ощущение. И слова «карикатура», «символ», «типаж», которыми я сегодня награждаю Швабрина из повести – тоже стали мне известны значительно позже. А вот одна самостоятельная, крамольная мысль, очень неопределенная, мелькнула: а совместимы другие отрицательные герои «Первого ученика» – например, Коля Амосов – под одной обложной с этим новым, жалким, ничтожным Швабриным? (Опять не мои слова тех лет, даже не мысли, а чувства, мною владели.) Может, у Коли были тоже свои обстоятельства, формировавшие противный характер, толкавшие к гадким поступкам. Если его разглядывать под микроскопом, как Швабрина в альманахе. А не выписывать чёрной тушью?
Конечно, сегодня я потратила больше времени и слов, чтобы описать свои впечатления от рассказов Яковлева, чем думала о них в конце сорок первого. Но вот эти крохи, облачка оценок, сравнений действительно вспыхнули, промелькнули, царапнули…
Закончу же я описание моего эвакуационного читательского опыта рассказом о том, как, валяясь с мамой и бабушкой по полу Вологодского вокзала, я заболела тяжелой ангиной, и меня приютила уже пристроившаяся в частном жилье тётя Рива Гольдштейн, которая служила в том же госпитале. Проболела я под её присмотром недели две (кстати, по своей гражданской специальности Ревекка Юрьевна была педиатром). И как раз в эти дни к ней из Курганской эвакуации приехала её дочь Валюша, теперь уже десятиклассница, моя водительница-руководительница по хорошей литературе. Хотя её библиотека в это время, как большинство личных книжный собраний, была брошена в ростовской квартире, она и тут подсунула мне книгу, явно опережающую мой возраст: «Грач – птица весенняя» Мстиславского (главный герой – Николай Бауман). Которую я проглотила уже естественным для меня «залпом». Тем более окружённая комфортом «постельного режима», тёплой комнаты, почти нормального питания. Царская атмосфера для погружения в книгу. Да и трудной она мне не показалась после «Петра Первого» и «Великого Моурави».
Но главная фишка в том, что впервые в моей жизни чтение сопровождалось разговорами о книге, её герое, авторе. Валюша интересовалась моими впечатлениями, сообщала свои. В том числе критические. Так я узнала, что к тексту печатного произведения дозволено предъявлять претензии… Чудеса… Несколько лет спустя мое знакомство с Валюшей, тогда уже студенткой филфака, продолжилось в Москве, и она очень поспособствовала моему литературному развитию.
А теперь ещё один эпизод из наших эвакуационных одиссей, связанных с моим плаванием по книжному океану. Когда в марте сорок второго мы вернулись в Ростов, то в первое время приютились у моей двоюродной бабушки, которая жила с парализованным братом в крохотной комнатушке на Станиславского («Старо-Почтовая», говорили моя бабушка, её сестра и брат). В собственной квартире мы почему-то жить не могли (не работал водопровод? отопление? Какие-то неведомые мне психологические обстоятельства?) У бабы Лиды в десятиметровой каморке нас элементарно некуда было положить, и двоюродная бабушка разместила нас в двухкомнатной квартире своих соседей, которые, уезжая в эвакуацию, оставили ей ключ. Мы обращались с этим чужим жильем очень деликатно – только ночевали, а днём героически теснились впятером в законной комнатке. И всё-таки… и всё-таки… я не утерпела… И сунула свой нос в десяток книг, приютившихся на соседской этажерке. Всех досконально я не перечислю, а только те, которые прочла.
Первая в моей жизни книга Лидии Чарской. Какая же? «Тасино горе»? или «Сибирочка»? Неважно. Главное, что первая. Впервые встреченный мной жанр дореволюционной книги для детей. А именно – для девочек-подростков. Которые в ближайшие месяцы вдруг полезут из бабушкиных, тётушкиных сундуков, в своих ярко-синих и ярко-красных с золотом переплетах и, потеснив Гайдара, Кассиля и Пантелеева, станут безусловным брендом на несколько лет. Особенно после введения в сорок четвёртом раздельного обучения, когда к традиционному патриотически-пионерскому вихрю примешаются нравы, правила института благородных девиц.
Куда с большим интересом прочитала я тоже дореволюционную, но уже переводную книгу – «Великий император и маленький паж». Думаю, что в это время я уже была заражена бонапартизмом, который потом развился во мне чрезвычайно. Но «потом» – понятно. От «Орлёнка» Ростана, от стихов Гейне, Беранже… А в сорок втором году?.. Наверное, «Воздушный корабль» Лермонтова (его стихами бабушка меня пичкала лет с пяти) имел одурманивающее действие даже в своих микроскопических дозах. И растрёпанная книга о Наполеоне прошла сквозь меня как по маслу. На автора я не взглянула. Да и содержание помню весьма смутно. Название его полностью исчерпывает. (Вот вам и автор – Э. Дюпюи. Снова из интернета.)
Но стояла (или лежала?) на этой этажерке книга, которая произвела революцию в моем сознании. Издание её было как раз послереволюционное. И я до сих пор не могу понять, почему её издали в советское время и с чего она оказалась у бабы Лидиных соседей? Это была фантастическая повесть Шамиссо «Приключения Петера Шлемиля». О человеке, потерявшем свою тень. Насквозь мистическая, насквозь пропитанная позднесредневековой философией, этой терпкой смесью христианства и язычества. Кто её читал до меня в этой безвкусной, мещанской, с претензией на буржуазность, квартире, с двумя пуфиками, с плюшевыми бомбошками на скатерти? С её владелицей я была знакома до войны. Она угощала меня шоколадной конфетой, выковыривая её длинными наманикюренными ногтями из коробки и приговаривала: «Ты таких никогда не ела. Настоящая «Южная ночь»! Мне конфета совершенно не понравилась. Ее фруктовая начинка абсолютно портила вкус шоколадной облицовки. Еле удерживая угощенье во рту, я выскочила на кухню и выплюнула «Южную ночь» в помойное ведро. Нет, эта тётка точно не стала бы читать эту замечательную историю Петера Шлемиля. (Так вот, оказывается, когда я догадалась, что у разных книг разные читатели. А у каждого читателя – свой круг чтения.) Шамиссо был «мой» автор. Повесть об утраченной тени в моей голове сразу заклубилась, спуталась с то ли ранее читанным, то ли собственными фантазиями. Наполнилась дополнительными персонажами, аналогичными ситуациями. К проданной тени присоединилось обменянное на возвращающуюся монету отражение в зеркале. И другие неразменные пятаки. Но ведь ни андерсеновской «Тени», ни шварцевской, никаких Стругацких я тогда ещё не читала. А последние ещё ничего не успели написать. Значит, это просто мгновенная влюбленность в жанр, желание поучаствовать в сюжете, интуитивно уловленная возможность ремейка (это слово, да и понятие я узнала лет через пятнадцать, но угадала его смысл), от простеньких михалковских «Новых приключений Кота в сапогах» через шварцевские пьесы – к «Мастеру и Маргарите», к фантасмагориям Стругацких.
***
Теперь крошечное отступление от темы. Но все равно – в ту же копилку пятачок. А может, и разменный рубль.
В первый военный год, который пришелся на мой второй класс, я посещала школу месяца три с половиной. В сентябре с пятое на десятое на фоне сборов в эвакуацию. И по возвращении из Вологды в конце марта – до двадцатого мая. Даже двух с половиной месяцев не набирается. Тем более полноценных. Третий мой класс попал, вернее мы попали, в немецкую оккупацию. Чуть больше месяца походила я в Ростове в немецкую школу (каким-то образом администрация оккупантов за этим следила). Потом два месяца посещала немецкую же школу в Ремонтном. И в городе, и в деревне на уроках занимались мы главным образом тем, что заклеивали в учебниках портреты и вычеркивали имена, а также якобы изучали немецкий язык (я за всё время запомнила одну фразу: «Анна унд Марта баден»). Так что настоящая учёба началась только с средины января, после возвращения наших. Значит, четыре месяца.
И, однако же, и второй, и третий класс я закончила на пятёрки или что-то вроде этого. Отчасти такие успехи можно объяснить тем, что вся программа третьего класса была скомкана, сокращена из-за оккупации и требования к нам предъявлены были весьма либеральные. Но во втором-то классе ростовские дети занимались полный год (за исключением одной недели), пока я разъезжала по стране Советов. Однако я от них не отстала. Скорее напротив. Читала с листа свободно любой текст. Сколько знала наизусть стихов! Могла пересказать самую толстую книгу. И пересказывала и «Принца и нищего», и сказки Оскара Уайльда, и «Путешествие Нильса с дикими гусями». Да и собственные впечатления, которыми я успела обзавестись, спешила изложить… А какие-то отрывочные сведения из истории, географии, естествознания, которые были рассыпаны по «Петру Первому», «Великому Моурави», «Трём мушкетёрам», «Детям капитана Гранта», «Охотникам за микробами», как-то сами собой выстроились в стройную систему, более чем достаточную для начальной школы. Что касается арифметики, то складывать, вычитать, умножать и делить в столбик – несложная наука. Как, впрочем, и запоминание таблицы умножения. Отточенные чтением мозги, готовы впитывать любые знания.