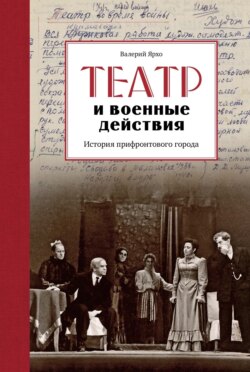Читать книгу Театр и военные действия. История прифронтового города - - Страница 14
Часть 1
Младший жрец провинциального храма Мельпомены
Возвращение новогодней елки
ОглавлениеОсобая статья в биографии Василия Васильевича Немова – устройство новогодних праздников. Не будет преувеличением сказать, что именно Немов и его сотрудники заложили основы традиций общественных новогодних праздников в Коломне. Как так получилось? Ну, это целая история, которую, к сожалению, все давным-давно позабыли.
Теперь в такое трудно верить, но факт есть факт – Новый год при советской власти стал праздником далеко не сразу. После Октябрьской революции 1917 года старые обычаи российской жизни краснознаменные культуртрегеры подвергли привередливой ревизии, признав большинство из них никуда не годными. Особенно это касалось праздников, связанных с церковным календарем или событиями имперской истории. Попытка заменить их новыми, наспех организованными, удалась не в полной мере. Успешно прижились, укоренившись в укладе советской жизни лишь два праздника – Октябрьской революции, в просторечии Октябрьская, и праздник «День Интернационала», позже переименованный в «День солидарности трудящихся всего мира», отмечавшийся 1 мая, отчего и прозванный в народе Первомаем, – чему были особые причины.
Во-первых, 7 ноября и 1 мая объявлялись нерабочими днями. Во-вторых, конечно, особенная, ничем неповторимая атмосфера праздника, с его массовыми и повсеместными демонстрации трудящихся, реющими над колоннами шествий знаменами и транспарантами, громом духовых оркестров. Митинги, концерты и торжественные собрания, приуроченные к праздничной дате. Иллюминация улиц. Большие домашние застолья, собиравшие родню и друзей. Поздравительные открытки. Подарки. Все эти события сильно выделяли Октябрьскую и Первомай из обыденной действительности.
В-третьих, и это было особенно важно для многих, обычно перед 7 ноября и 1 мая объявлялась амнистия. Тех, кого не считали «социально опасными», – осужденных по «бытовым и хозяйственным» статьям УК, а также уголовников, «твердо ставших на путь исправления», – отпускали на волю или сокращали им срок наказания. Так что и за решеткой, и на воле многие ждали очередную годовщину революции или день солидарности трудящихся с особой затаенной надеждой.
Новый год официально не праздновался. Но в начальный период советской власти частным образом, в кругу семьи, не возбранялось праздновать что угодно. Сам товарищ Ленин, живя в Горках, для детишек из окрестных деревень устроил новогодний праздник с нарядной елкой, гостинцами и всем чем положено, что запомнилось ему самому с детства. Но в конце 20-х годов начала набирать обороты политическая кампания, ставившая целью искоренить любые формы религии на территории СССР. Одной из жертв «Воинствующих безбожников» – организации, шедшей в авангарде «борьбы с религией», – стал Новый год и детский праздник вокруг нарядной елки. В новогодних вечеринках и украшенных елках партийные идеологи советской власти подозревали попытку скрытно праздновать Рождество, что рассматривалось в лучшем случае как «проявление мещанства», а в худшем – как противопоставление идеологии социалистического строительства. А это, знаете ли, была очень опасная формулировочка, применение которой могло увести туда, где елочек очень много, а всего остального совсем мало.
Спасти советских детишек от «религиозного дурмана» пытались, публикуя такие вот опусы: «Ребят обманывают, что подарки им принес Дед Мороз. Религиозность детей начинается именно с елки. Господствующие эксплуататорские классы пользуются “милой” елочкой и “добрым” Дедом Морозом для того, чтобы сделать из трудящихся послушных и терпеливых слуг капитала»[34].
В предпраздничные дни школьников выводили на демонстрации под лозунгами: «Родители! Не сбивайте нас с толку, не устраивайте поповскую елку!», «Мы с тобой враги попам, Рождества не надо нам!» и так далее и тому подобное. За празднование «поповской елки» школьников исключали из пионеров и комсомола. Уличенным в том же грехе взрослым грозило неприятнейшее объяснение в парткоме, а то и взыскание «по партийной линии». Времена такие были – с теми, кого подозревали в идейной ущербности, особо не церемонились.
Все изменилось как-то так вдруг и сразу, после того как газета «Правда» от 28 декабря 1935 года опубликовала небольшую заметку, озаглавленную: «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!», подписанную секретарем ЦК ВКП(б) и кандидатом в члены Политбюро ЦК товарищем П. П. Постышевым. Смысл заметки сводился к тому, что-де негоже отдавать буржуям и «всяким там» такой замечательный праздник, как Новый год. Надо, сохранив форму праздника, наполнить его иным идейным содержанием и праздновать самим на доброе здоровье.
Уже через три дня после этой публикации в «Правде» вся страна отмечала первый советский Новый год. Пока наскоро и неумело. Но традиции ночного новогоднего застолья сформировались очень быстро, хотя организовать их было не так просто. В то время, когда «реабилитировали Новый год», в стране еще действовала «непрерывка» – так называли систему непрерывной работы всех предприятий и учреждений.
Весной 1930-го постановлением специальной правительственной комиссии при Совете труда и обороны был введен единый производственный табель-календарь. В календарном году предусматривалось 360 дней и, соответственно, 72 «пятидневки». Остальные 5 дней было решено считать праздничными.
Все трудящиеся разделялись на пять групп – «желтую», «розовую», «красную», «фиолетовую» и «зеленую». Группа каждого цвета имела свой собственный «нерабочий» день[35]. Выходных дней стало больше – один через пять вместо одного в семидневную неделю, как раньше. Но многие супруги и родители, попав в разные «цветовые группы», у которых «нерабочие дни» не совпадали, практически перестали видеться друг с другом и своими детьми-школьниками. Работая и учась посменно, с разными днями отдыха, члены иных семей дома вместе не сходились целыми месяцами. Семейные узы и родственные связи стали распадаться. Отношения домочадцев, объединяемых «пропиской на одной жилплощади» и ведением «общего хозяйства», постепенно переходили в заочную форму. Не имея возможности общаться напрямую, люди все чаще использовали записки, оставляя их «на видном месте»[36].
Частично «непрерывку» отменили еще в 1931 году, но полностью от нее не отказались. Поэтому новогодняя ночь стала третьим праздником – наряду с Первомаем и ноябрьскими днями празднования годовщин Октябрьской революции, – когда у «разноцветных» советских людей появились повод и возможность собираться вместе, всей «большой семьей», за хорошо накрытым столом.
К празднику готовились загодя, подкапливая продукты, закупая сладости, подарочки, позволяя себе потратиться на что-то такое, чего потом, до другого Нового года, уже не покупали. Шампанское, например. Игристые вина стали символом новогоднего застолья. Чисто символическое присутствие бутылочки «шипучего» было обязательным, хотя большинство советских людей, не склонных к аристократическим привычкам, предпочитали «очищенное хлебное вино» и пиво. Но в новогоднюю ночь правила были особые, и им приходилось подчиняться, покупая вовсе не дешевое вино, чтобы разлить его в полночь по фужерам, которые тоже из серванта доставали едва ли не раз в год. Во всем заключалась некая радостная особенность, выделявшая новогоднюю ночь из всех остальных.
Выходным днем 31 декабря не объявляли, а потому веселая предпраздничная суета начиналась вечером, уже после работы. Разрешенную теперь елку нужно было купить или как-то иначе достать, а то и из лесу привезти, дома установить да надежно закрепить, чтобы не упала.
Елочные игрушки для ее украшения делали сами – промышленность их еще не производила в достаточном количестве, а если они и поступали в продажу, то стоили довольно дорого. Далеко не каждая семья могла себе позволить такую роскошь, как полный комплект всяких там фигурок, шариков и бус.
Обычно пару-тройку фабричных игрушек или чудом сохранившихся от «старых времен» елочных украшений дополняли разными домашними заготовками. Елки иллюминировали самодельными цветными свечками в специальных «блюдечках-розетках» с прищепками. Их крепили к веткам елки и зажигали в новогоднюю ночь, погасив общий свет. Получалось очень романтично, но чертовски пожароопасно. В Новый год у пожарных прибавлялось работы – несколько елок обязательно сгорали. Иногда вместе с домами или квартирами.
Чем еще украшали советские елки? Вырезанными из бумаги снежинками, гирляндами, склеенными из разноцветных бумажных колечек. Эта традиция сохранялась свято, особенно в детском саду и младшей школе, где детей усаживали готовить украшения недели за две до праздника. Навык этот очень потом годился во взрослой жизни, когда приходила пора украшать елки уже для своих детишек. В домах позажиточнее на елку вешали конфеты в ярких обертках и ярко-рыжие мандаринки, чудесно смотревшиеся среди зеленой хвои. Где победнее, там обходились фигурными пряниками, яблочками и орехами, завернутыми в «серебряную бумагу», как тогда называли фольгу. Смешавшиеся запахи ели и ее «съедобных» украшений создавали те самые, неповторимые в иные дни, «новогодние ароматы» в доме. Их потом вспоминали долгие годы «после детства».
Пока одни занимались елкой, другие готовили угощение и запасали напитки. Дело было у каждого. Все ощущали радостный душевный подъем ожидания необычного праздника. Последние часы года в кутерьме приготовлений летели незаметно. В двенадцатом часу садились за стол и выпивали «по первой-второй», провожая старый год. В полночь, ориентируясь по домашним часам, гасили свет, на елке зажигали свечи и при этой сугубо новогодней иллюминации поднимали тосты, желая друг другу всяких благ и здоровья в наступающем году. Выпивали, закусывали, пели и танцевали. Веселились до утра.
34
«Материалы к антирелигиозной пропаганде в рождественские дни», 1927 г.
35
Помните, как в фильме «Волга-Волга» появлялись титры «Шел третий день шестидневки», обозначавший хронологию плавания в Москву делегации на пароходе «Севрюга»? Так это вот и было оно самое, отсчет времени по табель-календарю.
36
Выручало то, что стесненные перманентным «жилищным кризисом» – этим постоянным фактором жизни советских городов – люди жили большими семейными кланами, несколько поколений вместе. Все тяготы устройства быта и воспитания детей ложились на неработавших стариков-пенсионеров.