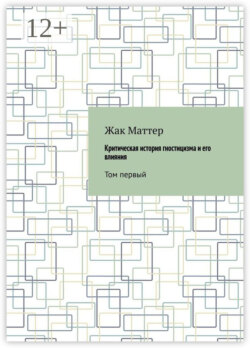Читать книгу Критическая история гностицизма и его влияния. Том первый - - Страница 4
Введение
ОглавлениеКогда человек без всяких предубеждений рассматривает различные религиозные и философские системы, предшествовавшие утверждению христианства в мире, он остается настолько пораженным простым и величественным превосходством его доктрин, что уже не знает, какое происхождение им приписать, кроме того, которое они сами себе приписывают. Основатель этой новой системы передает ее с уверенностью, которая так позитивна и так чиста, так чужда всякого рода сомнений или гипотез, рассуждений или софистики; его ученики излагают ее перед врачами Палестины, мудрецами Греции, учеными Египта и священниками Рима с такой восхитительной откровенностью; И так блестяще эта система положила конец долгим дискуссиям, разделявшим святилища и школы древнего мира, что прямое влияние Высшего Существа, если его можно увидеть где-либо в учреждениях людей, должно быть признано в этой религии, которая объединяет истины, разбросанные по всем другим, и представляет их свободными от всего, что изменило их в других местах. Дело не в том, что христианство предлагает нам решение проблем, которые так долго волновали святилища и школы и будут волновать их до тех пор, пока человеческий дух обитает не в том регионе, который он по праву считает своей истинной родиной; Но на место каждой проблемы он ставит веру, которой человек может гордиться больше, чем любой другой верой; и если в древних дискуссиях он отделял заблуждение от истины с помощью божественного авторитета, то здесь он облекает последнюю в двойную печать разума и откровения. Она проявляет себя как высшая философия в том, что, придя на смену многим другим, больше не пытается метафизически установить то, что метафизика установить не может, и в том, что она дает во имя откровения то, что может дать только откровение.
Если христианство ставит человеческий дух выше умозрений метафизики, то оно также возвышает его над мифологией, и этим оно представляет собою универсальную религию, доступную для интеллекта всех степеней, снижающую все барьеры каст, святилищ, климатов, национальностей и священства, и приспосабливающуюся, как и сам человек, к обычаям всех стран, к установлениям всех веков.
Однако чем сильнее человек привязывается к христианству, тем больше он должен ценить чистоту его доктрин и с ревнивым любопытством следить за тем, как оно развивалось на протяжении веков и как боролось с учениями, противоположными его собственным.
Ни одна система не может защитить себя от развития или уберечь от влияния. Для доктрин, как и для наций, жить – значит меняться, а человеческий дух настолько активен и жизнелюбив, что не может оставить ничего из того, что он сделал, как есть. Более того, он не только презирает свои собственные творения, но и, подчиняясь высшим откровениям, которые он не желает и не может превзойти, создает в них свою собственную область и постоянно меняет формы этой области, как бы утешая себя бессилием изменить свою сущность. Всегда, по прошествии определенного времени, доктрина, которая казалась ему состоящей из столь же многочисленных аксиом, сколь и утверждений, оказывается, не зная, кто в этом виноват, если не курс, предписанный для человеческих вещей самим человеком, который был ее автором, На смену доктрине, элементы которой, возможно, все те же, но которая уже не ограничена прежними рамками и приобрела столь новые формы, что если и не является реальностью творения, то, по крайней мере, создает видимость прогресса.
Приведем лишь один пример из истории систем: мозаицизм, в котором, как и в египетском законе, заложен принцип исключения, на протяжении своего существования объединялся со всеми доктринами, с которыми ему приходилось сталкиваться. Если благодаря исследованиям своих мудрецов она обогатилась всем прекрасным, что предлагали ей Египет и Азия, то в результате заблуждений людей она была изменена всем нечистым или соблазнительным, что имели языческие нравы и суеверия. Мозаика была иной во времена Давида и Соломона, чем во времена Моисея и Арона, иной во времена Даниила и Филона; и она могла быть иной без противоречий, не отрицая своего жизненного принципа – постоянного, то есть прогрессивного откровения.
Любая религиозная доктрина, верящая в вечность или претендующая на нетленность, должна исповедовать тот же принцип, а любая философская доктрина, желающая иметь будущее, должна провозглашать постоянные метаморфозы. Действительно, если создатели доктрин полностью верят в свое дело, то этого нельзя сказать об их последователях, которые после очарования первого энтузиазма вскоре понимают, что система, чтобы быть единой, вынуждена исключить большое количество фактов и истин, которые не могут быть согласованы с ее принципами или объяснены ее гипотезами. Как только это открытие сделано, разум отделяется от доктрины, или дополняет ее своего рода синкретизмом, или отступает под власть процесса, который с тех пор, как существуют философы и системы, всегда путает философов и системы и ставит на место того, что они выдают за абсолютную и исключительную истину, некоторые мнения, некоторые убеждения и некоторые гипотезы, которые он имеет привычку скрывать от всех и предлагать всем.
Это и есть эклектика, которая всегда заполняет промежутки между одной системой и другой и которая отличается от всех других тем, что всегда сохраняет за собой, в отношении того, что является исключительным, право сомневаться во всем.
Поэтому ни одна доктрина не должна льстить себе тем, что она достаточна для умов людей, если она не утверждает, что она совершенна путем откровения или постоянной метаморфозы.
Именно незнание прогрессивного процесса, этого закона всего сущего, именно принцип изоляции и исключения привел к краху все доктрины, предшествовавшие христианству, будь то религиозные или философские. Напротив, именно принципы прогресса путем внутреннего откровения, без какого-либо исключения для естественного прогресса разума, придают христианству характер вечности и универсальности и, поставив его над всем, что ему предшествовало, поддерживают его над всем, что поднималось рядом с ним.
Она также одержала победу над целым рядом систем, выходящих из нее или образовавшихся рядом с ней, одни из которых вели против нее самую оживленную войну, другие грозили поглотить ее в своих кораблекрушениях, а третьи в конце концов обогатили ее своими трофеями.
Мы взялись изложить историю одной из этих битв, даже самой опасной, ибо это история тридцати или сорока сект, смело создавших свои школы в противовес христианству; это история тридцати или сорока сект, вышедших из рядов первобытной церкви и боровшихся с ней с помощью доктрин, которыми она их снабдила, и систем античного мира.
Если христианству с самого начала пришлось выдержать столь ожесточенную борьбу, то главной причиной этого была сама щедрость его принципов. Оно приглашало все народы вступить в свои ряды; оно не ставило никаких ограничений для своего универсализма, кроме человеческих. Все самые возвышенные надежды, которые только могли возникнуть у самого смелого философа и самого любящего тайны священника, он утверждал как догмы. С этого момента в его святилищах и школах стали появляться представители всех наций и элементов всех систем. До сих пор религиозное законодательство повсеместно ограничивалось одним народом и первоначально сталкивалось только с одним учением, которое оно заменяло: христианство, обращаясь ко всем, кто до сих пор претендовал на империю разума, должно было вызвать еще большее брожение и сопротивление.
Кроме того, христианство вступало в мир в одно из самых благоприятных для своих притязаний времен. Все сложившиеся системы сближались; общая усталость овладевала умами людей и побуждала их предаваться синкретизму, который уже давно готовила экспедиция Александра, за которой последовали более мирные начинания, установление в Азии и Африке нескольких династий и большого числа греческих колоний.
Действительно, со времени перекрестка народов, возникшего в результате войн Александра в трех частях света, доктрины Греции, Египта, Персии и Индии повсюду встречались и сливались. Все барьеры, ранее разделявшие народы, были опущены, и если народы Запада охотно соединяли свои верования с верованиями Востока, то народы Востока спешили усвоить традиции Греции и уроки Афин. Чем дальше греки отходили от своих древних мистерий, тем сильнее они ощущали желание узнать, что древняя мудрость Персии и Индии могла бы утвердить как самое прекрасное в этом мире разумов, из которого, как всегда считалось, человек пришел и в который он хочет вернуться. Они чувствовали эту потребность именно потому, что достигли той степени развития науки, когда у человека нет более высокого вопроса, чем этот. Поэтому философы Греции, я хотел сказать – платоники (ибо в эпоху христианства все философы, за исключением учеников Эпикура, были в большей или меньшей степени платониками), вскоре с жадностью ухватились за верования Востока, ожидая, что они придут и попросят у христианства то, что тщетно искали повсюду. Народы, ранее исповедовавшие самые исключительные принципы, евреи и египтяне, сами подчинились эклектизму, господствовавшему у их хозяев, греков и римлян, и эта неверность своим древним привычкам так хорошо подготовила человеческий род к широким принципам христианства, что, как только оно появилось в мире, оно воздвигло свои обители на берегах Евфрата и Ганга, Нила и Тибра.
Самыми выдающимися из его прозелитов были люди, уже искавшие истину в нескольких святилищах или в нескольких школах.
Принимая религию, которую они предпочитали всем остальным, они намеревались, несомненно, из лучших побуждений, отказаться от последней и исповедовать в простоте систему, которая пленяла их разум; но под влиянием синкретизма, под властью привычек ума и сердца, которые были сильнее их собственной воли, они смешивали сначала сдержанно, а в конце концов с гордостью, старое и новое, христианство и философию, апостольское учение и традиции мифологии. Люди, принимающие данную им религию, по крайней мере, принимают ее в том виде, в каком она им предлагается; но человек, привыкший к первой системе, редко способен принять другую во всей ее чистоте: такая череда нравственных метаморфоз дается лишь немногим умам; легче быть эклектиком. Эклектики христианства были эклектиками, одни с опаской, другие смело. Последние убеждали себя, что их долг – заполнить пробелы, которые могут существовать в этой религии; а их преемники, еще более смелые, утверждали, что в целом писания апостолов неполны, что догмы изложены лишь в зародыше и что они должны получить из рук философии не только систематический порядок, которого им недостает, но и все развитие, которое они влекут за собой.
Позже другие врачи, верные древним традициям святилищ и школ, перенесли в христианство эту линию разграничения между эзотерическим учением и экзотерической доктриной, которую новая система должна была уничтожить. Таким образом, они восстановили перед святая святых завесу, некогда разделявшую мастеров и вульгарных людей, завесу, которая, как показало христианство, была разорвана в процессе выполнения миссии его основателя. «Труды апостолов, – говорили синкретисты с энтузиазмом, который так хорошо сочетается с самозванством и скрывает его от самих себя, – могли указывать только на статьи вульгарной веры1, когда они были адресованы всем; напротив, они передавали тайны науки высшим умам, избранным». Эти тайны, как утверждалось, передавались из поколения в поколение в эзотерических традициях2, и, заимствуя для обозначения этой науки слово «гнозис», которое апостолы использовали для обозначения превосходства знания, которое дает откровение, они искусно приукрашивали утверждение, что получили его от учеников этих выдающихся людей. Это был большой соблазн для простых христиан. Другое дело, что философы язычества заимствовали у древних школ, деливших своих приверженцев на несколько классов, идею двойного учения.
Однако гностики не ограничились пустым разграничением; они действительно создали учение, отличное от вульгарного, и изложили его с такой смелостью, что история человеческих спекуляций уже не предлагает ничего подобного их концепциям. Действительно, выходя за пределы чувственного мира, они претендовали на погружение в лоно мира интеллектов и в бездну божественной силы, из которой исходят все существа, несущие небесный луч, и в которую, по их утверждению, все существа должны однажды вернуться.
Когда, по их словам, доктрины апостолов противоречили тем, которые гностики черпали из Платона или Филона, из Зенд-Авесты или Каббалы, исторические комментарии и пастырские послания основателей христианства были усечены, интерполированы и фальсифицированы; и хранителям эзотерического учения, ключа к тайнам, предстояло восстановить изначальную чистоту текстов. Некоторые из них провели эту так называемую реставрацию, используя самые произвольные процедуры.
Гнозис или гностицизм, происхождение, разновидности и влияние которого на другие современные системы мы сейчас опишем, был, таким образом, не чем иным, как введением в лоно христианства космологических и теософских спекуляций, составлявших наиболее значительную часть древних религий, в сочетании с египетскими, греческими и иудейскими доктринами, которые, в силу своей серьезности, имели наибольшее сходство с христианством, и которые новые платоники также приняли на Западе.
Не стоит возражать, что в этом случае гностицизм был не более чем своеобразной мозаикой, составленной из наиболее примечательных догм всех этих систем. Сравнивать произведения разума с произведениями вульгарного механизма – это всегда плохое обращение с разумом; и было бы особенно некрасиво по отношению к необыкновенной смелости гнозиса рассматривать его с этой точки зрения.
Гностицизм не является оригинальной системой, и его можно оспорить как философскую систему; но из всех доктрин, созданных древним миром, он является самым богатым и смелым. Это не один из тех сводов логических аргументов, к которым нас приучили греки, сформировавшие Запад; это восточная метафизика, система древних интуиций. Ее дух формируется не принципом выхода за пределы чувственного мира и создания умопостигаемого мира, объясняющего историю или драму; это принцип не сомневаться ни на мгновение, никогда не опускаться до диалектики. Мистицизм до христианской веры имел тот же характер; но он породил лишь мифологию и символизм, которые оставили все загадки. Гнозис отвергал все формы и традиции, которые не предлагали решений; какими бы веселыми, изящными и возвышенными они ни были, если они ничему не учили, он попирал их ногами с тем серьезным и серьезным духом, с которым христианство учило мир, со всей антипатией к софистической аргументации, которую оно противопоставляло школе Сократа, как та противопоставляла его другим. С одной стороны, он избегал антифилософских аспектов мифологии; с другой – антидогматических аспектов философии. Гнозис объединил некоторые из самых сильных верований христианства с учениями Востока, Египта и Греции, и представил ряд догм по всем вопросам, которые может охватить человеческий разум, принципы которых спорны как для философа, так и для христианина, но которые мощно взаимосвязаны и авторитет которых был огромен. Основополагающими учениями гностицизма являются эманация всех духовных существ из лона Бога, постепенное вырождение этих существ от эманации к эманации, искупление и возвращение всех к чистоте Творца, и, как только первобытная гармония всех восстановлена, счастливое и поистине божественное состояние всех в лоне Бога. Уникальная смесь монотеизма и пантеизма, спиритуализма и материализма, христианства и язычества, эта система ничего не оставляет без внимания.
Понятно, что ее точка зрения не допускает рассуждений, свойственных западному уму; ее доктрины диктует гений Востока с его созерцаниями, иррадиациями и интуициями. Она обладает всем великолепием, всеми недостатками и всей подвижностью образного стиля, и в ее к счастью быстрой судьбе, ибо она была не более чем большим анахронизмом, не раз случалось, что ученики утверждали в качестве общепринятой догмы то, что для мастеров было не более чем аллегорией.
Такова, как правило, судьба систем, зародившихся в Азии и Африке3.
Кроме того, для некоторых умов нет ничего более соблазнительного, чем такого рода спекуляции. Действительно, гностицизм имеет такой двойной характер: его не останавливают никакие авторитеты, никакие трудности. Он с состраданием относится к религии вульгарных людей: она хороша для нищих духом, которые не могут подняться выше грубой буквы, написанной по-иудейски и истолкованной по-иудейски. Он презирает вульгарную философию, которая, по словам ее величайшего толкователя, знает только одно, а именно то, что она ничего не знает, потому что рассмотрела все с двух сторон. Он объясняет не только, что такое вещи, но и как они появились. Вернее будет сказать, что он не объясняет, а показывает. Смотрите, – говорит он, – смотрите, как из огромного средоточия света исходит свет, распространяя повсюду свои благотворные лучи: так духи света исходят из божественного света4. Видите также, – взывает он, – все источники, питающие землю, украшающие, оплодотворяющие и очищающие ее; они исходят из одного необъятного Океана: так из лона божества исходят столь многие реки5, образуя и наполняя мир интеллектов6. Посмотрите, – говорит он, – на числа, которые все происходят от первобытного числа, все похожи на него, состоят из его сущности и при этом бесконечно разнообразны; посмотрите на голоса, которые разбиты на столько слогов и элементов, все содержатся в первобытном голосе и при этом разнообразны без всякого предела7: вот как мир интеллектов происходит от первобытного интеллекта, как он похож на него и при этом предлагает бесконечное разнообразие существ.
Это не христианство, и это не одна из известных систем.
Поэтому гностицизм – такая же оригинальная доктрина, как и любая другая. В действительности, как и все системы, он является продуктом совершенно особого набора идей и потребностей8.
Этим объясняется количество его последователей и разнообразие его ответвлений.
Какое-то время гностики были настолько многочисленны и могущественны, что грозили вторгнуться во все христианское общество; и чем большим энтузиазмом и знаниями они обладали, тем легче они привлекали простые умы и смущали даже тех, кто не был таковым. Если они и уступили силе учения, на исправление которого претендовали, то только после шести веков борьбы и под воздействием самых строгих законов; но и после этого они оставили после себя множество следов, так как гностицизм окончательно угас только в тринадцатом веке нашей эры.
В истории религиозной и философской древности, как мне кажется, нет более любопытных вопросов, чем вопросы о зарождении, развитии и учении различных школ, и если нам удастся выяснить их истинное происхождение, основополагающие принципы и моральное или политическое влияние на мир, мы, возможно, прольем новый свет на те века, чьи интеллектуальные труды сегодня несколько презрительны, но которые по-прежнему представляют собой самое впечатляющее зрелище, способное поразить человеческий разум: древний Восток, древний Запад и христианство в борьбе. Действительно, это великое зрелище – видеть, как высочайшие учения Азии, Египта и Греции подвергаются нападкам и низвергаются христианством; затем старые доктрины мира, воскрешенные гностиками, борются с победителем и перенимают некоторые из его принципов, чтобы лучше бороться с другими; наконец, Церковь привлекает против них труды своих врачей, собирает на соборы своих самых выдающихся епископов, вооружает строгостью своих самых могущественных князей.
Бой был серьезным. Прежде всего, она давно готовилась.
Ее подготовили: зороастризм, соединившийся с иудаизмом в Персии и породивший каббалу в Сирии; иудаизм, связавшийся в Египте с платоновскими доктринами и породивший греко-филоновскую философию; наконец, эта философия, вторгшаяся в христианство и принесшая ему свой язык и часть своих идей.
Гностицизм, по сути, есть не что иное, как последний облик античного мира, пришедшего сразиться со своим преемником, прежде чем уступить ему человеческий род.
С тех пор как современная Европа стала искренне интересоваться античностью, несколько выдающихся писателей занимались гностиками. Ле Нен де Тиллемон9, Бособр10 и Мосхайм11 первыми опубликовали солидные научные труды по их доктринам. Завоевания, совершенные после них в Азии и Африке, открытие Вед, Зенд-Авесты, Кодекса назареев и нескольких подобных сочинений12, однако, выставили древние доктрины Востока в таком новом свете, что перед гностицизмом открылась новая карьера, и вскоре, начиная с этой второй эпохи, последовала новая серия важных сочинений о гностиках, сменяющих друг друга. Мы упомянем лишь труды господ Левальда13, Неандера14, Хана15 и Фульднера16, которые вызвали ряд очень интересных критических замечаний17. Кроме того, среди работ, посвященных истории философии или христианства, были и такие, в которых гностикам уделялось особое внимание18.
Однако, несмотря на всю помощь, которую смогли оказать вновь открытые источники, в истории гностицизма по-прежнему оставались огромные пробелы. Настоящие источники, труды гностиков, были полностью утрачены, за исключением нескольких фрагментов, сохраненных их противниками, и в плане текстов мы были сведены к полемическим произведениям Отцов.
Нет такой доктрины, которая согласилась бы судить о себе на основании подобных документов: Ибо, каким бы щедрым ни был противник, он не представляет и не может представить свое дело как убежденный человек; и что приятно в системе, при отсутствии более сильных аргументов, так это вера или, по крайней мере, добрая вера, очарование которой исчезает под пером противника.
Что касается ученых и благочестивых антагонистов гностиков, то они не только не имеют привычки опираться на источники, большинство из которых более поздние, чем доктрины, с которыми они борются, но и говорят открыто с враждебностью, которой они хвастаются. Как мы увидим, ни один из них не имел намерения передавать полные сведения.
Агриппа, открывший битву, сражался только против учения Василида, и его сочинение утрачено, как и сочинения Филиппа Гортинского и Модеста против Маркиона.
Иустин Мученик, чьи сведения совпадают с их, родился в греческой семье и, воспитанный в платонических доктринах, всегда сохранял что-то от своего раннего философского образования; однако, когда он во второй части своей Апологии заговорил об одном из предшественников гностицизма, Симоне-волхве, он не смог сдержать своей сильной антипатии к этому синкретисту. Его сочинение против Маркиона было утеряно.
S. Иреней, который после него был древнейшим противником гностиков, опубликовал обширный труд против них в пяти книгах, но только первая дошла до нас полностью, а из остальных мы располагаем лишь фрагментами и переводом.
Родившийся, по-видимому, в Малой Азии в греческой и христианской семье, св. Ириней процветал в то же время, что и основные школы гностиков19. Один из самых ученых людей своего века, он был знаком с сектами Церкви, светскими школами, традициями мифологии и трудами философов; а поскольку он унаследовал христианство от Поликарпа и Папия20, учеников святого Иоанна, он имел лучшее учение в сочетании с самыми чистыми текстами. Поэтому он был полон ревности к этой доктрине, и едва ли в его время появлялось какое-либо новое учение, которое он сразу же не исследовал и не боролся с ним. В ходе дискуссий, разгоревшихся вокруг монтанистов, именно его лионская община попросила отнести свои письма в Рим. Когда Бластус высказался в пользу восточного обычая празднования Пасхи, он опроверг его. Когда Флорин объявил себя сторонником монархистов, именно он отделил его от этой партии. Когда позже тот же врач принял систему Валентиниана, именно он самым решительным образом напал на нее21. Когда Маркион в конце концов заявил, что апостолы неправильно слышали своего учителя и что, в свою очередь, их ученики изменили апостольские писания, именно он показал, в чем заключается истинное учение христиан22. Когда язычники обвиняли христиан в каком-то варварском отвращении к письму и наукам, именно он пытался доказать, что истинная наука гораздо выше, чем они думали23. Преимущество Иренея перед многими христианскими авторами заключалось в том, что он был хорошо знаком с поэтами и философами24, а Тертуллиан тем более вправе назвать его заядлым исследователем всех доктрин, поскольку он следовал им с большей умеренностью в своих суждениях. Однако весь его труд, труд, в котором ничто не блестит, в котором ничто не выдает страсти, дышит еще большей ненавистью к ереси, чем любовью к истине25.
После него против гнозиса выступили три самых выдающихся писателя, и, несомненно, именно они понимали его лучше всего.
К сожалению, книга первого из них, Феофила Антиохийского, против Мар-киона, утеряна, а фрагмент книги Родона сохранился, о чем мы мало сожалеем.
S. Климент Александрийский, второй, напротив, оставил значительный труд. Рожденный в язычестве, воспитанный в Афинах, затем в Азии и, наконец, в Александрии, центре гностицизма, он был в лучшем положении, чем любой другой христианин, чтобы дать верное представление об этом учении. Но как глава школы обучения, которую христиане основали в Александрии, чтобы она могла дать им людей, способных бороться как с философами, так и с еретиками, святой Климент, всегда находясь в присутствии гностиков, смог нарисовать верную картину этой доктрины. Климент, всегда находясь в присутствии врага, то сталкиваясь с философами, которые возрождали традиции мифологии, чтобы объединить их с умозрениями метафизики, то сталкиваясь с энтузиастами, которые путали теории Персии, Халдеи и Египта с христианством, Климент, если он постоянно изучал историю философии, еще более постоянно думал о том, чтобы противопоставить ей систему веры. Его труды, особенно «Строматы «26, – неисчерпаемая копилка античных сокровищ; но в отношении гностиков его тактика настолько тонка, что может привести к ошибке. Действительно, играя словами, он дает меньше информации о гностиках в целом, чем утверждений об особых гностиках, как их понимает автор, то есть о весьма продвинутых христианах.
[Трактат Ипполита, принявшего мученическую смерть при императоре Александре, направленный против Маркиона, утрачен; трактат против Валентиниана Геликса, который приписывается ему в сборниках Канисия и Сирмонда, вероятно, принадлежит не ему; его книга против еретиков, которую читал Фотий и которую он делает известной (cod. 131), кажется, была лишь извлечением из книги Иренея: поэтому из нее нельзя извлечь ничего нового].
Третий из этих писателей, Ориген, подражатель святого Климента и более ученый, чем он, оставил сведения о гностиках, которые заслуживают большого доверия. Ученик философа Аммония27, великий человек и учитель с юности28, просвещенный критик и философ, снисходительный к ошибкам других, потому что сам пострадал за свои, и справедливый с тем большей деликатностью, что сам был менее деликатен, Ориген, чьим светом восхищались в Аравии, Сирии, Каппадокии и Греции, и который находился в присутствии главных врачей и философов своего века, обязательно был беспристрастным писателем, и никто не знал гностиков лучше, чем тот, кто имел заветного ученика, чтобы спорить с ними29. Поэтому его «Комментарии к Священному Писанию», книга против Маркиона, трактат о молитве и труд против Цельса, полный подробностей о гнозисе, являются одними из самых чистых источников, по которым можно изучать эту доктрину. Но если они ценны для познания религиозных сект, то, тем не менее, они имеют и противника.
Евсевий Кесарийский, лучший историк первых веков христианства и единственный, оставшийся нам после утраты Комментариев Гегезиппа, также заслуживает нашего доверия, когда говорит о гностиках, которые еще процветали в конце третьего века и в начале четвертого, были тогда распространены по всей Кесарии, и которых Евсевий, пишущий историю по памятникам и чаще всего приводящий выдержки из сочинений, с которыми он советовался30, изображает с достаточной степенью достоверности. Несомненно, однако, что в своих сочинениях они предстали бы в ином свете и не признали бы его портретов.
S. Ефрем, написавший пятьдесят два гимна против Вардесана, Мар-киона и Манеса, происходил из нисибисской школы, которая, наряду с эдесской, антиохийской и александрийской, была одной из лучших в христианском мире в первые века. Он был учеником святого Иакова Нисибийского, который боролся с ересями того времени, и вокруг его колыбели исповедовались восточные доктрины, породившие гностицизм. Более того, некоторые христианские врачи, как и многие верующие Сирии, путали эти мнения со своей религией, вплоть до того, что считали ортодоксальными гностические гимны Бардесанеса и его дочери Гармонии. Поэтому никто, кроме сына абнильского жреца, не мог с полным пониманием говорить о гнозисе; но Ефрему не пришло в голову излагать эту доктрину. Будучи простым священным поэтом, этот автор ограничился сочинением антигностических гимнов, заботясь о сохранении принятых мелодий, чтобы его песни легче было принять.
S. Епифаний и Феодорит, которые были позже Ефрема, и из которых первый умер в начале четвертого века, а второй в середине пятого, посвятили истории гностиков самые обширные труды, которые мы имеем об этих теософах31; но, хотя они оба были учеными людьми и сами видели обломки гностических школ32, их сведения полны ошибок.
На том расстоянии, на котором они находились от истоков великих школ, они путали места, времена и людей; и история может лишь с большой осторожностью принимать их данные, особенно в отношении С. Епифания, который классифицирует несколько школ вместе. Епифаний, который объединяет несколько различных сект.
Поскольку гностические доктрины не получили широкого распространения на Западе, и несмотря на попытки, предпринятые в латинской Африке, Риме, Испании и южной Галлии, латинские писатели предлагают историкам лишь вторичные источники.
Тертуллиан, современник св. Иринея33 и св. Климента Александрийского, оставил нам трактаты против валентиниан и маркионитов, а также подобных сектантов, в которых ораторская декламация исключает философское исследование.
Сведения, которые мимоходом сообщает Киприан о некоторых гностиках, и те, что сеет Августин в своем труде против манихеев и в своих книгах против ересей, более точны; но те, что излагает С. Филастр в своем трактате о ересях, по большей части настолько ошибочны, что к ним следует прибегать лишь с крайним недоверием34, даже если этот автор предшествует С. Августину.
Мы не говорим здесь о некоторых писателях слишком второстепенного порядка, или о тех, кто дает слишком мало подробностей о гностицизме. Мы познакомимся с ними в ходе нашего исследования, и закончим этот обзор авторов, передавших нам гностическую доктрину, указанием на то, что 1° некоторые из них являются более поздними, чем школы, о которых они нам рассказывают; 2° что все они ставили своей целью борьбу с ними, и 3° что гностицизм был бы представлен с бесконечно большим преимуществом, если бы мы могли еще изучать его в трудах Василида, Валентинуса и Маркиона.
В самом деле, что придает самой прекрасной системе древности, системе Платона, ее внушительный характер, так это стиль человека, передавшего ее нам. Оставьте «Диалоги», возьмите в руки изложение, в котором анализируется или оспаривается его доктрина, и ваш энтузиазм будет угасать с каждой страницей. Однако с вами будет говорить друг Платона, тогда как гностические теории всегда излагаются нам их антагонистами. В этом, несомненно, причина холодности, которую так долго исповедовали по отношению к порядку идей, сочетающему в себе с идеями Пифагора и Платона все богатство теософов Персии и Индии и, наконец, нечто от сурового характера, который христианство все еще оставляет даже тем, кто его изменяет.
Правда, гностики оставили некоторое количество памятников, или, скорее, загадок, под которыми я подразумеваю те выгравированные камни, которые иногда называют Абраксас, иногда Василидиан; но эти памятники не только все символические, почти все они еще подлежали расшифровке, и после неудачных попыток толкования Мака-рием, Шиффле и Монфоконом они были более или менее оставлены. Хотя Мюнтер35, М. Беллерманн и Копп36 вновь попытались интерпретировать их, они, возможно, недостаточно учитывали в своей работе систему в целом, в то время как другие современники, сосредоточившись исключительно на текстах, полностью игнорировали памятники.
Поскольку гностики почти не оставили письменных свидетельств, поскольку древнейшие авторы относились к ним с явной антипатией, и поскольку новейшие авторы не привнесли в историю своей системы сравнительного изучения текстов и памятников, новый пересмотр тех и других стал необходим.
Что касается нас, то если мы и попытаемся это сделать, то только освещая памятники через тексты, мы надеемся воспроизвести более правдивый образ гностицизма.
Это один из тех пережитков древности, к которым следует относиться с тем большей щедростью, чем более пренебрежительно к ним относятся века. В своем нынешнем виде он, пожалуй, поучителен даже в силу чудовищной дерзости; и сейчас, когда мы возвращаемся к христианскому или, скорее, христианизированному пантеизму, как никогда важно увидеть, к чему привела эта система. В любом случае, в судьбе человеческой расы, по-видимому, заложено, чтобы наш ум упражнялся на обломках прошлого, а не на всей совокупности его мыслей и дел. Если труднее, то и приятнее восстанавливать древние доктрины на основе неполных данных, чем брать их целиком из трудов тех, кто их придумал.
Со своей стороны, эти соображения поддерживают меня в исследовании, которое сами трудности делают более привлекательным.
Моя работа делится на три основных вопроса: 1° происхождение гностицизма; 2° преемственность и доктрины его различных школ; 3° влияние, которое они оказали на современные школы.
Книга первая. Общая классификация гностиков и происхождение гностицизма.