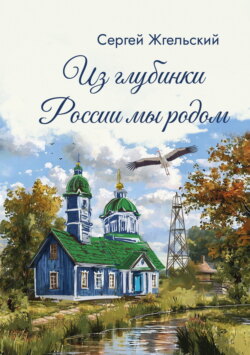Читать книгу Из глубинки России мы родом - - Страница 7
Моя глубинка
(отрывок из романа «Дыхание болота»)
Озеро Лесок
ОглавлениеБолото, вдоль которого проходит шлях от Новозыбкова до Красной Горы протяжённостью около семидесяти километров, в начале семидесятых годов двадцатого века осушили для добычи торфа производственным способом. Для этого был разработан проект, прорыли сеть канав: они служили границами участков, подлежавших осушению. Осушенные участки размером сорок на пятьсот метров в народе называли картами. Вода из канав стекала в главную, так называемую Нагорную, канаву, по краям которой насыпали груды песка, похожие на барханы в пустыне. Нагорная канава – это главная артерия для осушения болота, здесь и чистая вода, и пляжи. Детвора и взрослые после резки торфа мылись и купались в чистой воде, наслаждаясь прохладой и свежестью. Восьмилетними пацанами мы бегали в Нагорную канаву. Вода в ней была настолько прозрачная, что можно было нырять с открытыми глазами и видеть подводный мир. Здесь водились угри, разная рыба, особенно своим видом меня поразили тритоны, они казались маленькими динозавриками.
На участках – картах – велись сушка торфа, сбор его в валки и складирование в скирды. Машины для сборки торфа «Пума» свозили его в скирды высотой с двухэтажный дом, в них порошок торфа слёживался, случалось, и загорался. С целью блокирования пожаров карты после уборки торфа уплотняли огромными барабанами. После этого начиналась транспортировка торфа из скирд по узкоколейке вагонами на завод по изготовлению брикетов. Завод и посёлок были построены в послевоенные годы пленными-немцами. Назывался посёлок Мирный, а яловцы дали ему название Кожанстрой. Посёлок городского типа располагался недалеко от Кожановского озера, отличался архитектурой, непривычными для этих мест двух- и трёхэтажными добротными домами из силикатного кирпича, уютными, благоустроенными квартирами, асфальтовым покрытием дорог и тротуаров. Утопающий в зелени, посёлок Кожанстрой и ныне радует глаз дивной красотой.
Мама мне рассказала случай, связанный с возгоранием торфа в нашем селе. На окраине Яловки, по дороге в сторону кирпичного завода «Цагельни», находилось осушенное болотце Лесок, где добывали торф. При горении торфа в глубине пласта сверху образовывалось коричневое пятно высохшего торфа – и никаких признаков пожара. Люди говорят: торф шаит – тлеет. Если встать на это место – ожог обеспечен.
Мой старший брат Пётр присматривал за младшим братишкой Сашей. Присматривал – это громко сказано, больше играл со сверстниками. Несмышлёныш случайно зашёл на это пятно, горящий торф обжёг ему ножки. Хорошо, что торф выгорел неглубоко, а то мог бы Саша провалиться в выгоревшую яму. Малыш заплакал от боли, старший схватил братца на спину и бегом домой. Дома усадил его на табуретку, а ноги в таз с водой опустил, младший и успокоился. Обошлось всё, слава богу, без тяжёлых последствий. По традиции младшего стали величать Гаврилой, так как лезет туда, «куда Макар телят не гонял», старшего – Лупекой, так как батька хотел его отлупить, да пожалел мальца.
Одним из мест досуга жителей села был Лесок – озеро, образовавшееся после выработки торфа, в центре которого сохранился островок леса. На озере любили рыбачить и взрослые, и дети. Первым рыбаком на удочку в селе был учитель русского языка и литературы Ефимов Леонид Ефимович, он ловко ловил карпов. Человек с низким голосом, небольшого роста, щуплый на вид, но силы воли у него, я вам признаюсь, хватило бы на нескольких человек. Как положено учителю, одет с иголочки: в костюм серого цвета с неброским галстуком в тёмно-серых тонах. Пользовался авторитетом у селян, коллег в школе, проницательный, требовательный, правила русского языка выносил на плакаты, выделяя их красным цветом. Хороший рассказчик, ввёл правило: во время урока на доске ученик с хорошим почерком писал рассказ на новую тему. Всем классом разбирали правила написания деепричастных оборотов и сложноподчинённых предложений.
По просьбе родителей Леонид Ефимович рассказал детям о том, где в озере купаться опасно. Недалеко от берега, у острова, осталась глубокая яма. Сверху ямы вода тёплая, как парное молоко, ближе ко дну ямы – холодная, как лёд. Купание в озере «до синих губ» для детворы – главное занятие летом. Отчаянные пацаны в нырке доставали со дна ямы жменю торфа и считали себя чуть не героями. Чтобы уберечь детей от опасности, учитель русского языка придумал и рассказал им историю про огромную жабу, которая живёт на самом дне ямы, поджидает смельчаков, чтобы цыцьки дать, и можно не вынырнуть из глубины. Прыть героев утихла. Со временем яму затянуло илом.
С наступлением зимы Лесок превращался в ледовое поле, где кипели хоккейные баталии между классами и улицами с утра до позднего вечера. На валенки сыромятиной привязывали коньки-снегурки, клюшки стругали из ствола берёзы, шайбу делали из каблука старого сапога. Казалось, страсти игры плавили лёд. Среди хоккеистов были свои «Фирсовы», «Коноваленко», «Мальцевы». Домой возвращались краснощёкие, с огоньком в глазах. Не один раз на пути к дому своей прохладой манил меня Лесок.
Наступило лето 1976 года, я окончил девятый класс. Нужно было заработать денег на костюм, куртку, шапку и зимние ботинки к новому учебному году. Приняли меня и приятелей на кирпичный завод, зарплата для села баснословная, но и работа не из лёгких. Мы выкладывали сырец на люльки конвейера до пяти тонн в сутки каждый, снимали с этих же люлек и ставили на просушку в сараи, садили подсохший сырец в печь для обжига. Отстояв смену, мы шли домой по раскалённому песку, казалось, сил хватит только на ужин и сон до утра. Но после купания в озере силы возвращались. Дома, поужинав, надев чистую, пахнущую свежестью одежду, я бежал на сельскую дискотеку до утра.
Спустя много лет Лесок стал красивым прудом, в нём, как и раньше, ловят карпов, а ещё на нём поселились лебеди. Здесь встречают рассветы и закаты, подкармливают лебедей хлебом. Пруд живёт своей жизнью.