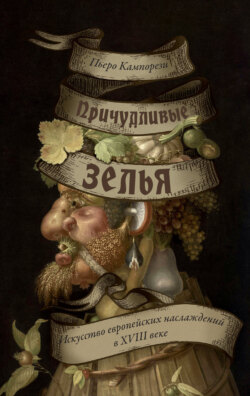Читать книгу Причудливые зелья. Искусство европейских наслаждений в XVIII веке - - Страница 4
3
Искусные повара и талантливые цирюльники
Оглавление«Эпоха праздного и размеренного образа жизни, который ведут в наши дни», – отмечал пристальный наблюдатель за переменой вкусов и преобразованиями культурного общества XVIII века, – началась тогда, когда «в Италии среди острых мечей появилась женственность, а среди пушечных залпов иностранных армий – праздность»[126]. Автор этих размышлений, граф-иезуит Джамбаттиста Роберти (1719–1786), который внимательно анализировал перемены в обществе, прекрасно понимал, что культурная гегемония и кулинарный интернационализм Франции тесно связаны с военной экспансией и династической политикой Бурбонов, а также с непосредственным оживлением в парижских интеллектуальных салонах. Франция экспортировала пушки и идеи: в тех местах, где оказывались солдаты со штыками, появлялись книги и кулинары, философы и шеф-повара. В самих названиях французских кулинарных книг уже подчеркивались собственная значимость и откровенная национальная гордость нового галльского вторжения. Такие наиболее известные в Италии книги, как «Повар для короля и буржуа» (Il cuoco reale e cittadino) Франсуа Массиало (1691, первый перевод на итальянский язык – 1741), «Французский повар» (Il cuoco francese) Франсуа Пьера де Ла Варенн (1651, первый перевод на итальянский – Болонья, 1693), рассказывают не только об «искусстве высокой кухни», но и о художнике на службе у короля, историю кулинара национального масштаба, ловкого матадора, нанизывающего фазанов и куропаток на острый вертел, манипулятора-изобретателя (после революции и воцарения сливочного масла) свежих сочетаний приправ и соусов, инновационных «боеприпасов для рта»: это новоиспеченный повар, который ходит с важным видом. Правильнее даже сказать, французский повар – повар (cuisinier), но по-прежему француз и действительно гордый француз, как «месье де Ла Варенн, почетный повар (escuyer de cuisine) господина маркиза д’Юкселя». Почетный повар, не абы какая кухарка, не раб плиты и хранитель корпоративных заветов анонимных средневековых мастеров, а гордый меченосец, для которого кулинарные схватки с оленями и кабанами – приятное развлечение во время военных походов прославленной кавалерии «завоевателей», высокомерных и яростных полководцев самой мощной и воинственной армии Европы. Не случайно в книге «Французский повар» (Le cuisinier français) приводится длинный перечень горячих закусок, которые можно приготовить в армии или в лагере. «Начало войны – начало застолья» (Entrée en guerre – entrée de table), завязка боя, кулинарной схватки, а entrée – это фактически первое блюдо после холодных закусок или супа (сегодня почти исчезнувшего с французского стола).
«Уголь убивает нас! – воскликнул однажды доблестный Карем[127]. – Но это не имеет значения! Внимание! Короче жизнь, длиннее слава»[128]. За родину и кулинарное признание «потомки» и кухонные «отряды», возглавляемые непобедимыми поварами, сражались с невероятным воодушевлением и рвением: «работать с кондитерскими изделиями очень трудно и очень опасно, – говорил другой именитый «мэтр», Лагипьер[129], – а это значит, что профессия почетна! Это постоянная борьба»[130].
Пиршество было равносильно сражению с неизвестным исходом: повару, как опытному стратегу, необходимо было иметь хорошие резервы, чтобы свести риски к минимуму. Поэтому следовало всегда помнить о «неизменном принципе, действовавшем как на гастрономическом празднике, так и в армии: никогда точно не знаешь, с чем придется иметь дело. Резервы должны быть действительно огромными!»[131]
Поскольку «мэтр» Ватель[132] исчерпал все запасы (из-за не доставленной вовремя свежей рыбы или, по другой версии, из-за плохого жаркого), ему не оставалось ничего, кроме как покончить с жизнью, чтобы смыть кровью позор от кулинарного поражения. Так «гастрономический праздник» для некоторых непревзойденных галльских поваров мог закончиться кровавым харакири. Пример Вателя, «человека ответственного и благопристойного»[133], к счастью, стал благополучным исключением. А его напрасно растраченный талант (который, к тому же, осмелился поставить под сомнение привередливый маркиз де Кюсси[134]) переродился еще более великим. Гастрономическая традиция не прерывалась и достигла небывалых высот. После финальных, весьма мрачных лет нескончаемого правления Людовика XIV, времени великолепного «украшения стола», изысканной и роскошной кухни, лишенной, однако, «чувственного эпикуризма»[135], после заката «короля-солнце» французское кулинарное первенство стало бесспорным. «Это единственная страна в мире, – с исключительной скромностью подтвердит более века спустя Мари-Антуан Карем, выдающийся шеф-повар эпохи Наполеона и Реставрации Бурбонов, – где готовят вкусную еду»[136]. Тем не менее справедливая гордость от титула родоначальника своего дела не помешала ему поделиться некоторыми мудрыми размышлениями об этой нелегкой и трудоемкой профессии, подчеркнув тесную связь между искусством обмана рта (подменяя здоровый аппетит желудка коварным чревоугодием глотки) и хитростью дипломатии.
«Не только дипломат способен оценить хороший ужин, – писал Карем в своем труде «Афоризмы, мысли и максимы» (Aphorismes, pensées et maximes), – но и кулинарное искусство сопровождает европейскую дипломатию»[137]. Недаром этот «архитектор-кондитер» служил в доме «короля обмана», герцога Шарля Мориса де Талейрана[138], непревзойденного мастера науки по выживанию любой ценой и в любых обстоятельствах.
Возможно, это лишь совпадение, но достоверно известно, что грандиозный сезон французской высокой кухни начался во время работы над Утрехтским мирным договором[139] и доводился до совершенства на столах полномочных представителей. Это был также золотой век кондитерского искусства. Карем, которого леди Морган[140] также считала «человеком хорошо воспитанным», искусным изобретателем и экспериментатором в европейских кулинарных школах, был уверен, что отсчет следует вести именно от этого события. Великий реформатор науки о пропорциях и вкусе учился принципам проектирования у таких итальянских классиков, как Джакомо да Виньола, Андреа Палладио, Винченцо Скамоцци – и смиренным паломником наведывался в Вену, Варшаву, Петербург, Лондон, Рим, Неаполь и даже Швейцарию, чтобы выведать секреты ремесла. Возможно, он преувеличивал, когда писал, что «существуют пять изящных искусств: живопись, поэзия, музыка, скульптура и архитектура, но их кульминацией, наивысшей точкой является кондитерское дело». И все же ему было хорошо известно, что французское кондитерское дело совершенствовалось на кухнях полномочных представителей, которые вели переговоры об окончании Войны за испанское наследство.
«Пекари и кондитеры того времени радовали двор самого галантного из королей и играли важную роль в обществе. Они держались с большим достоинством: когда стих грохот боев и лязг оружия и стала править балом дипломатия, оформившаяся в науку, число кондитеров начало расти по всей Европе»[141].
Но прежде всего это были годы Регентства (1715–1723), прожитые под «мягким управлением мудрого правителя <…> и среди его, пусть и умеренных, но блестящих ужинов»[142], благодаря которым французская кулинария взлетела до небес: «именно поварам, которым он [Филипп Орлеанский] дал работу, платил, к которым относился с уважением и даже пиететом, французы обязаны изысканной кухней XVIII века»[143]. Больше чем просто расцвет, это была вспышка, настоящий взрыв изысканности в сочетании с радостью жизни и искренним наслаждением от остроумных бесед. Наука о вкусах стала вдохновением для культурной жизни века и наилучшим топливом для блестящих идей философов и просвещенных дам.
«Эта кухня, одновременно изысканная и простая, доведенная до совершенства, была грандиозным, стремительным и неожиданным открытием. Весь век, или, скорее, весь его благородный и духовный период, был очарован ею. Не усмиряя и не затуманивая разум, эта вдохновляющая кухня пробуждала его: все серьезные и сулящие успех дела обсуждались и решались за столом. Интеллектуальная беседа на французский манер, благодаря которой наши прекрасные книги читаются по всему миру, блестяще оттачивает как ум, так и язык, помогая им всего за несколько очаровательных вечеров прийти в совершенную форму»[144].
«Ужин, – отмечал Монтескье, – в немалой степени способствует тому, чтобы придать нам ту жизнерадостность, которая в сочетании с некоторой долей скромных познаний называется цивилизацией. Мы избегаем двух крайностей, в которые впадают южные и северные народы: мы часто едим в компании и не слишком много пьем»[145]. Такое воодушевление по поводу цивилизации, рождающейся за столом, показалось бы неуместным Джакомо Леопарди[146], μονοφάγος[147] как по своей природе, так и по убеждению.
«Мы утратили привычку, – писал он одним знойным июльским днем 1826-го в своем Zibaldone[148], находясь в городе, известном своим благодатным образом жизни и дружелюбными жителями[149], – естественную и веселую привычку к совместному застолью и говорим, едва начав есть. Трудно представить, что именно в тот единственный час дня, когда рот занят пищей, а органы речи выполняют другую работу (которую просто необходимо выполнять добросовестно, ведь от правильного пищеварения в значительной степени зависит здоровье тела и духа, и процесс переваривания не может быть хорошим, если оно не началось во рту, согласно известной пословице или медицинскому афоризму[150]), именно этот час должен стать тем часом, когда человек вынужден говорить больше всего. Ведь немало найдется тех, кто, проводя время за исследованиями или, по какой-то причине, в одиночестве, разговаривает только за столом. Такие люди были бы очень раздосадованы, если бы остались в безмолвном одиночестве. Но так как я трепетно отношусь к хорошему пищеварению, то не считаю, что поступаю бесчеловечно, если в этот момент мне хочется меньше разговаривать, поэтому я и обедаю один. Кроме того, я хочу иметь возможность распоряжаться поступающей пищей в соответствии со своими потребностями, а не с потребностями других людей, которые часто заглатывают пищу кусками и все, что они делают – это кладут еду в рот и, не утруждая себя пережевыванием, проглатывают ее. То, что их желудок доволен, еще не означает, что и мой должен быть доволен, как это принято, когда трапезничаешь в компании и не можешь заставлять других ждать, вынужден соблюдать bienséance[151], о которых, как я полагаю, в старину в подобных случаях не слишком заботились. Еще одна причина, по которой им очень нравилось есть в компании, как мне кажется, заключалась в том, что это была моя компания».
Это мнение не только исторически подтверждено (ему предшествует точное разграничение понятий «обжорство» и «возлияния», которые использовали древние греки и римляне, причем «возлияния» «происходили у них после еды, как у современных англичан, и сопровождались, в лучшем случае, легкими закусками, чтобы вызвать жажду»), но и заслуживает уважения за свою безукоризненную логику и стиль аргументации. Оно куда более сложное и изящное, чем некоторые рассуждения Монтескье, в которых он, говоря о застольях, нередко впадал в банальности или противоречия. «Ужин, – говорил неподражаемый автор «Персидских писем»[152] (Lettres persanes), – убивает одну половину Парижа; обед же – другую его половину»[153]. Но тут же добавлял, что «обеды невинны, тогда как ужины почти всегда преступны»[154].
Просвещенный западноевропейский барон преувеличивал: для него Париж был «столицей самой утонченной чувственности» и в то же время «столицей самого отвратительного обжорства», так же как он мог быть одновременно столицей «хороших и плохих вкусов, дороговизны и умеренных цен»[155]. Тем не менее Монтескье считал свою страну идеальной для самых счастливых отношений с «хорошей едой», потому что «так прекрасно, – писал он, – жить во Франции: еда здесь лучше, чем в холодных странах, а аппетит больше, чем в жарких»[156]. Однако он безоговорочно (и справедливо) одобрял тех, кто утверждал, что «медицина меняется вместе с кухней»[157].
«У французов привередливый вкус, но Жан-Жак Руссо был прав, отмечая в своем романе “Эмиль, или О воспитании” (Émile ou De l’éducation) следующее: “Французы считают, что они единственные, кто умеет есть; а я полагаю, что они единственные, кто есть совершенно не умеет”. Другим нациям для хорошей трапезы достаточно располагать хорошей едой и аппетитом, но французам помимо них непременно нужен еще и хороший повар. “Один известный молодой итальянец, – вспоминал с ехидством граф Роберти, не без иронии относившийся к ‘жеманным галлам’, – который предпочитал во всем жить на французский манер, однажды пожаловался мне, что остался без своего повара-француза, сопровождавшего его обычно в путешествиях. ‘Уверяю вас, – говорил он, – что я не могу съесть даже вареного цыпленка, если его приготовил не он или такой же сведущий повар, как он’. До чего же несчастны такие особы! Я бы съел не только цыпленка, но и каплуна, если бы его приготовила деревенская кухарка”. Во времена Августа[158] ценными поварами считались сицилийцы: сегодня эти мастера, эти домашние химики непременно должны быть французами или, по крайней мере, выходцами из Пьемонта. Однако (кто бы этому поверил?) кулинарное искусство все же пришло во Францию из Италии еще при Генрихе II[159], когда итальянцы сопровождали королеву Екатерину Медичи. Тем не менее французы, которые не могут отрицать этого факта, могли бы ответить словами Тита Ливия[160] (кн. XXXIX): “Но это было только начало, лишь зародыш будущей порчи нравов”[161]. Теперь же Франция царствует в науке вкусов от Севера и до Юга»[162].
Получалось, что если повар не француз, то он не повар. Только если эти «домашние химики», эти повелители «науки вкусов» являются потомками Верцингеторига[163], можно говорить о кулинарном искусстве. Французы «или, по крайней мере, выходцы из Пьемонта». Вот почему следующей кулинарной книгой, появившейся в Италии после столетнего затишья (первое издание «Искусства хорошо готовить» (Arte di ben cucinare) Бартоломео Стефани, судя по всему, вышло в 1662), является «Пьемонтский повар, усовершенствовавшийся в Париже» (II cuoco piemontese perfezionato a Parigi, Турин, 1766), работа, которая открывает яркую и счастливую франко-пьемонтскую главу в истории итальянской кухни. Вероятно, тем же анонимным автором написана книга «Искусный кондитер» (II confetturiere di buon gusto, Турин, 1790), в которой представлены изыски приальпийского кондитерского дела (туринская паста, савойская паста по-провансальски, савойская паста по-пьемонтски, печенье савоярди, печенье савоярди по-провансальски…). Эта традиция продолжится в XIX веке благодаря таким трудам, как «Пьемонтский повар» (II cuoco piemontese, Милан, 1815), «Миланский повар и пьемонтская кухарка» (Il Cuoco milanese e la cuciniera piemontes, Милан, 1859) и «Трактат о кулинарии, современном кондитерском деле, буфетной и связанных с ними кондитерских изделиях» (Trattato di cucina pasticceria moderna credenza e relativa confetturia, Турин, 1854) авторства Джованни Виаларди, помощника шеф-повара и кондитера, служившего у Карла Альберта[164] и Виктора Эммануила II[165]. Приальпийская глава эпохи Рисорджименто[166], не получившая особого внимания в истории итальянской кухни, оказавшаяся на кулинарной обочине, как некогда и Сардинское королевство, только теперь, после ослепительного явления публике фарфора и столового серебра Савойского дома, наконец-то начинает набирать популярность на фоне новых исследований, разрушающих прежние стереотипы о невежественных «горных королях» и «грубых долинных герцогах». Архитектурная изысканность XVIII века нашла отражение в продуманной изысканности стола, особенно в части «буфетной» и в кондитерском искусстве: яствам, хорошо известным не только знатным жителям Пьемонта, но и всем итальянцам, которые видели в Турине «третейский суд, эталон для нас», как говорил граф Роберти, «с тем особым изяществом, которое порождает как искусных поваров, так и талантливых парикмахеров»[167].
Долгий период затишья и молчания итальянских кулинарных книг свидетельствует о затяжном и сложном переходном этапе, который сопровождал и подчеркивал изменения в обществе. Итальянская кухня (разумеется, речь идет о столах аристократии и богачей) вступает в период раздумья, переосмысления, преобразований. Старые, прославленные трактаты эпохи Возрождения и барокко уже не отвечают новым требованиям к умеренным, благоразумным удовольствиям. Внушительные трапезы королевских дворов и тяжеловесная, помпезная пища знати, дворянства и высшего духовенства прошлого уже не удовлетворяют новым вкусам и потребности в «элегантной простоте»[168]: «изысканная и торжественная роскошь» XVII века, «бездумная расточительность», «излишнее великодушие» «старых вкусов»[169], по словам графа Джамбаттиста Роберти, должны теперь уступить место новому, сдержанному «вкусу элегантности»[170]. XVIII век постоянно оглядывается на XVII-й, и это касается не только литературы, но и стиля кулинарии, приходит время размышлений, критического пересмотра ситуации и прощания с прошлым. «Полемика между старым и новым» переносится с письменного стола на обеденный. Дух Аркадии[171], преодолев границы будуара дамы «нежной», проникает на обеды и ужины «чуткого и предупредительного» господина, дамы «изысканной и великолепной».
126
. Roberti G. Lettera sopra il canto de’ pesci, in Raccolta di varie operette del padre G.R. della Compagnia di Gesù. T. II. Bologna: Lelio dalla Volpe Impressore dell’Instituto delle Scienze, 1767. P. 13.
127
Марсель Карем (1784–1833) – французский повар, основатель современной французской кулинарии.
128
Цит. по: Cussy. L’art culinaire, in AA.VV., Les Classiques de la table à l’usage des praticiens et des gens du monde. Paris: Martinon, 1844. P. 263.
129
Дартуа Лагипьер (1750–1812) – французский шеф-повар, повар Наполеона и маршала Мюрата.
130
Ibid.
131
Ibid. P. 257.
132
Франсуа Ватель (1631–1671) – французский метрдотель, мажордом и кулинар, считается родоначальником кейтеринга, изобретателем крема Шантийи. Служил у принца Конде. В апреле 1671 года ему была поручена организация праздника в честь приезда Людовика XIV. Ватель хотел поразить «короля-солнце» свежей рыбой и заказал ее в нескольких портах. Но доставка задерживалась и повар, не в силах перенести профессиональный позор, покончил с собой, бросившись на шпагу.
133
Ibid.
134
Луи де Кюсси (1766–1837) – главный управляющий императорским двором при Наполеоне I и при Людовике XVIII.
135
Ibid.
136
. Carême M.-A. Aphorismes, pensées et maximes / Les classiques de la table. P. 363.
137
Ibid.
138
Шарль Морис Талейран (1754–1838) – французский дипломат, министр иностранных дел в период правления Наполеона и Реставрации.
139
Утрехтский мир 1713 года завершил Войну за испанское наследство 1701–1714 годов.
140
Сидни, леди Морган (1786–1859) – британская писательница.
141
Цит. по: Cussy. L’art culinaire. Op. cit. P. 263.
142
Ibid. P. 257.
143
Ibid.
144
Ibid. P. 257–258.
145
. Montesquieu Ch.-L. Riflessioni e pensieri inediti (1716–1755). P. 227.
146
Джакомо Леопарди (1798–1837) – итальянский романтический поэт, мыслитель-моралист.
147
Обедающий в одиночестве (греч.). – Прим. пер.
148
«Дневник размышлений» (ит.). – Прим. пер.
149
В Риме.
150
Леопарди ссылается на афоризм «Пищеварение не может быть хорошим, если не начнется правильно во рту».
151
Правила приличия (фр.). – Прим. пер.
152
«Персидские письма» (изданы в 1721 г.) – сатирический роман барона Монтескье. По сюжету персидский вельможа Узбек совершает путешествие по Франции и изучает аспекты жизни западного общества.
153
Ibid. P. 181.
154
Ibid. P. 182.
155
. Cussy. L’art culinaire. Op. cit. P. 287.
156
. Montesquieu Ch.-L. Riflessioni e pensieri inediti (1716–1755). Op. cit. P. 157.
157
Ibid. P. 182.
158
Август (63 до н. э. – 14 н. э.) – римский император, при котором Рим переживал расцвет, в том числе и в кулинарии.
159
Генрих II (1519–1559) – король Франции, был женат на итальянке Екатерине Медичи. Она привезла с собой итальянских поваров, что стало важным этапом в развитии французской кухни.
160
Тит Ливий (59 до н. э. – 17 н. э.) – древнеримский историк.
161
Vix tamen illa quae tunc conspiciebantur, semina erant futurae luxuriae. Перевод Э. Г. Юнца. – Прим. пер.
162
. Roberti G. Ad un Professore di Belle Lettere nel Friuli, in Raccolta di varie operette dell’Abate Conte G.R. Vol. IV. Bologna: Lelio dalla Volpe, 1785. P. 6–7.
163
Верцингеториг (ок. 82–46 до н. э.) – вождь галльского племени арвернов, в 52 году до нашей эры возглавил восстание против Рима. – Прим. пер.
164
Карл Альберт (1798–1849) – король Сардинского королевства с 1831 по 1849 год. Принадлежал к Савойской династии.
165
Виктор Эммануил II (1820–1878) – сын Карла Альберта, король Сардинии с 1849 года и первый король объединенной Италии с 1861 года.
166
Освободительное движение итальянского народа против иностранного господства, за объединение раздробленной Италии. Завершилось в 1870 году присоединением к Итальянскому королевству Рима.
167
. Roberti G. Risposta del padre G.R. al Conte di S. Rafaele, in Scelta di lettere erudite del padre G.R., Venezia, Tipografia di Alvisopoli, 1825, P. 217.
168
. Roberti G. Lettera a sua Eccellenza Pietro Zaguri sopra la semplicità elegante, in Raccolta di varie operette dell’Abate Conte G.R., cit., Vol. IV. P. 1–18.
169
См. их в Lettera ad un vecchio e ricco Signore feudatario sopra il lusso del secolo XVIII, in Scelta di lettere erudite del padre G.R., cit., P. 119–149.
170
Ibid. P. 121.
171
Сообщество ученых, поэтов, любителей искусства, боровшихся за возврат к античной простоте. Основано в Риме в 1690 году и названо в честь древнегреческой провинции, которая символизировала идельную, тихую и счастливую жизнь. – Прим. пер.