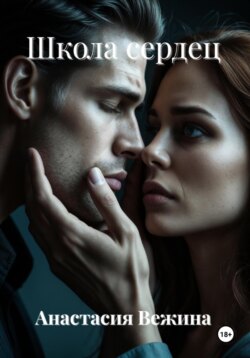Читать книгу Школа сердец - - Страница 2
Глава 2
ОглавлениеБудильник зазвенел ровно в шесть утра, как и положено в хорошо организованной жизни. Я протянул руку, отключая звонок, и несколько секунд лежал в постели, глядя в потолок своей строго обустроенной квартиры. Все здесь было подчинено логике и функциональности: минималистичная мебель из темного дерева, книжные полки с математическими трудами, расставленные по алфавиту, ни одной лишней детали. Идеальный порядок, который никто не мог нарушить.
Но сегодня этот порядок почему-то раздражал.
Вчерашняя встреча с новым школьным психологом никак не выходила из головы. Обычно молодые специалисты с горящими глазами и революционными идеями не задерживали моего внимания дольше пяти минут. Я научился быстро определять тип – наивные идеалисты, которые приходят в систему образования с намерением "все изменить", а через год-два либо уходят разочарованными, либо становятся такими же циниками, как все остальные.
Но Соловьева… Марина Игоревна оказалась не такой простой.
Я встал с постели и направился на кухню готовить кофе. В зеркале прихожей мелькнуло отражение – высокий мужчина тридцати двух лет, которого жизнь научила держать эмоции под строгим контролем. Небольшой шрам на левой скуле – память о давней драке в университете, когда я еще верил в справедливость и готов был за нее драться. Теперь эта наивность вызывала у меня лишь горькую усмешку.
Аромат крепкого кофе заполнил кухню, принося привычное успокоение. Я сел за стол с утренними новостями на планшете, но мысли упрямо возвращались к вчерашнему разговору в коридоре гимназии.
"Эмоциональный интеллект – это не мода и не выдумка," говорила она, и в ее голосе слышалась не детская убежденность, а зрелая уверенность профессионала. "Это научно обоснованная концепция…"
Я помотал головой, отгоняя назойливые воспоминания. Ну и что, что она цитировала исследования? Любой первокурсник может начитаться умных книжек и попугайничать научными терминами. Настоящая проверка ждет ее сегодня, на педагогическом совете, перед аудиторией опытных педагогов.
Тогда мы увидим, на что способна новая "звезда" психологии.
Актовый зал гимназии "Знание" поражал своей торжественностью даже в обычный день, а во время педагогических советов здесь всегда царила особая атмосфера. Высокие потолки с лепниной, портреты выдающихся российских педагогов на стенах, ряды удобных кресел, обитых темно-синей тканью. Здесь принимались решения, которые влияли на жизнь сотен детей и десятков преподавателей.
Я занял свое обычное место в третьем ряду – достаточно близко, чтобы видеть все реакции выступающих, но не настолько близко, чтобы привлекать лишнее внимание директора. За двенадцать лет работы в гимназии я научился читать настроения коллектива по едва заметным признакам: как сидят люди, куда направлены их взгляды, какие шепотки раздаются в рядах.
Сегодня в зале витало ощущение скептического любопытства. Большинство учителей уже слышали о новой программе и относились к ней с традиционной осторожностью российских педагогов к любым нововведениям.
"Итак, коллеги," голос Виктора Степановича Громова прервал тихие разговоры. "Сегодня у нас особенная повестка дня. Как вы знаете, в этом году мы запускаем экспериментальную программу развития эмоционального интеллекта учащихся. Представит программу наш новый педагог-психолог Марина Игоревна Соловьева."
Я проследил взглядом, как к кафедре направилась знакомая фигура. Сегодня она была одета в строгий темно-синий костюм, каштановые волосы аккуратно собраны в невысокий пучок, минимум косметики. Профессиональный образ, никаких намеков на легкомыслие или чрезмерную молодость. Она продумала каждую деталь – умная женщина.
"Добрый день, уважаемые коллеги," ее голос прозвучал ровно и уверенно. "Меня зовут Марина Игоревна Соловьева, и я рада представить вам программу, которая может изменить подход к образованию наших детей."
Громкие слова. Посмотрим, сумеет ли она их подкрепить.
"Начну с вопроса," продолжила Соловьева, обводя взглядом аудиторию. "Сколько из ваших учеников в прошлом году пропустили занятия из-за стресса, панических атак или депрессии? Сколько родителей жаловались на то, что их дети не могут справиться с нагрузкой, хотя интеллектуально вполне способны?"
В зале раздался тихий гул – вопрос попал в цель. Действительно, в последние годы количество детей с эмоциональными проблемами заметно возросло.
"А теперь следующий вопрос," Марина сделала паузу. "Кто из вас специально учился тому, как помочь ребенку справиться со стрессом? Как научить его понимать собственные эмоции? Как помочь наладить отношения со сверстниками?"
Неприятное молчание. Большинство из нас, действительно, полагались в этих вопросах на интуицию и жизненный опыт.
Я почувствовал, как напрягаются мышцы челюсти. Она хорошо подготовилась к выступлению, нашла правильные болевые точки. Но это еще не доказательство эффективности ее методов.
"Эмоциональный интеллект," продолжала Соловьева, включая проектор, "это способность человека распознавать, понимать и управлять как собственными эмоциями, так и эмоциями других людей. Исследования показывают, что люди с высоким эмоциональным интеллектом более успешны в карьере, более счастливы в личной жизни, реже страдают от депрессии и тревожности."
На экране появились графики и статистические данные. Я внимательно изучал цифры, ища слабые места в аргументации. Но исследования выглядели серьезно – университеты с мировым именем, выборки в несколько тысяч человек, долгосрочные наблюдения.
"В нашей программе три основных блока," на экране появилась схема. "Первый – эмоциональная грамотность. Дети учатся называть свои чувства, понимать их причины, видеть связь между эмоциями и поведением. Второй – саморегуляция. Техники управления стрессом, мотивации, принятия решений. Третий – социальные навыки. Эмпатия, построение отношений, решение конфликтов."
Я слушал и против воли отмечал логичность предложенной структуры. Но все-таки решился задать вопрос.
"Марина Игоревна," я поднял руку. "Все это звучит красиво в теории. Но есть ли у вас статистика эффективности подобных программ в российских школах? Или мы работаем по принципу 'хочется верить'?"
В зале стало тише. Мой вопрос прозвучал довольно резко, но я хотел проверить, как она реагирует на жесткую критику.
Соловьева повернулась ко мне, и я увидел в ее серых глазах не растерянность, а азарт. Она ждала этого вопроса.
"Отличный вопрос, Андрей Викторович," она даже улыбнулась, и в этой улыбке не было ни тени растерянности. "В Москве подобные программы уже внедрены в семнадцати школах. За два года наблюдений отмечено снижение количества конфликтов между учениками на тридцать процентов, улучшение успеваемости на двадцать процентов в классах, где дети освоили навыки саморегуляции. И что особенно важно для нашей гимназии – повышение результатов ЕГЭ в среднем на пятнадцать баллов за счет лучшего управления стрессом во время экзаменов."
Последняя цифра заставила нескольких коллег переглянуться с интересом. Результаты ЕГЭ – это святое для любой школы, претендующей на высокий статус.
"Но самое главное," продолжила Марина, и в ее голосе появились личные нотки, "эти дети счастливее. Они лучше понимают себя, умеют дружить, не боятся совершать ошибки и учиться на них. Разве не об этом мы мечтаем как педагоги?"
И вот тут произошло что-то неожиданное. Ее слова о том, что дети "не боятся совершать ошибки и учиться на них", вдруг отозвались где-то глубоко в груди. Я вспомнил себя в детстве – того мальчишку, который верил в справедливость и не боялся защищать слабых. До того, как жизнь научила меня, что идеализм – это роскошь, которую нельзя себе позволить.
Я мотнул головой, отгоняя ненужные воспоминания. Сосредоточься, Орлов. Это всего лишь красивые слова.
"А что конкретно будет происходить на занятиях?" спросила Елена Дмитриевна Светлова. "Дети будут сидеть в кругу и рассказывать о своих чувствах?"
Смех в зале был добродушным – Елена всегда умела разрядить обстановку.
"Не только," Марина тоже улыбнулась. "Мы будем использовать ролевые игры, арт-терапию, групповые дискуссии, даже элементы театра. Дети будут учиться через практику, через живое взаимодействие. Например, разыгрывая сцену конфликта, они научатся видеть ситуацию глазами разных участников, находить компромиссы."
"А как быть с дисциплиной?" вмешался Анатолий Петрович, учитель физики старой школы. "Если дети будут постоянно обсуждать свои эмоции, не станут ли они слишком… расслабленными для серьезной учебы?"
"Наоборот," Марина покачала головой. "Дети, которые умеют управлять своими эмоциями, более дисциплинированы. Они понимают важность учебы, могут мотивировать себя, справляться с трудностями. Эмоциональный интеллект – это не про вседозволенность, это про осознанность."
Я заметил, как внимательно слушают ее коллеги. Даже самые консервативные преподаватели задавали вопросы с искренним интересом, а не с желанием поставить в тупик.
И тогда я понял: она их убеждает. Медленно, но верно.
"Последний вопрос," поднял руку молодой учитель истории. "А что делать с родителями? Многие из них весьма… скептически настроены к любым психологическим экспериментам над их детьми."
"Прекрасный вопрос," Марина кивнула. "Именно поэтому мы планируем регулярные встречи с родителями, где они смогут увидеть результаты работы своими глазами. Плюс мы будем обучать родителей базовым принципам эмоционального интеллекта – многие сами признаются, что не знают, как говорить с детьми о чувствах."
Педсовет закончился одобрением программы – правда, в экспериментальном режиме и пока только для пятых и шестых классов. Я остался в зале, наблюдая, как коллеги подходят к Соловьевой с дополнительными вопросами. Она отвечала терпеливо и подробно, и я видел в ее глазах не торжество победы, а искреннее желание помочь.
Черт. Я редко ошибался в людях, но похоже, с ней промахнулся.
Когда зал почти опустел, я подошел к ней. Она собирала бумаги и выглядела слегка уставшей, но довольной.
"Неплохая презентация," сказал я нейтральным тоном. "Особенно понравилась статистика по результатам ЕГЭ."
Она подняла голову, в ее взгляде мелькнула настороженность. "Спасибо. А что вы думаете о программе в целом?"
Я помолчал, подбирая слова. Признать, что она произвела на меня впечатление? Что некоторые ее аргументы заставили меня задуматься? Нет, слишком рано.
"Посмотрим, как это будет работать на практике," ответил я уклончиво. "Теория и практика – разные вещи."
"Согласна," она кивнула. "Но Андрей Викторович… спасибо за вопросы. Они помогли мне лучше объяснить важные моменты."
В ее тоне не было ни сарказма, ни обиды. Искренняя благодарность. Когда в последний раз кто-то благодарил меня за критику?
Я кивнул и направился к выходу, но у самой двери оглянулся. Марина стояла у окна, глядя на школьный двор, где через несколько дней появятся дети. В ее позе читалась смесь решимости и волнения – она понимала, что настоящая проверка еще впереди.
И почему-то впервые за много лет мне захотелось, чтобы кто-то справился с поставленной задачей. Чтобы ее теории сработали на практике.
Хотя, конечно, я в этом сомневался.
Идя по коридору к выходу, я ловил себя на том, что снова и снова прокручиваю в памяти ее слова о детях, которые "не боятся совершать ошибки и учиться на них". А еще – о том, как важно не бояться быть уязвимым.
Уязвимость. Черт возьми. Именно уязвимость и сделала меня мишенью для Оксаны пять лет назад. Я открылся ей полностью, доверил ей свое сердце, свои планы, свои сбережения. А она… она просто исчезла в один прекрасный день, оставив записку и пустой банковский счет.
С тех пор уязвимость для меня – синоним глупости.
Но почему тогда слова этой женщины заставляют меня сомневаться в собственных убеждениях?
Выходя из гимназии в теплый августовский вечер, я поймал себя на мысли, что жду начала учебного года с необычным интересом. Хочется посмотреть, как Марина Игоревна Соловьева будет применять свои теории на практике.
И главное – устоит ли она перед реальностью российской школы, которая ломает многих идеалистов.
Хотя… после сегодняшнего выступления я уже не был так уверен, что она сломается.