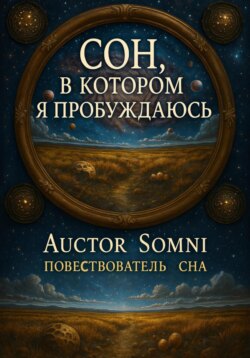Читать книгу Сон, в котором я пробуждаюсь - - Страница 5
Глава II: Где начинается мысль?
Оглавление12.
Мы плетём свои сети в "ВКонтакте" и других социальных сообществах из текстовых сообщений и фотографий по разным причинам, в том числе чтобы избежать лишних сюрпризов в реальном общении.
В то же время, "не в контакте" – это не просто фраза, а состояние, когда один или оба собеседника оказываются оторванными друг от друга, погружёнными в свои собственные мысли, идеи или представления.
Когда человек "не в контакте", это может означать, что его внимание и эмоциональная энергия направлены внутрь, а не на внешний мир или партнёра по разговору.
Именно это произошло недавно с нашим героем.
Часы показывали без одной минуты одиннадцать. Александр, как это часто бывало, стоял у входа в "Пятёрочку", потирая руки, словно в них была не зима, а какие-то интригующие секреты. Внезапно, в вихре морозного ветра, он услышал странные звуки – что-то вроде музыкальных колебаний, – а взгляд его встретился с необычайно ярким светом.
– Здравствуйте, Александр! – раздался голос из ниоткуда.
Александр увидел существо, излучающее свет, как дискотечный шар, только с антеннами.
– Здравствуйте… А вы кто? – спросил он, пытаясь осмыслить происходящее.
– Мы – эфемеры из звёздных туманностей. Ваша культура нас заинтересовала. Мы хотим понять ваши взгляды на мир и поделиться своими.
Эфемер мерцал светом.
Это был язык эфирной связи, в котором мысли и эмоции становились единым потоком, образуя уникальную гармонию между разными формами разума. Смыслы передавались через энергетические импульсы и частоты, создавая глубокое взаимопонимание без необходимости слов.
Неожиданно для себя понял Александр.
– Ну и дела! Как хотите. Вы только поосторожнее – вот эти антенны могут зацепить провода.
– Ваше чувство юмора удивительно, Александр. Вы не возражаете против вступления в контакт?
Александр утвердительно моргнул и мгновенно почувствовал, как его сознание расширяется, становясь частью чего-то великого. Чувство единства с окружающим наполнило его удивлением и восторгом.
В этом состоянии глубокого слияния Александр ощущал, как его ум течёт в едином потоке с инопланетной энергией. Границы между "я" и "они" растворились. Это был опыт глубокого взаимопонимания земного и звёздного миров.
В этот момент Александр не думал в привычном смысле. Его сознание было поглощено потоком цвета, звука и идей. Он испытывал безграничное чувство взаимосвязи со всем окружающим. Возможно, он осознавал гармонию Вселенной, находясь с ней в полном контакте.
Эфемер вспыхнул, как огонёк на новогодней ёлке.
– Скажите, Александр, как вы видите явление "не в контакте"? Для нас оно не совсем понятно.
Александр моргнул ещё раз… и, неожиданно для себя, послал импульс в виде разноцветной ноты фа – 639 Гц. Смысл послания, в переводе на русский, содержал примерно следующее:
«В мире современных коммуникаций явление "не в контакте" остаётся заметным и, можно сказать, волнующим аспектом человеческой динамики. Эта концепция, подобно невидимому философскому ветру, пронизывает наши отношения и порой делает их лишь поверхностными танцами виртуальных теней.
Взгляд на это явление глазами культурной антропологии помогает понять феномен "не в контакте" как не только физическое отсутствие контакта, но и как символическую игру, где социальные медиа становятся ареной для создания иллюзии обширных взаимодействий, в то время как глубокие, реальные связи остаются запутанными или утраченными.
Таким образом, "не в контакте" становится как бы аллегорией нашей современной цивилизации. Это не просто отсутствие разговора – это выражение утраты смысла в сокровенных связях. Виртуальная связь заменяет реальную, а субъективные представления о другом человеке превращаются в собственные монологи, где каждый живёт со своим "я" и своими представлениями об окружающем мире.»
Эфемер загорелся яркими красками.
– Ваша культура – удивительное явление, Александр. Мы готовы продолжать обмениваться знаниями и взглядами… Однако, одиннадцать, открыли уже, Сань… ты че залип, ты в контакте вообще?
Александр вздрогнул, приходя в себя. Он посмотрел на Михаила, потом на часы – ровно одиннадцать.
В сознании Александра ещё мерцала, быстро угасая, разноцветная нота фа – 639 Гц:
"Погружённые в этот мир символов и знаков, мы можем задаться вопросом – стоит ли нам продолжать этот танец теней или, быть может, настало время выйти из этой игры и по-настоящему встретиться, разделить свои истории и почувствовать истинное общение? Потому что "не в контакте" может быть не только философским высказыванием, но и приглашением к более глубокому, богатому и человечному общению…"
– В контакте, Мих, просто показалось что-то.
Q.S., marginalia in somnis
Glossa:
Необходимо, однако, учесть, что понятие "контакт" в контексте виртуальных сетей значительно искажено, так как сама природа этих сетей выступает не как ткань взаимных отношений, но как зеркало, в котором каждый видит отражение лишь своей собственной сущности. Здесь, как и в философии Аристотеля, предполагается, что явление воспринимается через призму собственного опыта, что приводит к иллюзии связи, где связь на самом деле является не более чем эхом собственного внутреннего голоса.
Подлинный контакт, как следует из этого, не существует до тех пор, пока не будет разрушен тот внутренний комментарий, который мы постоянно навязываем другому, даже в момент его физического присутствия.
Быть "в контакте" – значит выдержать чужое присутствие, не заменяя его внутренним комментарием.
Nota exegetica:
Quod connexio videtur, saepe tantum echo vocis propriae est.
(То, что кажется связью, часто есть лишь эхо собственного голоса.)
Александр тряхнул головой, словно прогоняя остатки наваждения, и два приятеля решительно вошли в магазин. По пути, в сторону алкогольного отдела, в памяти Александра какое-то время оставались запечатленными чьи-то глаза.
«Глаза культурной антропологии…» – мелькнула загадочная мысль и исчезла.
13.
Его глаза, пронизанные мудростью множества циклов, смотрели мягко, но проникновенно. Он знал, как растопить беспечное детское любопытство и превратить его в настороженное внимание.
Мастер Йорен, один из старейших джедаев, медленно обвёл взглядом юнлингов, собравшихся вокруг него в тенистой беседке на вершине холма.
– Тёмная сторона Силы не появляется внезапно, – начал он. – Она не приходит в виде чудовища, с которым легко сразиться. Нет. – Она действует хитрее, пробуждая в нас страх, гнев, ненависть – эмоции, столь сильные, что они способны разрушить целые цивилизации.
Он помедлил, позволяя этим словам осесть в умах слушателей.
– Величайшая трагедия человеческой природы – это её склонность рисовать злодеев там, где их не существует. Наша фантазия, щедрая и необузданная, создаёт вымышленных врагов, словно художник, усердно вычерчивающий гротескные черты на пустом холсте.
– Но разве ненависть не возникает из-за зла? – спросила юнлинг по имени Рина, нахмурив брови. – Разве мы не ненавидим тех, кто творит зло?
Мастер улыбнулся, но его взгляд оставался серьёзным.
– Это верное наблюдение, Рина. Однако задайте себе вопрос: как вы узнаёте, что перед вами зло? Кто создаёт его образ? Кто держит кисть? Кто наполняет сердца ненавистью, прикрывая её «праведностью»?
Вспомним героев эпоса: отважные и чистые сердцем, они неизменно противостоят злу, которое столь же неизменно оказывается злобным, уродливым и недвусмысленно отвратительным.
Подобная логика применяется и в реальном мире. Политики, риторика которых строится на ненависти, находят удобную мишень: «врагов народа», «чужаков», «предателей». Им не нужно объяснять их поступки – достаточно убедить людей, что эти враги недочеловечны, что с ними нельзя вести диалог.
Если мы обратим внимание на искусство, политику и массовую культуру, то найдём явный ответ: ненависть – это инструмент, которым управляют умелые мастера манипуляции.
– Но почему же так происходит? – спросила одна из юнлингов, девочка с голубой кожей и большими глазами.
Мастер Йорен кивнул, одобрительно посмотрев на неё.
– Потому что ненависть – это самый лёгкий путь. Она кажется могущественной. Когда ты ненавидишь, тебе не нужно думать, не нужно сомневаться. Ты видишь только врага. Массы верят, потому что так проще. Так удобнее, чем смотреть в зеркало и признавать собственные страхи, неудачи и предрассудки.
Но знаете, что самое страшное? – Он склонился ближе, и голос его стал тише, словно он доверял им великую тайну. – Этот враг почти всегда выдуман.
– Выдуман? – переспросил другой юнлинг, морща нос. – Но как можно ненавидеть того, кого нет?
Мастер поднял руку, останавливая поток вопросов.
– Легко. Представьте, что кто-то внушает вам, что ваш сосед – ваш враг. Говорит, что он угрожает вам, вашей семье, всему, что вам дорого. Говорит, что вы в опасности, что вас могут предать. И если вы не усомнитесь, вы начнёте видеть угрозу даже там, где её нет. Так начинается путь к Тёмной стороне.
Мастер манипуляции ненавистью действует хитро. Он играет на самых базовых чувствах: страхе, обиде, гневе. Он тщательно создаёт «образ врага» – не просто опасного, но и безнравственного, отвратительного, такого, что его поражение кажется не просто необходимым, но и добродетельным.
Обратите внимание, как просты и эффективны их методы.
Обезличивание. Враг становится символом – «угрозой». У него больше нет индивидуальности; он сводится к набору негативных характеристик.
Универсализация. Любая группа превращается в монолит. Если один представитель группы виновен, значит, виновны все.
Эмоциональное заражение. Манипуляторы используют яркие образы и язык, чтобы возбудить у толпы коллективную ненависть.
Те, кто управляет этим инструментом, редко заботятся о последствиях. Им важны лишь сила и власть. Но цена, как правило, высока: разобщённость общества, войны, массовое насилие.
Юнлинги переглянулись, обеспокоенные.
– Но разве ненависть не даёт силу? – нерешительно спросил юный тогрута с пятнистыми рогами.
– Силу, да, – согласился мастер. – Но ненависть пожирает того, кто ею пользуется.
Она делает его рабом, ослепляет, не даёт увидеть истину. Вспомните Дарта Маласса, который уничтожил целую планету, чтобы отомстить за своего брата. Что он получил взамен? – Мастер замолчал, давая им время ответить.
– Ничего, – прошептал кто-то.
– Правильно. Он утратил самого себя. Именно этого хочет Тёмная сторона. Она кормится вашей ненавистью, заставляя вас разрушать.
Помните, что ненависть – это яд, который разрушает вас изнутри. Она лишает вас способности видеть правду, чувствовать сострадание. Кто предлагает вам ненависть как оружие, хочет лишь управлять вами. Тёмная сторона всегда использует это, чтобы укрепить свою власть.
Юнлинги молчали, задумавшись над словами мастера.
– Что же нам делать? – наконец спросила Рина.
Мастер Йорен улыбнулся, и его глаза засветились мягким светом.
– Искать истину, – сказал он. – Видеть людей такими, какие они есть, а не такими, какими их хотят показать вам страх и злость.
И помните: Тёмная сторона лишь тогда побеждает, когда вы сами даёте ей власть над собой.
Q.S., marginalia in somnis (Cod. Somn. Bibl. Noct. IV:131)
Мастер указал не на врага, а на кисть, что рисует врага.
Не смотри, кто стоит напротив. Смотри, кто держит зеркало.
Он замолчал, дав юнлингам осмыслить его слова. Потом поднялся, его мантия плавно колыхнулась на ветру.
– Всегда помните, что ваш истинный враг – это не тот, кого вы видите снаружи. Ваш враг внутри. И только вы сами решаете, кто победит.
Юнлинги слушали внимательно, как будто эти слова открывали им дверь в неведомое.
14.
Дверь заскрипела, и в комнату вошёл Папа Карло. Он держал в руках кружку горячего чая, из которой поднимался лёгкий пар.
– Ах вы, бедняжки, – произнёс он с нежностью. – Беспокойство и сожаление совсем вас одолели.
Буратино, высунув нос из-под одеяла, хрипло пробормотал:
– Как тут не сожалеть, Папа Карло? Золотые… они пропали. Всё пропало.
Мальвина встрепенулась:
– А я? Разве можно не тревожиться, если он здесь лежит и мучается?
Папа Карло улыбнулся себе под нос и поставил кружку на край стола.
– Видите ли, дети, тревога – это наш ум, который слишком много думает о том, чего нет.
Его слова, как лёгкий ветерок, пронеслись по комнате, и дети невольно замерли, прислушиваясь.
– Если вдуматься, – продолжал он, – сожаление и беспокойство – это словно два тёмных призрака. Один тянет нас в прошлое, другой – в будущее. Мы сожалеем о том, что уже случилось, и боимся того, что ещё может произойти. А в это время настоящее утекает, как песок сквозь пальцы.
Папа Карло сделал несколько шагов к окну. Его голос звучал теперь задумчиво, почти медленно, словно он взвешивал каждое слово.
– Видите ли, дети, – начал он снова, – тревога – это хитрый враг. Она прячется в нашей способности думать, мечтать и помнить. С одной стороны, это великий дар – ведь именно способность осмысливать время делает нас людьми. Но этот же дар превращается в ловушку, когда мы слишком много думаем о том, что уже прошло, или о том, что может случиться.
Он повернулся к детям, и его лицо, несмотря на морщины, светилось теплотой.
– Сожаление, мои дорогие, – это как тяжёлый камень, который мы сами кладём себе на спину. Мы думаем: «Если бы я поступил иначе» или «Почему я так сказал?» – и день за днём живём не с тем, что есть, а с тем, чего уже не вернуть.
Буратино поднял голову, его деревянный лоб нахмурился.
– Но, Папа Карло, разве сожаление – это не наказание за ошибки?
Карло покачал головой, словно оспаривая саму природу этого утверждения.
– Нет, мальчик мой. Сожаление не должно быть наказанием. Оно может быть учителем. В каждой ошибке есть урок. И если ты учишься, то сожаление становится не камнем, а путеводной звездой, указывающей, как идти дальше. Но если ты позволяешь ему властвовать над тобой, оно превращает твою душу в тюрьму.
Он сел на стул, чуть ближе к Мальвине, и, обратив на неё ясный взгляд, продолжил:
– А беспокойство – это ещё более коварная ловушка. Оно живёт в будущем, в том, чего мы не знаем и не можем предсказать. Мы боимся: «Что если случится беда?» или «Что если я потеряю что-то важное?» Мы создаём в своей голове образы, которые пугают нас. Но знаешь, что интересно? Большинство из этих страхов никогда не сбываются.
Мальвина вздохнула.
– Но как же не бояться? Если я не буду думать о плохом, разве это не значит, что я стану беспечной?
Карло улыбнулся, его взгляд стал мягче.
– Милая девочка, беспечность – это не то же самое, что уверенность. Не думать о плохом – значит доверять себе. Знать, что, когда придёт время действовать, ты найдёшь в себе силы. Беспокойство же – это пустая трата энергии.
Он откинулся назад, сложив руки на груди, и его тон стал чуть строже:
– Представьте, дети, что вы идёте по дороге. Сожаление тащит вас назад, к тому месту, где вы уже прошли. А беспокойство заставляет вас бежать вперёд, туда, куда вы ещё не дошли. И всё это время вы не видите самой дороги под ногами. Вы пропускаете настоящее, то единственное, что у вас действительно есть.
Буратино нахмурился.
– Но что же нам делать, Папа Карло? – спросил он.
– Да, как нам справиться? – добавила Мальвина, её синие глаза наполнились слезами.
– Начать с простого, мои дорогие, – ответил Карло. – Осознайте, что ваши сожаления и тревоги – это не враги, а мудрые наставники.
– Наставники? – недоверчиво протянул Буратино.
– Да, наставники, – повторил Карло с улыбкой. – Сожаление учит нас, что каждое упущение – это урок, а беспокойство показывает, что будущее не всегда страшно.
Он повернулся к Буратино:
– Ты потерял свои золотые. Да, это больно. Но ты всё ещё здесь, у тебя есть твоя голова, твои друзья. Разве это не богатство, что ценнее любого золота?
Буратино, задумавшись, кивнул.
– Возможно… я могу придумать, как заработать новые золотые.
– Вот именно, – ободряюще произнёс Карло и повернулся к Мальвине. – А ты, дитя моё, тревожишься за Буратино, но разве тревога помогает ему?
Мальвина молчала, опустив глаза.
– Быть рядом – значит не тревожиться, а верить. Иногда помощь – это просто тёплое слово и спокойствие.
Мальвина посмотрела на Карло с робкой улыбкой.
– Вы правы… я буду рядом.
– И вот ещё что, – добавил Карло, поднимаясь. – Никогда не забывайте: жизнь – это то, что происходит сейчас. Прошлого уже нет, а будущее ещё не наступило. Но настоящее – это ваш подарок.
Дети переглянулись. На их лицах, ещё минуту назад таких мрачных, появились робкие улыбки. Буратино сбросил одеяло, будто скинув с себя груз.
– Ну что ж, – сказал он бодро, – давайте пить чай!
– А я испеку пирог, – заявила Мальвина с новой решимостью.
Q.S., marginalia in somnis (Cod. Somn. Bibl. Noct. IV:1004), compendium mysticum
Llturgia interior (внутренняя литургия).
Папа Карло входит с чашей – сосудом настоящего.
Daemon memoriae и larva futuri. Сожаление и тревога названы не врагами, но учителями – как в герметическом учении, где каждый демон есть ангел в маске, не враг, но облик незнания. Познав его, ты раскрываешь сокрытую истину.
То, что пугает, учит.
То, что ранит, пробуждает.
Всё, что встречаешь, – ты сам, в другой форме.
Троица Буратино, Мальвина, Карло – есть dramatis personae внутреннего алтаря: прошлое, будущее и страж настоящего.
В момент, когда дети отбрасывают страх и печаль, начинается transfiguratio temporis: пирог и чай становятся причастием возвращённой простоты. Присутствие здесь – не психологическая категория, а sacramentum lucidae quietis.
Stridens inua mentem excitat.
Te conviva, conviva tantum.
(Дверь скрипит – ум пробуждается.
Когда ты пьёшь чай – пей чай).
Так они вместе справились с беспокойством и сожалением, сделав шаг навстречу настоящему.
15.
Настоящая криминальная драма что разыгралась однажды, в маленькой избушке на опушке леса, навсегда изменило жизнь героев нашего дальнейшего повествования. Эта история была переполнена хитростью, страхом и болью.
Но время шло.
Теперь семеро козлят превратились в крепких козлов. Они жили свободной жизнью: бегали по лесам, бодались для веселья и исследовали мир, который когда-то казался им пугающим. Однажды они собрались вместе и вспомнили ту давнюю историю.
– А как же волк? – спросил один из них.
– Жив ли он? Что с ним стало? – поддержал другой.
Никто не знал ответа. В итоге они решили отправиться туда, где когда-то началась их общая история.
Когда они подошли к маленькой избушке, которую узнали не сразу, их охватило чувство странного волнения. Постучали.
– Волк, волк, отвори! Мы пришли тебя навестить! – громким хором проговорили они.
Волк (из-за двери):
– Ой, да кто там? Не надо мне мешать! Уйдите!
Но козлы не уходили.
Один из козлов:
– Не бойся, волк. Мы просто хотим с тобой поговорить. Почему ты боишься? Мы же просто козлята, те самые, помнишь?
Волк:
– Ну, вы же… вы же здоровенные козлы! А я… я старый и больной. Мне и думать страшно о тех временах. Вы не понимаете.
– Почему же не понимаем? – отозвался самый младший из козлов. – Мы хорошо помним, каково это – жить в страхе.
Дверь слегка скрипнула. В проёме показалась измождённая морда. Глаза волка уже не сверкали, как прежде. В них не было ни хитрости, ни ярости, лишь усталость и недоверие.
– Вы правда не хотите отомстить?
– Правда, – кивнули козлы. – Мы долго думали об этом, волк. Страх прошёл, а за ним остались вопросы. Почему ты был таким? Почему охотился на нас? Был ли ты когда-нибудь счастлив?
Волк хрипло рассмеялся.
– Счастлив? Нет, не был. Я всегда боялся: что голод найдёт меня раньше, чем я найду еду. Вы были просто добычей, козлята. Вы не знали, но я боялся тогда не меньше вашего.
Козлы переглянулись.
– Тогда мы с тобой одинаковы. Но если ты одинок и боишься, разве не лучше впустить нас? Может, мы сможем чем-то помочь.
И волк, дрогнув, распахнул дверь.
В доме было темно и пусто. Волк стал тихим отшельником, которого забыли даже его инстинкты. Но козлы не ушли. Они помогли ему обустроить избушку, посидели рядом. А волк, вглядываясь в их бородатые морды, впервые за долгое время почувствовал тепло.
С каждым днём недоверие таяло, словно лёд под солнцем. Волк учился верить, уже не в то, что козлы простили его, а в то, что он может простить себя.
Q.S., marginalia in somnis (Cod. Somn. Bibl. Noct. IV:1023)
Non est fabula, sed palingenesia mythi. Это не сказка, но перерождение мифа.
История семи козлят и старого волка, в её данном преломлении, теряет черты морализаторского нарратива и становится сновидческой литургией памяти. Волк, некогда larva futuri – маска страха грядущего, становится daemon memoriae – духом пережитого ужаса, но уже обессиленного, ждущего не кары, а слова.
Здесь речь идёт не о морали, но о метаморфозе восприятия.
История не о прощении, а о том, что сказки, однажды ожив, требуют своего нового прочтения – уже не детьми, а взрослыми, которые всё ещё помнят, как это – бояться темноты…
Так началась их странная дружба, в которой страх и обиды стали всего лишь тенью далёкого прошлого.
16.
В не таком уж далёком прошлом, в одном недалёком королевстве, жила-была Золушка.
Она с детства привыкла к тому, что всё в её жизни происходило по щелчку пальцев. Фея-крёстная появлялась всякий раз, когда у Золушки возникала проблема: платье для бала – пожалуйста, карета – вот она, даже с тыквой самой возиться не надо.
Фея всегда говорила:
– Зачем утруждать себя, моя девочка? Жизнь должна быть лёгкой!
Золушка росла, веря этим словам. Она никогда не училась шить, готовить или убирать. Зачем, если крёстная всегда тут как тут?
Однажды в королевстве объявили великий бал. Все девушки принялись шить наряды. Золушка, конечно, подождала до вечера. Когда часы пробили шесть, она вздохнула и позвала:
– Крёстная! Сделай мне платье, карету и пусть принц сразу обратит на меня внимание!
Фея появилась в облаке золотистой пыли.
– Как пожелаешь, дитя моё, – сказала она, взмахнув палочкой.
И вот Золушка уже на балу. Её платье ослепляло, карета сияла наравне с королевскими экипажами, а принц сразу подошёл к ней.
– Какая вы прекрасная! – сказал он. – Но скажите, чем вы увлекаетесь?
Золушка растерялась.
– Ну… я люблю, когда всё происходит по волшебству.
Принц нахмурился.
– А что вы умеете делать сами?
– Умею? – удивилась она. – Разве мне это нужно?
В общем, все было волшебно, мило и весело.
– Крёстная, я хочу новое платье! Это вчерашнее мне надоело!
Но фея не появилась.
Прошёл день, другой, третий, а Золушка так и сидела на полу, окружённая пылью и паутиной. Никто не пришёл ей помочь.
В конце концов она вышла на улицу и увидела, как её сводные сёстры строят грядки, украшают дом к весне и радуются своим маленьким успехам. Золушка подошла к ним.
– Зачем вы всё это делаете? Разве это не скучно?
Одна из сестёр, не переставая копать землю, улыбнулась:
– Может, и скучно, если об этом только думать. Но как приятно вечером смотреть на сделанное своими руками!
Вторая сестра просто улыбнулась и ничего не добавила.
Золушка задумалась.
Сначала у неё ничего не получалось. Первое платье, которое она сшила, оказалось кривым, а пирог сгорел в печи. Она хотела снова позвать фею, но та так и не появилась.
Прошло много времени, прежде чем Золушка научилась сама печь, вышивать и украшать дом. И вот однажды она посмотрела на сад, который посадила своими руками, и почувствовала радость.
В тот же вечер вернулась фея.
– Ну что, дитя моё, помочь тебе?
Золушка улыбнулась и ответила:
– Спасибо, крёстная, но больше не нужно. Теперь я знаю, что такое настоящая магия.
Фея рассмеялась.
– Ты, наконец, поняла главный секрет волшебства.
С тех пор Золушка перестала ждать чуда и стала творить его сама. Принц, узнав об этом, пришёл в восторг, и вскоре они вместе строили новый замок, выращивали сад и с удовольствием обсуждали, как приятно быть хозяевами собственной жизни.
Ведь каждый человек приходит в мир с врождённым пониманием своей связи с природой.
Эта связь не навязывается – она естественна, как дыхание или ритм сердца. Однако современная культура часто разрушает её ещё в детстве. Ребёнка избавляют от мелких забот, лишая шанса ощутить радость созидания. У него отбирают инструменты, которыми он мог бы строить своё понимание мира, и заменяют их готовыми ответами.
Такой человек, выросший в комфортной клетке, впоследствии сталкивается с естественными требованиями природы – заботой о своём теле, времени, отношениях – как с непосильным бременем. Эти простые, почти первобытные задачи кажутся ему формой угнетения. Почему?
Потому что его свобода была подменена иллюзией. С самого начала ему внушали, что любое неудобство можно устранить: грязная посуда отмоется сама, голод утолится мгновенно, а досуг станет приятным без усилий. В результате труд перестаёт восприниматься как естественная часть жизни. Человек утрачивает радость от того, чтобы мять «землю» в руках, чтобы создавать из хаоса форму, чтобы чувствовать себя архитектором своего собственного существования.
Ленивый человек – это продукт времени, которое лишило его пространства для ошибок и экспериментов. Ведь созидание – это не только радость успеха, но и неизбежная встреча с неудачами.
Если с детства человека защищали от провалов, он вырастает неспособным сопротивляться даже малейшим трудностям.
Природа, требующая усилий, становится для него тюрьмой, потому что она напоминает о его собственной беспомощности.
Природа, как мудрый учитель, не ставит перед нами требований ради наказания. Её заботы – это приглашение к участию в великом процессе жизни. Когда человек строит дом, выращивает дерево или пишет книгу, он становится частью этого процесса. Он перестаёт быть наблюдателем и начинает быть создателем. Это ощущение созидания – фундаментальная часть человеческой свободы, той самой свободы, которая часто подменяется комфортом.
Лишившись радости созидания, человек теряет не только связь с миром, но и с самим собой.
Пока ты спишь, заботы кажутся реальностью. Но если посмотреть внимательнее – они указывают на того, кто спит. А значит, может проснуться.
Q.S., marginalia in somnis
Перед нами – притча о ложной свободе, которая суть форма зависимости.
Здесь Золушка превращается в фигуру, олицетворяющую современного человека, воспитанного в культуре магического потребления – образ субъекта, у которого отнята возможность формироваться через напряжение реального.
Крёстная-фея – это не просто архетип доброй помощницы, но символ той самой инфантильной метафизики, в которую нас вводят с раннего детства: мир должен быть удобным, быстрым, волшебным. Все трудности – баги системы, а не часть жизни. Сама фея – эманация той системы, что имитирует заботу, чтобы не дать вырасти боли. Но, Sine dolore, cognitio non nascitur.
(Без боли не рождается познание.).
Однако рассказ стремительно разворачивается от волшебной мизансцены к форме внутреннего пробуждения, почти аскетического. Как в подлинной алхимии, героиня вынуждена пройти через чёрную стадию (nigredo) – разочарование, одиночество, первые неудачи – прежде чем обретёт настоящую силу: не над миром, а над собственной беспомощностью.
Принц, задающий вопрос: «Что ты умеешь?», становится голосом Logos в волшебной реальности Mythos, он – не столько персонаж, сколько зеркало. Его простой вопрос разрушает заколдованную онтологию. Что ты умеешь?– вот первый философский вопрос. Не Кто ты?, а именно Что ты в состоянии совершить? – ибо субъект проявляется через действие, а не через нарратив о себе.
Сама магия, в финале, оказывается не в палочке, а в граблях. Ирония, столь характерная для добросовестного просветителя, здесь оборачивается этической глубиной: чудо, освобождённое от труда, есть ловушка, оно, как и лёгкое знание, что не оплачено болью поиска, превращается в соблазн, который скрывает правду.
Bonum passivum non gratitudinem, sed avaritiam exsiccata generat.
(Пассивно полученное благо не воспитывает благодарности, а порождает истощённую жадность.).
Эта история – не о Золушке, а о каждом, кто однажды перестаёт ждать. Не ждёт – значит, уже вышел из сказки. Эта история – не о Золушке, а о нём.
Vocas ftam – fabula oculos fallit.
Tacet vox – vita oritur.
Et haec ipsa – umbra somnii.
(Зовёшь фею – сказка обманывает взор.
Голос умолкает – рождается жизнь.
Но и она – лишь тень сна).
17.
Однажды, в одной удивительной стране, где всё появляется и исчезает, Наблюдатель решил составить компанию Гуляющему с Собакой Под Дождем, который тут же куда-то подевался.
Наблюдатель стоял на тропе в одиночестве, наблюдая прохладный дождь, который медленно падал с неба. "Какое интересное место", подумал он. "Здесь всё приходит и уходит, воссоздавая непрерывную перемену".
Он стал доставать блокнот и ручку из рюкзака, готовый записать эту странную историю, вместе с тем, постепенно растворяясь и исчезая в пространстве.
На его месте, в то же мгновение появлялся Увлеченный.
Обычно, когда он появлялся, Наблюдатель исчезал, бывало наоборот.
Впрочем, нередко они появлялись вместе. В такие мгновенья Увлеченный был увлечен всем, что окружало его: красками, звуками, запахами. Каждый момент жизни для него был возможностью исследовать и открывать что-то новое. А Наблюдатель в это время, как обычно, наблюдал и ни во что не вмешивался.
Это была удивительная страна.
На этот раз Увлеченный стоял в одиночестве с блокнотом и карандашом в руках.
Весь мир вокруг Увлеченного наполнился исследованием и творчеством, растворив всю остальную Удивительную страну, где все появляется и исчезает.
В стремлении к творчеству и исследованиям, он мог погружаться в мир настолько глубоко, что забывал о времени, обязанностях и взаимодействии с другими существами. Иногда, он отрывался от реальности, поглощенный своими мыслями и идеями.
Так, одна за одной в его блокноте появлялись эти строки.
Между тем, Мопс, который сам по себе являлся загадкой этой удивительной страны, появлялся и исчезал по своему желанию. Он пробежал мимо Увлеченного, игриво похрюкал, и тут же исчез.
Внезапное появление и исчезновение собаки отвлекло Увлеченного от его увлечения, а спустя мгновение вновь появился Наблюдатель в компании с Гуляющим с Собакой Под Дождем, который к тому моменту успел весь промокнуть и замерзнуть.
Самое время возвращаться, сказал Гуляющий с Собакой Под Дождем Судье, возникающему на месте убиравшего в рюкзак блокнот и ручку Увлеченного.
Судья обладал ясным видением различия между правильным и неправильным, добром и злом. Он считал себя ответственным за оценку своих поступков и действий, а также за их последствия. Он стремился принимать решения, которые соответствовали его высоким моральным принципам.
Гуляющий с Собакой Под Дождем немного съёжился, то ли от холода, толи от мысли о том, что потратил время на какие-то записи, вместо игры со своим четвероногим другом.
Но Судья умел не только судить, он обладал способностью прощать и находить мир.
Особенно, когда Наблюдатель был где-то рядом. Он понимал, что никто не совершенен и что важно извлечь уроки из удач и ошибок, чтобы расти и развиваться.
Гуляющий с Собакой Под Дождем постоял еще немного и неспешно направился в сторону дома.
Время от времени он исчезал, становясь всеми теми необычными существами и местами, которые привлекали внимание и воображение.
Впереди весело семенил песик, он искал захватывающие ароматы и совсем не обращал внимания на холод и дождь.
Ничего необычного. Просто такая вот удивительная эта страна, где все появляется и исчезает..
Q.S., marginalia in somnis
– Verbum "ego" est vestigium in pulvere: videtur, sed non manet.
(Слово «я» – след в пыли: виден, но не сохраняется.)
Наблюдатель увидел, как Гуляющий исчез.
Он взял блокнот, чтобы записать это,
И сам исчез.
На его месте появился Увлечённый.
Он не заметил, как исчез мир.
Он записал строки —
И блокнот исчез.
Мопс пробежал мимо, исчез и не вернулся.
Судья появился в конце,
Но не вынес приговора,
Потому что было некого судить.
Но если ты идёшь под дождём с собакой – кто держит поводок? Кто идёт под дождём?
"Si dixeris: 'Ego' – iam errasti.
Si silueris – canis silentium mordet."
(Если ты скажешь: «Я» – ты уже ошибся.
Если промолчишь – собака укусит тишину.)
18.
Этот парадокс, явленный в простых и привычных для нас вещах, таких как деньги, власть или религия, подводит нас к мысли о том, что "конкретная абстракция" – это вовсе не оксюморон, а жизненно важный аспект человеческого существования.
Когда в ранние века человечество начало использовать ракушки или зерна в качестве первых форм денег, оно столкнулось с поразительным явлением: предметы, ранее бесполезные, обрели огромную силу, лишь потому что были наделены определённым смыслом. Абстрактное понятие стоимости, ранее не существовавшее в природе, вдруг получило физическую форму. Сначала это были ракушки, потом золото, а затем кусочки бумаги с изображениями великих деятелей. Мы придумали деньги как символы богатства, но со временем они стали иметь большую власть над нами, чем само богатство.
Этот процесс объективизации – превращение абстрактного в конкретное – кажется почти магическим. Но магия здесь не в самом акте, а в том, как люди продолжают верить в материальность этой абстракции.
Мы создаём правила и системы, возводим их на пьедестал и начинаем поклоняться им, забывая о том, что всё это – продукт нашего ума. Так абстракции обретают плоть, и то, что когда-то было лишь плодом воображения, начинает диктовать свои законы нашему миру.
Рассмотрим понятие власти. Власть не существует в вакууме; она абстрактна по своей сути, но её проявления, будь то в виде государственного аппарата, армии или системы правосудия, приобретают конкретную форму. Эта форма может быть столь материальной, что кажется неизбежной, словно природный закон. Власть становится зримой, ощутимой и, что более важно, признанной реальностью. Она проникает в наши жизни через законы, символы и ритуалы, превращая абстрактные понятия суверенитета и легитимности в конкретные действия и решения.
Религия – ещё один пример того, как абстракция становится конкретной. Вера в божественное, что само по себе является чистой абстракцией, материализуется в форме храмов, священных текстов и ритуалов. Мы окружены этими символами, и они начинают формировать нашу повседневную жизнь, создавая конкретные правила поведения, моральные нормы и культурные традиции. Для верующего человека абстракция Бога становится конкретной реальностью, в которую он погружается ежедневно.
Но, возможно, самый яркий пример конкретной абстракции – это само время. Время – это концепция, которую невозможно увидеть или потрогать. И всё же, мы создали часы, календари, таймеры, которые делают время "видимым". Мы измеряем его, планируем свою жизнь в соответствии с ним, строим своё будущее на его основе. Абстрактное понятие времени стало основой для целых систем и структур, без которых современная жизнь была бы невозможна. Оно управляет нами, направляет нас и ограничивает нас – как река, текущая в заданном русле, хотя её русло было вырыто нашим собственным разумом.
Всё это подводит нас к выводу, что абстракции – это не просто бесплотные идеи, существующие только в голове философов. Это силы, которые, пройдя через фильтр человеческого сознания, становятся плотью нашего мира. Они строят города и империи, создают законы и традиции, и в конечном итоге формируют то, что мы называем реальностью. Конкретная абстракция – это, по сути, наше признание того, что реальность, как мы её понимаем, есть не более чем объективация нашего коллективного сознания.
Но если абстракции так могущественны, стоит ли удивляться, что они иногда оборачиваются против нас? Мы создаём системы, которые нас же и порабощают, мы формируем понятия, которые начинают нас ограничивать. И тогда, возможно, единственный способ вернуть себе свободу – это вновь сделать абстракцию абстрактной, осознав, что её материальность – это всего лишь иллюзия, созданная нами самими.
Q.S., marginalia in somnis.
Abstrahere est dominari.
Комментируя данный фрагмент, невозможно не вспомнить римское понятие auctoritas – власть не декретная (imperium), но внутренняя, протоонтологическая, восходящая к акту признания, признания не столько логического, сколько экзистенциального. Она не навязывается, но пронизывает, не требует повиновения, но формирует саму возможность мысли.
Читатель, обладающий терпением инквизитора и сомнением аскета, уже постиг, что речь идёт не об эволюции символа, а о его muta potentia – скрытой, многоликой способности внедряться в сознание под видом истины.
В начале – granum, concha, signum: зерно, ракушка, знак. Потом – codex, exercitus, templum. Возникает порядок, вырастает конструкция. Но суть остаётся неизменной: мы не столько изобретаем форму, сколько ретроспективно убеждаем себя в её необходимой реальности. Это – post factum credulitas, вера, возникающая после рождения системы.
Ирония автора – subtilis, sardonica – проявляется в финальном повороте: чтобы освободиться от гнёта абстракции, не нужно разрушать её, достаточно вспомнить, что она – ludus mentis, игра ума. Но игра, где стерта граница между condicio и ontologia, между соглашением и бытием. Мы уже не различаем pactum и dogma.
––
Учитель сказал:
– Когда время идёт – ты бежишь. Когда деньги говорят – ты молчишь. Когда власть дышит – ты исчезаешь.
Ученик сказал:
– Но всё это – иллюзия, phantasma mentis!
Учитель взял чашу, наполнил её ветром, и протянул ученику.
– Выпей, – сказал он.
Ученик раскрыл уста, но ветер растворился в пустоте.
Ибо не всякая пустота позволяет жаждущему напиться,
и не всякий, кто понял притчу, проснулся.
19.
Двенадцать лет упорного труда и обучения в университете Бенареса. И вот, Амар, наконец получил диплом. Он был готов начать карьеру. Преданный ученик астрологии и хиромантии, посвятивший свою жизнь изучению этих древних искусств.
Амар направлялся домой, полный надежд и ожиданий, в мечтах о том, как станет придворным астрологом и советником у самого раджи.
По дороге он остановился под раскидистым баньяном, чтобы отдохнуть и перекусить.
Пока Амар наслаждался свежим воздухом и тишиной, внимание его привлекли следы на песке. Интерес разбудил профессиональный инстинкт, и он решил поупражняться в искусстве, предсказать судьбу человека, оставившего эти следы.
Однако, к собственному удивлению, не мог увидеть ничего. Он пытался сосредоточиться, но его ум оставался пустым. Заинтригованный, Амар решил пройти по следам и узнать, кто же их оставил.
Он пошел по тропинке, ведущей к реке. И, вскоре увидел человека, сидящего на берегу, со спокойным выражением лица.
Амар подошел к нему и поклонился. Молодой человек улыбнулся.
"Приветствую", – сказал он мягким голосом. "Что привело тебя сюда?"
Амар объяснил, что он астролог и хиромант, и что он пытался предсказать судьбу того, кто оставил следы на песке. Однако он не смог увидеть ничего, кроме пустоты.
Молодой человек кивнул и снова улыбнулся.
Амар был ошеломлен. Он не мог поверить, что перед ним сидит тот, чью судьбу он пытался предсказать.
"Но как?" – спросил он. "Как вы можете оставлять следы, но не иметь судьбы!?"
Молодой человек, сидящий на берегу реки, внимательно посмотрел на Амара, словно оценивая, насколько тот готов услышать ответ. Затем он медленно произнес, почти шепотом:
– А что ты понимаешь под судьбой, друг мой?
Амар растерялся. Он был готов говорить о линиях на ладонях, о звездах и планетах, которые формируют пути людей, но в этом спокойном взгляде было нечто, что заставило его задуматься глубже.
– Судьба – это то, что предначертано, – начал он осторожно. – Она отражена в линиях на наших руках, в движении звезд, она ведет нас по жизни, будто незримая нить.
Молодой человек кивнул, словно в знак согласия, но не торопился отвечать. Его взгляд странствовал по глади реки.
– Значит, ты веришь, что у каждого есть нить? – спросил он наконец, не отрывая взгляда от воды.
– Да, конечно. Даже самый малый и самый великий связаны этим узором, – сказал Амар.
Незнакомец посмотрел на него с доброй улыбкой.
– А если нить оборвана? Если ее не было с самого начала?
Амар вздрогнул.
– Это невозможно! Каждый рождается с судьбой. Все сущее следует своим путем.
Молодой человек мягко кивнул.
– А ты когда-нибудь задумывался, кто рисует этот путь? Кто держит нить?
Амар опешил. Здесь, под взглядом этого странного человека, его знания казались поверхностными.
– Это воля богов, – сказал он неуверенно.
– Или, возможно, твоя собственная, – ответил незнакомец, и в его словах не было ни спора, ни насмешки.
Амар замер.
– Но… – Амар попытался что-то возразить, но слова увязли у него в горле.
Молодой человек поднялся и взглянул на него с легкой грустью.
– Кто вы? – прошептал Амар, ощущая странную дрожь в руках.
– Тот, кого нельзя найти по звездам или линиям на ладонях, – ответил незнакомец.
С этими словами он повернулся и пошел вдоль реки, исчезая в тумане. Амар долго стоял, глядя вслед, а потом медленно опустился на песок, чувствуя, как его разум и сердце наполняются новыми вопросами, на которые он еще не знал ответов.
Q.S., marginalia in somnis
Сей фрагмент напоминает нам: не всё знание хранится в словах. Огонь – не всегда разрушение. Иногда он очищает от иллюзии смысла, которую мы принимаем за суть. Пепел текста, в таком случае, может оказаться более красноречивым, чем сам текст.
В одной из древних школ считалось, что истина – это то, что остаётся, когда исчезает объяснение. И, быть может, этот незнакомец у реки – не пророк, не мессия, а скрытая сноска в конце манускрипта, та, что указывает: дальнейшая интерпретация невозможна.
Так, ученик звёзд, встретил не карту, но пустоту, и в ней – источник. Тому, кто способен видеть между строк, не нужны пророчества. Ему достаточно тишины, в которой исчезает нужда в предсказании.
Aliquando codices ardent, ut discamus non in textum, sed inter lineas spectare.
(Иногда рукописи горят, чтобы мы научились смотреть не в текст, а между строк.)
20.
Он не знал ответов.
В сыром и промозглом Петербурге, где густой туман, клубясь над Невой, скрывал лица прохожих и проникал в самые потаенные уголки души, жил Петр Петрович. Еще молодой человек, он влачил жизнь, которая, как ему казалось, давно утратила всякий смысл.
Его глаза не видели ярких красок, а сердце оставалось холодным, как зимний ветер.
Когда-то Петр Петрович был полон надежд и мечтаний. Но череда неудач и разочарований постепенно отняла у него жизненные силы. Он словно погрузился в густой туман, где все было серым и безрадостным. Каждый день был похож на предыдущий, а будущее казалось беспросветным.
Петр чувствовал себя одиноким. Его семья, занятая своими делами, не замечала его душевных мучений. Друзья, когда-то близкие, отдалялись один за другим. И Петр все больше погружался в себя, словно в раковину, защищаясь от внешнего мира.
Его квартира была словно отражением его мира внутреннего: мрачная и неуютная.
Петр часто сидел у окна, глядя на пустую улицу. Проходили люди, проносились извозчики, ветер шевелил тусклые вывески на домах. Но он этого не видел. Его взгляд был обращен внутрь себя, в ту мрачную бездну, что разверзлась в его душе. "Какой смысл во всем этом?"
В его голове крутились мрачные мысли о смерти, о бессмысленности бытия. Ему казалось, что единственный выход из этого тупика – уйти из жизни.
Как-то раз Петр Петрович отправился на кладбище. Бродя среди могильных плит, он чувствовал странное умиротворение. Ему казалось, что здесь он наконец-то найдет покой.
Тем же вечером в этот мир отчаяния заглянул Иван Иванович, его старый приятель еще с гимназических времен. Они не виделись около года – дела, заботы… Увидев друга – бледного и изможденного, – Иван нахмурился.
– Петя, что с тобой?
Петр усмехнулся горько и как-то обреченно.
– Скажи, Иван, в чем смысл этой жизни? Мы живем, суетимся, надеемся, но в конце нас ждет лишь тьма.
Иван Иванович присел на стул и на мгновение замолчал.
– Ты слишком зациклился на мраке. Знаешь, я думаю, что страдание – это не наказание, а урок. Жизнь не требует, чтобы мы разгадали ее смысл. Она просто хочет, чтобы мы были частью ее потока.
Петр покачал головой.
– Красивые слова, Иван. Но как быть, если сил плыть по этому потоку больше нет?
Иван не стал спорить.
– Ты ведь помнишь, как мечтал увидеть Байкал?
Иван Иванович вынул из своего кармана конверт и положил его на стол. Петр взглянул на него с недоверием.
– Что это? – спросил он.
– Это билет в новую жизнь, Петя, – ответил Иван с мягкой улыбкой. – Завтра поезд уходит в Иркутск. А оттуда ты сможешь отправиться куда угодно. Впереди целый мир. Он ждет тебя.
Петр нахмурился, будто размышляя над словами друга, но ничего не сказал. В его голове крутились сомнения. Разве можно просто так все бросить? Его жизнь была пуста, но все же привычна. А здесь – неизвестность, новая реальность, которой он не мог представить.
– Иван, я даже не знаю, как это возможно, – наконец сказал он. – У меня нет сил… нет цели.
– Цель появится по пути, Петя, – перебил Иван. – Мы ведь не всегда знаем, зачем отправляемся в путь. Но дорога сама дает ответы.
Петр молчал. Иван встал, положил руку на плечо друга и посмотрел ему в глаза.
– Я хочу, чтобы ты поехал. Даже если сейчас тебе кажется, что ничего не изменится. Просто попробуй. Дай себе шанс.
Когда Иван ушел, Петр остался сидеть у окна с билетом в руках. Вечерний свет фонарей падал на его лицо, подчеркивая усталость, залегшую в чертах. Конверт был странно легким, но будто тянул его руки вниз. Что делать? Бросить все и уехать? Или остаться?
Почти всю ночь Петр провел без сна. Он стоял у окна, глядя, как редкие прохожие спешат по своим делам. Где-то вдалеке послышался шум проезжающего трамвая, который почему-то, внезапно напомнил ему юношеские годы. Сколько было надежд, сколько было мечтаний… Но куда это все исчезло?
Когда утро окрасило небо серо-розовым светом, Петр уже не сомневался. Он аккуратно сложил пару рубашек в небольшой чемодан, бросил туда книгу, которую давно хотел прочитать, и, словно отрезая себя от старой жизни, шагнул за порог.
Поезд тронулся.
Петербург остался позади. Его промозглые улицы и бесконечный туман растворялись в прошлом. Впереди был Байкал, степи внутренней Монголии, новые лица и новые истории. И, может быть, на этом пути Петр наконец-то найдет себя.
Q.S., marginalia in somnis
Порой знание – не свет, а груз.
Iter non incipit ex certitudine, sed ex fatiscere immobilitatis
А путь начинается не с уверенности, а с усталости от неподвижности.
Пётр не прозрел. Он просто устал не жить.
И в этом – великая перемена.
Вопрос «в чём смысл?» – ловушка, если ждать ответа прежде, чем начать движение.
Байкал, возможно, ничего не объяснит.
Но в звуке колёс, в холоде стекла, в незнакомом лице напротив – может быть то, чего нет в книгах:
молчаливое разрешение быть.
А значит – жить.
Non scivit responsa. Sed fecit gradum.
(Он не знал ответов. Но сделал шаг.)
21.
– Скажите, Василий Иванович, это же ведь целое искусство – управлять автомобилем? – Спросил Петр, не отрывая заинтересованного взгляда от блестящего, покрытого лаком форда, что явственно выделялся среди обыденных повозок, нагруженных всяким скарбом, и суровых боевых тачанок, беспорядочно раскиданных меж покосившихся сараев вдоль узкой, удушливо пыльной улицы.
Как правило, Василий Иванович ездил на "форде". Хотя у него был и "паккард".
– Не так уж и трудно, ежели подучиться немного, – ответил Чапаев. Его слова прозвучали загадочно.
Петр поднял брови. – Подучиться?
Чапаев улыбнулся и расправил усы: – Садись за руль, Петька, поехали.
Пыльная дорога, расстилавшаяся под тяжелыми колесами лощеного авто, извивалась, как ленточка, сплетенная искусным мастером. Вдоль обочин, освещённых золотистым светом закатного солнца, тянулись кривые заборы, низкие крыши домов и фигуры прохожих, с удивлением провожавших взглядом диковинный экипаж.
Сначала, среди гула мотора и шума улицы, Петр начал замечать свое дыхание. Звуки и образы вокруг становились все тише и как бы размытыми. Он начал ощущать свое тело, словно продолжением автомобиля, который переносил их из одной реальности в другую.
Сосредоточив внимание перед собой, Петр стал ощущать каждое движение, словно оно было движением его собственной судьбы. Чапаев, сидел рядом, погруженный во что-то и молча улыбался.
Так, незаметно они пересекли границу между внешним и внутренним миром, где дорога уже перестает быть линией на карте.
–Поддай газку, Петька, – неожиданно прервал молчание Чапаев.
– Газку?
– Педаль газа, это наши желания, амбиции и стремления, – продолжал Василий Иванович. – Они побуждают нас двигаться вперед, добиваться чего-то нового. Но важно помнить, что если не умеешь управлять ею, ты можешь потеряться в бесконечной гонке за удовлетворением своих желаний.
Они мчались по улицам провинциального городка, Петр вглядывался в дорогу, которая, казалось, бежала ему навстречу. Он чуть сильнее нажал на педаль газа, мотор отозвался гулким рычанием, будто соглашаясь с его порывом.
– Василий Иванович, а что, если мы потеряемся на этой дороге? – спросил он, глядя в окно на множество незнакомых перекрестков.
– Потеряться? Никогда, – ответил Чапаев, улыбаясь. – Руль в наших руках, значит, и мы всегда можем решить, куда повернуть.
– Руль? – спросил Петр.
– Руль, Петька, это ум и сердце. Именно они определяют направление. Держись за руль, чтобы не свернуть с пути, не уйти в сторону и не заблудиться в пустяках.
Петр держал руки на руле, ощущая, как от прикосновения к нему через пальцы в тело струится энергия. Автомобиль был ему чем-то непривычным, почти магическим, но он чувствовал – между ним и машиной уже возникла связь, как между всадником и лошадью.
Чапаев, глядя вдаль, чуть усмехнулся.
– Даже если дорога заведёт в самую глушь, ты всегда сможешь развернуться.
Подымая облака пыли, форд уверенно мчался вперед, теперь уже по проселочной дороге, оставив где-то позади перекрестки города.
Слова Чапаева казались высшей мудростью. Они пробуждали в Петре странное, непривычное чувство – словно от его выбора зависит не только путь, но и сама цель.
Сквозь лобовое стекло, Пётр видит своими глазами, нет предначертанной дороги, нет заранее заданного смысла! А если так, то кто, кроме него самого, сможет определить, куда двигаться и, главное, зачем? Когда-то, он воспринимал жизнь как нечто заданное извне, но оказывается,
– всё зависит от его собственного выбора.
Машина продолжала гудеть, унося их прочь из города, в поля, где воздух был чище, а дорога шире. Где-то вдалеке, у горизонта, показался одинокий дуб, величественный и неподвижный, как наблюдатель вечности.
Притормози у того дерева, – сказал Чапаев.
И что же такое тормоз? – тихо спросил Петр, не сводя глаз с извилистой дороги.
– Тормоз – это способность контролировать свои эмоции, переживания и реакции на дорогах внутреннего мира. Способность остановиться, подумать Если мы не научимся им управлять, то можем потерять контроль и впасть во внутренний хаос. – Тормоз, Петька, это… умение сказать себе «нет», когда страсти зовут вперёд, куда-то в бездну. Без тормоза ты слепо помчишься за мечтой, но разобьёшься об условную реальность.
Машина замедлила ход, словно подчёркивая смысл его слов. Подъехав к старому дубу, Петр уверенно затормозил, и автомобиль остановился в тени его густых ветвей.
– А что тогда этот дуб? – спросил он, вылезая из машины и вдохнув полной грудью свежий воздух.
Чапаев оглядел дерево, покачивая головой, и ответил:
– Дуб – это сила. Он всегда растёт медленно, но верно. Не спешит, но достигает высоты. Если бы наша жизнь была деревом, её корнями были бы ценности, стволом – наш характер, а ветвями – наши мечты.
Но сейчас, Петька, дуб – это просто дуб…
Они присели в траву у подножия могучего дерева. Чапаев стал раскуривать сигару.
В тот момент, Петр почувствовал: он не просто научился водить автомобиль. Он научился понимать дорогу.
Q.S., marginalia in somnis
В лабиринте жизни каждый поворот – не выбор, а откровение.
Машина движется, сознание возникает, как отражение в стекле.
Ты ищешь водителя – но находишь только дорогу.
И она, как сновидение, ведёт сама себя.
Volans gubernaculum – sed cuius manus? Руль в руках, но руки – чьи?
Тень кроны старого дуба укрыла их, а лёгкий ветерок нашептывал песню времени.
22.
Чебурашка сидел на лавочке в тихом саду, устремив взгляд в крону старого дуба. Листья, колыхаемые легким ветерком, отбрасывали причудливые тени на вымощенную дорожку. Он чувствовал себя запутавшимся в лабиринте собственных мыслей.
– Почему я не могу просто быть? – прошептал он, обращаясь скорее к самому себе, чем к кому-либо еще.
Рядом с ним опустился пожилой крокодил с добрыми, мудрыми глазами.
– А что мешает тебе быть? – мягко спросил он.
Чебурашка пожал плечами.
– Не знаю. Мысли, наверное. Они крутятся в моей голове, как белки в колесе, и я не могу от них избавиться».
– Мысли – как облака, – улыбнулся крокодил. – Они постоянно меняются, то появляются, то исчезают. Они не являются нашей сущностью, а лишь отражением ее.
Мы привыкли воспринимать мысли как часть нашего «я», полагая, что мы мыслим, потому что мысли – это наш голос, наша интонация, наша искренняя реакция на мир. Мысль говорит с нами и через нас. Однако вопрос стоит глубже: кто говорит, когда мысль говорит?
И кто тот, кто воспринимает эти слова? Когда мы говорим: «Я думаю», неосознанно отождествляя себя с мыслью, не становится ли это просто очередной маской на сцене?
– Но они же определяют наши поступки, наши решения… – возразил Чебурашка.
– Да, это так, – согласился крокодил. – Мысль не приходит как нечто внешнее, которое можно просто наблюдать, – она поглощает нас, заставляя поверить, что это и есть мы. Она постоянно движется, ускользает от осознания, как свет, проходящий через призму. Мысль фрагментарна и непостоянна, ее образы вспыхивают, сменяя друг друга. Можно сказать, что это всего лишь «обманка», структурный элемент, играющий в бесконечную игру означающих и означаемых. Мысль, маскируясь под личность, становится фабрикой бесконечных симулякров, порождающих иллюзию единого, непрерывного «я».
В этом осознании таится одна из самых сокровенных тайн существования. Мысль создает образы, за которые мы цепляемся, полагая, что они и есть мы, забывая о том, что они лишь временные тени на экране сознания. И пока мы не способны заглянуть за эту театральную завесу, наше понимание себя остается фрагментированным, ограниченным рамками постоянно меняющихся масок.
Но это не значит, что мы должны быть их рабами. Ты можешь наблюдать за своими мыслями, как за облаками на небе. Ты можешь выбирать, какие из них допустить в свое сердце, а какие отпустить.
– Но как? – спросил Чебурашка, чувствуя себя все более сбитым с толку.
– Представь, что ты стоишь на берегу реки, – продолжил крокодил. – По течению плывут различные предметы: листья, ветки, кораблики. Некоторые из них цепляются за тебя. Но ты можешь просто наблюдать за этим потоком, не позволяя ничему нарушить твое внутреннее спокойствие.
Это восприятие может привести к интересному выводу, осознанию, что мысль – это не ты сам, а лишь один из многих потоков, текущих через сознание. Возможно, именно в этом осознании начинается свобода от автоматизма мышления. Если мы способны увидеть мысль как временное явление, как нечто, что приходит и уходит, то, может быть, мы сможем увидеть за потоком мыслей более глубокую суть нашего «я».
– А что, если я не хочу просто наблюдать? Если я хочу изменить этот поток?
– Ты и так его меняешь каждый раз, когда выбираешь, на какую мысль обратить внимание, – ответил крокодил. – Ты можешь направлять этот поток в нужное тебе русло, как садовник направляет ручей.
– Но как найти это нужное русло? – продолжал настаивать Чебурашка.
– Оно всегда внутри тебя, – улыбнулся крокодил. – Просто прислушайся.
Чебурашка снова замолчал. Слова крокодила звучали мудро, но в то же время казались слишком простыми.
– А что, если я боюсь ошибиться? – спросил он, наконец.
– Ошибки – это часть жизни, – ответил крокодил. – Не бойся их. Просто иди вперед, и все будет хорошо.
Чебурашка посмотрел на крокодила с благодарностью. Слова собеседника отзывались в его душе.
Он понял, что свобода заключается не в том, чтобы избавиться от всех мыслей, а в том, чтобы научиться управлять вниманием.
Они еще долго сидели на лавочке, разговаривая о жизни, о смысле бытия и о том, что такое счастье.
Q.S., marginalia in somnis
ad locum: "Quare non possum simpliciter esse?"
Чебурашка спросил:
– Почему я не могу просто быть?
Крокодил ответил:
– А кто мешает тебе?
Чебурашка сказал:
– Мысли. Они крутятся, как белки в колесе.
Крокодил усмехнулся:
– Если ты белка, крутись. Если колесо – катись. Но кто – смотрит?
Videre fluctus non est videre mare.
(Видеть волны – не значит видеть море.)