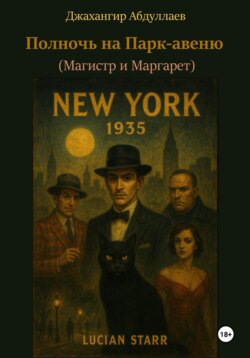Читать книгу Полночь на Парк-авеню (Магистр и Маргарет) - - Страница 3
Глава 2. Отрубленная голова
ОглавлениеБартоломью Финч не шел, он спасался бегством. Не от призрачной опасности, нет – от унизительной, липкой нелепости, которая прицепилась к нему там, на скамейке, и теперь дышала в затылок. Сердце, не привыкшее к такому галопу, стучало в ребра, как пойманная птица. Льняной пиджак, символ его статуса и достатка, превратился в мокрую тряпку.
В голове, в его прекрасно устроенной, рациональной голове, где у каждой мысли была своя полочка, царил хаос. Он пытался восстановить порядок, разложить произошедшее на составляющие, обезвредить его логикой.
«Шарлатаны! – мысленно формулировал он заголовок для неопубликованной статьи. – Обыкновенные ярмарочные гипнотизеры». Иностранец – несомненно, актер, из тех эмигрантов с хорошими манерами и пустыми карманами, начитавшийся дешевой мистики. Он был «холодным чтецом», как говорят в полиции, – умело угадывал страхи и желания по случайным словам и жестам. Клетчатый – водевильный клоун, его задача – отвлекать внимание. А кот… ну, с котом было сложнее. Дрессировка? Конечно. А голос? Вентирология! Чревовещание! Простейший трюк, чтобы произвести впечатление на простаков вроде О'Мэлли.
Но почему же тогда на душе было так муторно? Почему ледяной шепоток продолжал твердить: «девушка-коммунистка… апельсины… трамвай номер семь…»? Слишком много деталей. Слишком конкретно. Шарлатаны обычно говорят туманно: «вас ждет дальняя дорога» или «остерегайтесь врага». А здесь – почти математическая формула уничтожения.
«Чушь! – приказал себе Финч, вырываясь из прохладной тени парка в раскаленную пасть города. – Бред воспаленного воображения».
Бродвей взревел, оглушил, набросился на него тысячей звуков: грохот надземной железной дороги, нетерпеливые клаксоны автомобилей, пронзительные крики мальчишек-газетчиков. Финч брезгливо отмахнулся от протянутой ему газеты и решил не брать такси. Ему нужно было пройтись. Пройтись пешком, по твердому, реальному асфальту, среди тысяч осязаемых, спешащих людей, чтобы вытеснить из головы этот иррациональный, липкий бред.
И он принял решение, которое показалось ему актом высшей воли, утверждением своего «я». Он пойдет на Таймс-сквер. Он встанет на том самом перекрестке, на который указал безумец, и докажет – прежде всего самому себе – что он, Бартоломью Финч, является единственным хозяином своей судьбы. Он бросал вызов нелепому пророчеству.
«Девушка-коммунистка…» – усмехнулся он про себя, лавируя в толпе. Он презирал этих экзальтированных юнцов с их Марксом и красными флагами. Они были так же слепы в своей вере, как и монашки в монастыре. Наивные идеалисты, не понимающие фундаментальных законов экономики. Мысль о том, что одна из этих безмозглых девиц может стать орудием его судьбы, была оскорбительной.
Он дошел до перекрестка у Таймс-сквер. Здесь хаос достиг своего апогея. Гигантские неоновые вывески – танцующий человечек из рекламы сигарет «Кэмел», бутылка кока-колы, из которой лилась светящаяся струя, – мигали, шипели, заливая площадь болезненным, лихорадочным светом. Толпа бурлила, как вода в котле. Финч остановился на краю тротуара, чувствуя себя скалой в этом человеческом море. Он с удовлетворением огляделся. Вот она, реальность. Шумная, вульгарная, но настоящая.
Мимо с дребезжанием катился желтый трамвай. Финч мельком взглянул на его номер. Номер семь. «Занятно», – подумал он без всякой тревоги.
И тут он ее увидел.
Среди сотен лиц его взгляд выцепил одно. Молодая девушка в простеньком ситцевом платье. На голове – красная косынка, вызывающе алая в неоновом свете. В руках – плетеная сумка, из которой торчали апельсины. Она проталкивалась сквозь толпу, спеша, нервничая.
«Какое совпадение, – успел подумать Финч, и на его губах появилась кривая, торжествующая усмешка. – Вот и разгадка трюка. Они видели ее в парке, она из их шайки. Сейчас она должна разыграть какой-то спектакль…»
В этот момент какой-то грузный прохожий толкнул девушку. Сумка раскрылась, и на тротуар, под ноги спешащей толпе, ярким, веселым каскадом посыпались оранжевые шары.
Девушка ахнула и бросилась их собирать. Один из апельсинов, самый бойкий, подкатился прямо к ногам Финча. Редактор нагнулся, чтобы поднять его. Не из вежливости. Из брезгливого любопытства исследователя, наблюдающего за последней, самой нелепой деталью плохо поставленного фокуса.
И в этот самый миг его начищенный до блеска, дорогой кожаный ботинок наступил на что-то склизкое, желтое и омерзительно мягкое.
Он не сразу понял, что это. А когда понял, было уже поздно. Банановая кожура.
Мир, такой прочный и предсказуемый, вдруг потерял свое главное свойство – надежность. Нога, его собственная, солидная нога, поехала вперед с непреодолимой, чужой силой. Центр тяжести сместился. Финч потерял равновесие, нелепо взмахнул руками, как неоперившийся птенец. Портфель вылетел из его руки. Он, Бартоломью Финч, столп общества и разума, с глухим мычанием, неуклюже и тяжело рухнул с тротуара прямо на трамвайные пути.
Водитель трамвая номер семь, пожилой ирландец по имени Патрик, как раз в этот момент отвлекся. Рассыпавшиеся апельсины, такие яркие и солнечные, на секунду перенесли его из нью-йоркской суеты в далекое детство, на апельсиновую ферму во Флориде, где он гостил у дяди. Он вспомнил запах цветущих деревьев и улыбнулся своим мыслям. Он повернул голову всего на одну роковую секунду.
Раздался отчаянный, но мгновенно оборвавшийся крик. Затем – тошнотворный, влажный хруст, словно кто-то раздавил гигантский перезрелый фрукт.
Трамвай, взвизгнув тормозами так, что посыпались искры, резко остановился. Толпа ахнула, отшатнулась, и на площади на мгновение воцарилась противоестественная тишина. А затем, подчиняясь жуткому первобытному любопытству, люди хлынули вперед.
Тело Бартоломью Финча, обезглавленное, лежало на мостовой и подергивалось в последних конвульсиях. А его голова, с тем же застывшим выражением интеллектуального превосходства и легкого, брезгливого недоумения на лице, отлетев на несколько футов, закатилась в чугунную решетку водостока.
Там она и осталась лежать, укоризненно и немного растерянно глядя одним стеклянным глазом на огромную неоновую вывеску напротив, рекламирующую новый мюзикл. И вывеска, мигая, весело сообщала всему миру: «Что угодно» (Anything Goes).
Предсказание сбылось. Абсолютно. До последней, унизительной детали.
Глава 3. Погоня и безумие
Джимми О'Мэлли сидел на скамейке, оцепенев. Кот исчез так же внезапно, как и появился. Кэдуолладер и мистер Старр растворились в сгущающихся сумерках, оставив после себя лишь запах дорогого табака и озона.
«Шахматы…» – стучало в висках у поэта. Он попытался встать, но ноги не слушались. Что это было? Галлюцинация от голода и жары? Он не ел со вчерашнего дня.
Внезапно до его слуха донеслись крики и вой сирен со стороны Бродвея. Тревога, острая, как игла, пронзила его. «Таймс-сквер… Трамвай…»
Он вскочил и побежал. Он бежал, расталкивая прохожих, перепрыгивая через скамейки, не чувствуя усталости. В голове была одна-единственная мысль: «Не может быть. Этого не может быть!»
Когда он добежал до площади, он увидел всё: толпу, полицейских, брезент, которым накрыли что-то на мостовой, и другой, поменьше, над водосточной решеткой. Он протиснулся вперед и услышал обрывки разговоров: «…прямо под колеса…» «…голова, представляете, совсем отдельно…» «…это же Финч, из „Меркурия“!»
Мир для О'Мэлли накренился и поплыл. Он отшатнулся от толпы, его замутило. Значит, это правда. Всё – правда. Иностранец-консультант, клетчатый шут, говорящий кот. И они – убийцы!
Гнев вытеснил страх. Он должен их найти! Он должен сдать их полиции!
Он бросился назад, к парку. Он метался по аллеям, заглядывая за каждый куст, вглядываясь в лица прохожих. И вдруг он их увидел. Вся троица неспешно прогуливалась у выхода на Пятую авеню. Кот Молох шел на задних лапах, держа под руку Кэдуолладера, и что-то оживленно ему рассказывал. Мистер Старр шел чуть впереди, постукивая тростью.
– Убийцы! – закричал О'Мэлли, подбегая к ним. – Я видел! Я всё расскажу!
Кэдуолладер обернулся и поправил пенсне. – Молодой человек, вы, кажется, чем-то расстроены? Не хотите ли содовой?
– Это вы его убили! Ваше предсказание! Ваш трамвай! – задыхался поэт.
Кот Молох выпустил лапу Кэдуолладера, подошел к О'Мэлли и, поднявшись на задние лапы, строго сказал: – Гражданин, во-первых, не «ваш», а «его», – он кивнул на Старра. – Я предсказаниями не занимаюсь, я специалист по рукопашному бою и крепким напиткам. А во-вторых, кричать в общественном месте – моветон.
О'Мэлли остолбенел, глядя на говорящего кота. Он попытался схватить его, но кот ловко увернулся и с шипением «Хулиган!» запрыгнул на плечо мистеру Старру.
– В полицию! – взревел О'Мэлли и бросился к ближайшему патрульному, стоявшему на углу. – Офицер! Скорее! Там иностранный шпион и… и кот! Они убили человека!
Полицейский лениво повернулся. – Какой еще кот, парень? У тебя солнечный удар?
– Он говорящий! Он огромный! – О'Мэлли обернулся.
Но на том месте, где только что стояла троица, никого не было. Пусто.
– Они исчезли! Они гипнотизеры! – лепетал Джимми, хватая полицейского за рукав.
Лицо патрульного стало жестким. – Так, всё ясно. Еще один. Пойдем-ка, парень, проедемся.
О'Мэлли отчаянно сопротивлялся. Он кричал о дьяволе, о консультанте, о голове Финча. Его бессвязные, но абсолютно правдивые речи звучали как бред сумасшедшего. Его скрутили, затолкали в машину и повезли в участок.
А оттуда, после короткого и безнадежного допроса, где он упорно твердил про кота, который хотел играть с ним в шахматы, его путь лежал только в одно место.
К вечеру следующего дня Джимми «Ред» О'Мэлли, пролетарский поэт, был официально зарегистрирован как пациент психиатрической клиники «Бельвью» с предварительным диагнозом «острая шизофрения на фоне алкогольного делирия». Он лежал на койке в палате с решетками на окнах, смотрел в потолок и беззвучно шептал: «Кот… говорящий кот…»
Мир разума и логики, в который он так верил, захлопнулся за ним, как тюремная дверь.