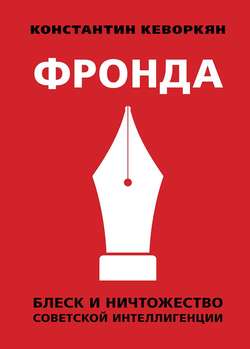Читать книгу Фронда. Блеск и ничтожество советской интеллигенции - Константин Кеворкян - Страница 4
Вступление
I
ОглавлениеЯ работал над «Опасной книгой» – так называлось исследование, посвященное истории нацистской пропаганды. Естественно, по ходу дела мне приходилось просматривать множество фотографий, плакатов и кинохроники той эпохи. Затертые фото, черно-белая невысокого качества хроника… Десятилетия отделяли меня от драматических и кровавых событий того времени. Зная о моих поисках, друзья из США передали мне уникальные кадры оккупированного Харькова, цветную кинохронику 1942 года. Словно пелена упала с глаз, я увидел события такими, какими их помнили мой отец и мать, пережившие оккупацию. Цвет придал жизненность давним событиям: по знакомым с детства улицам Харькова ехала фашистская боевая техника, маршировал отряд немецких медсестер, на Благовещенском базаре одетые в лохмотья старухи просили подаяние. Будто включил телевизор и посмотрел выпуск вечерних новостей. Одно дело понимать историю разумом, другое – прочувствовать сердцем, прожить эмоциями. Реалистичность увиденного произвела на меня сильное впечатление и помогла остро ощутить то, что люди, жившие до нас, видели мир не менее ярко, чем мы, испытывали грандиозные страсти, горе, ужас, любовь…
Вроде бы очевидные истины… Так на каком же основании мы отказываем целой эпохе в ярких жизненных красках и почему так мало знаем о ней!? Многие вопросы сегодняшнего дня имеют свои ответы именно в советском прошлом – хочется кому-то этого или нет. Его нельзя перемотать как надоевший фильм – десятки миллионов людей страдали и любили, создавали наш мир и самих нас.
Человеку всегда хочется понять ход жизни: то ли придумать машину времени и познать прошлое, то ли предсказать будущее. Вот, к примеру, гениальный русский поэт Велимир Хлебников доказывал окружающим, что крупные события происходят каждые триста семнадцать лет, потом вывел новую константу, равную 84 годам. В отличие от гения, мы, простые смертные, измеряем отмеренные нам времена рождающимися поколениями, детьми, внуками. И наши внутренние ощущения подтверждает фундаментальная «Теория поколений» социологов Нейла Хоува и Уильяма Штрауса. Она научно обосновывает, что 12–14 лет – это средний возраст, когда каждое новое поколение вступает в жизнь и обретает собственные цели.
История бурь, сотрясавших наше Отечество в прошлом и нынешнем веке, является наглядным тому подтверждением. Начиная с революции 1905 года, ставшей поворотным этапом в развитии Российской империи, последовательно шли 1917 год, 1929 – год «Великого перелома», трагический 1941, смерть Сталина в 1953 году, ознаменовавшая новую веху в развитии СССР, начало брежневской эпохи – 1964–1965 годы. Дата следующего переломного цикла оказалась пропущена, пришлась на эпоху глухого застоя. Не нашедшие своего естественного выхода силы нового поколения скопились до взрывоопасной смеси, разметавшей страну в 1989–1991 годах.
Каждому поколению приходится доказывать собственную значимость в истории, завоевывать свое место под солнцем, оттесняя старших, нередко революционным путем. Такова удивительная особенность нашей страны: история меряется революциями, сломами, скачками. Между тем, обычная жизнь человеческая, текущая каждодневно, подобно реке, привлекает куда меньшее внимание историков и социологов. Общественные науки ссылаются на классиков, умопостроения строятся на авторитетных ссылках, а не на живых документах эпохи. Но «социология жизни» в ее ежедневном разнообразии не поддается универсальным формулам счастья, она рождается из жизни каждого человека в ее бесконечном переплетении с другими существами, во взаимодействии со средой обитания, социальными институтами. Эта жизнь уникальна и неповторима по сути своей – от таинства зачатия, броуновского движения жизни и ее утраты навсегда. Нас пытаются втиснуть в трафареты очередной идеологии, и, постфактум, идеология диктует волю истории – жизнь подменяется формулами.
«История наступает, когда умирает последний живой свидетель времени», – говорил выдающийся историк и социолог Лев Гумилев. Каждый день современность уносит от нас эпоху с ее уникальными носителями былого знания и дает волю домыслам. Тем ценнее свидетельства ее непосредственных участников. Мы можем осмыслить историю только если поймем мотивировку событий и поступков, состояние души разных людей в разное время – «способ мышления», как определял этот феномен философ Карл Манхейм.
«История – это, прежде всего, психология времени, психология общества, то есть психология отдельных людей, живших или живущих в нем», – удачно, на мой взгляд, сформулировал эту идею публицист Генрих Боровик в предисловии к книге воспоминаний знаменитого карикатуриста Бориса Ефимова, которую мы еще не раз будем цитировать в дальнейшем[1] (1).
Бесперспективно подходить к пониманию конкретного времени, пользуясь аршином сегодняшнего дня. Пытаясь понять прошлое, мы примеряем на конкретных людей наши представления о жизни, сформированные современной школой, СМИ, государственными институтами, и, конечно, же, получаем результат очень далекий от действительности. «Сейчас у молодого поколения, читающего о тяготах, ужасах и кровавых расправах 1930-х годов, создается впечатление, будто жизнь в Советском Союзе была тогда беспросветной, мрачной, полной страха, горя и слез. Это и так, и не так. Те, кого не коснулась беспощадная рука террора, жили, как и везде, своими заботами и радостями. Видя, что положение улучшается, люди надеялись на дальнейший прогресс и полагали, что худшее осталось позади. Молодежь в большинстве своем снова заразилась энтузиазмом, работала, училась, дурачилась, влюблялась, словом, жила полной жизнью» (2).
В какой-то степени эта книга попытка понять поколение наших отцов и дедов, опираясь на их живые свидетельства и логику развития страны.
1
Здесь и далее – ссылки на источники в конце книги.