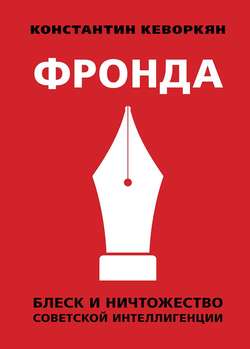Читать книгу Фронда. Блеск и ничтожество советской интеллигенции - Константин Кеворкян - Страница 9
Глава 1
Пьянящий воздух свободы
II
ОглавлениеА. Вознесенский жаловался от имени русской интеллигенции всех времен и народов: «Что это в последнее время обвиняют интеллигенцию – она, мол, социализм придумала, а теперь и вовсе страну разрушила? Это не мы, это полуграмотные террористы, а никакая не интеллигенция». Ага! Герцен, Чернышевский, Плеханов да Бухарин, значит – «полуграмотные террористы». Однако так ли уж злонамеренны были эти высокообразованные люди? Неужели они хотели народу только зла, а нынешние интеллектуалы – исключительно добра?
«По отношению к советскому строю и ко всему советскому проекту наш нынешний культурный слой совершил, на мой взгляд, огромную историческую нечуткость и несправедливость, – пишет известный социолог С. Кара-Мурза в своей фундаментальной работе «Советская цивилизация». – Из этой несправедливости вытекает огромная ошибка, которая может нас погубить. Ныне живущая интеллигенция не проявила интереса и воли, чтобы понять суть советского строя через слово культуры, она увлеклась вторичными, а часто всего лишь политическими вопросами» (10).
Трудно с ним не согласиться: интеллигенция, самим своим статусом призванная изучать и определять культурный код общества, сегодня больше интересуется политическими шоу, нежели познанием глубинных процессов. Поверхностное осмысление приводит к простоте, такой знакомой простоте решений: отсюда примитивность политических лозунгов и целей. Легкодоступность и легкоусвояемость пропагандистского продукта приводит к своего рода привыканию. Необходимая доля перца, уксуса, усилителей вкуса в потребляемой информации присутствует (за рецептом следят опытные повара – политики, журналисты и редакторы), свои мозги как бы имеются – «чего же боле»? Мало кто задумывается, что современные методы управления позволяют рассчитать и вызвать практически любую необходимую реакцию даже хорошо образованного человека, причем в необходимой последовательности и интенсивности. И рычаги управления находятся в руках отнюдь не бескорыстных граждан, а людей, заинтересованных в продолжении процесса эксплуатации человеческих ресурсов, недр, глобального управления экономикой. Можно сколько угодно переживать у телевизора – мир оттого не изменится. Как не изменится порядок вещей в мировой экономике от уличных акций протеста, которые, к слову сказать, часто провоцируются именно сильными мира сего для свержения, скажем, неугодного правительства.
Явление не новое. Борьба с несправедливостью всегда почиталась важной функцией передовой части общества. Во времена становления марксизма образованные люди с ужасом наблюдали за беспощадными реалиями капитализма (а в некоторых странах, вроде Российской империи, помноженными вдобавок на остатки феодализма). Для многих выходом представлялась социальная доктрина, подразумевавшая передачу средств производства из частных рук в руки общества – государства, крестьянской общины, рабочего самоуправления – не важно. Важен сам принцип не стихийного, а спланированного управления процессом создания национальных богатств и их такого же разумного распределения.
В конце ХIХ – начале ХХ веков мода на социалистические идеи быстро охватила всю Европу. «Неудачники, непонятые, адвокаты без практики, писатели без читателей, аптекари и доктора без пациентов, плохо оплачиваемые преподаватели, обладатели разных дипломов, не нашедшие занятий, служащие, признанные хозяевами негодными, и т. д. – суть естественные последователи социализма», – классик социологии и очевидец описываемых событий француз Лебон ехидно описывает современных ему социалистов. – «В действительности они мало интересуются собственно доктринами. Все, о чем они мечтают, это создать путем насилия общество, в котором они были бы хозяевами. Их крики о равенстве и равноправии нисколько не мешают им с презрением относиться к черни, не получившей, как они, книжного образования» (11).
Остроумие классика, описывающего реалии Французской Республики, не совсем оправдано. Чудовищная эксплуатация людей, расслоение общества, захватническая политика великих держав вызывали протест не только у неудачников, но и у любого здравомыслящего человека, думающего о будущем общества. Нельзя расслаблено отдыхать на готовой взорваться бомбе. Другое дело, что любая набирающая популярность идея часто превращается в моду, увлекает и неуравновешенных фанатиков, и откровенных глупцов, и маргиналов, рассчитывающих в случае удачи чем-нибудь поживиться.
Конечно, и в России были увлеченные социалистическими идеями люди, причем, в немалом количестве. Показательно, что само слово «шестидесятники» оттуда, из ХIХ века, так называли разночинцев-демократов. Так что преемственность имеется уже на уровне терминологии. Вот как описывал массовое появление тогдашних «шестидесятников» на сцене истории советский этнограф и историк Л. Гумилев: «В XVIII веке Екатерина II освободила дворян от обязательной воинской службы, но в 1812 они еще дрались, и очень здорово дрались, потому что сохранилось поколение воинов-пассионариев. А дальше началось: “что делать?”, “куда идти?”, – и тут оставшимся без дела пассионариям подсунули масонские лозунги типа “Свобода, равенство, братство”. На них клюнули все эти клоповоняющие базаровы, волоховы. В общем, образовался у нас в ХIХ веке западнический субэтнос, который все время расшатывал устои государства»[9] (12).
Л. Гумилев видел в этом целую систему координат, в которой догнивал дореволюционный уклад русской интеллигенции, и в своих оценках он не одинок. Писатель А. Толстой определял это умонастроение как «интеллигентщина, расхлябанность, чеховщина, которые характерны для 80-х годов прошлого (ХIХ – К.К.) столетия» (14). И вот у этой публики появилась великая цель – освобождение народа. Не находящая себе место в монархическом и клерикальном государстве свободомыслящая интеллигенция возбудилась – в ее существовании появился Высший Смысл. Н. Бердяев: «Невозможность политической деятельности привела к тому, что политика была перенесена в мысль и литературу. Литературные критики были властителями дум социальных и политических. Интеллигенция приняла раскольничий характер… она жила в расколе с окружающей действительностью, которую считала злой, и в ней выработалась фанатическая раскольничья мораль» (15). Смысл жертвенности, страдания, самоотвержения, и – непременно – трагической развязки.
Счастливая концовка не в традициях нашей великой литературы и замечательного кино. Блистательно и парадоксально описана эта связь у В. Ерофеева, который, к слову сказать, учение Л. Гумилева в свое время внимательно штудировал. Тем, кто не читал «Москва – Петушки», подскажу, что диалог происходит в разгар пьянки, когда наши люди по обыкновению переходят к обсуждению высоких материй (больше подсказывать не буду):
– Я очень люблю читать! В мире столько прекрасных книг! – продолжал человек в жакетке. – Я, например, пью месяц, пью другой, а потом возьму и прочитаю какую-нибудь книжку, и так хороша покажется мне эта книжка, и так дурен я кажусь сам себе, что я совсем расстраиваюсь и не могу читать, бросаю книжку и начинаю пить, пью месяц, пью другой, а потом…
– Погоди, – тут уж я его прервал, – погоди. Так что же социал-демократы?
– А вот и притом! С этого и началось все главное – сивуха началась вместо клико! Разночинство началось, дебош и хованщина!.. Все эти Успенские, все эти Помяловские – они без стакана не могли написать ни строки! Я читал, я знаю! Отчаянно пили! Все честные люди России! И отчего они пили? – с отчаяния пили!.. Социал-демократ – пишет и пьет, и пьет, как пишет. А мужик – не читает и пьет, пьет, не читая… А теперь – вся мыслящая Россия, тоскуя о мужике, пьет не просыпаясь! Бей во все колокола, по всему Лондону – никто в России головы не поднимет, все в блевотине и всем тяжело!.. И так – до наших времен!
Я начинаю активно цитировать выбранных нами авторов Ильфа, Петрова, Булгакова, Ерофеева. Смысл цитат в том, чтобы проиллюстрировать ключевые аспекты сознания среднего советского интеллигента на базе его культовых книг, которые часто весьма адекватно отражали действительность – в этом-то и секрет их многолетней популярности. Ну а для серьезности и наукообразности, чтобы вы не заподозрили меня в легковесности, еще одна развернутая цитата, на этот раз не из подгулявшего Венечки, а из вполне серьезной работы «Интеллигенция и свобода» классика советской культурологии М. Лотмана: «В самой природе русской интеллигенции изначально заложена некая двойственность: с одной стороны, она является результатом попытки создания образованной прослойки общества по европейскому образцу… С другой стороны… помещение ее в принципиально иной культурный контекст приводит к ее перекодировке в терминах, специфических именно для русской культуры, трансформации, в результате которой многие из исходных компонентов были утеряны, а некоторые добавлены, и, что еще важнее, большинство акцентов было смещено, например, “передвинуто” из интеллектуальной сферы в сферу нравственную» (16).
Итак, мы имеем некоторую раздвоенность: интеллигенция, по сути, подражательна Западу (а значит, и новомодным западным идеям), но в результате попадания на отечественную почву западные идеи начинают отсвечивать новыми красками. Наш социализм – это не западная интеллектуальная конструкция, но моральный императив.
Кто-то считает такой ход вещей достижением, вознесшим Советский Союз на вершины мирового господства, кто-то усматривает в отходе от западной концепции трагедию, обернувшуюся миллионами жертв. Но мало кто говорит о том, что взрастившая социалистическую революцию во благо народа интеллигенция, собственно к народу никакого отношения почти не имела. И, в первую очередь, не имела отношения к основной массе населения – крестьянству. Насколько далеки от настоящего возделывания земли были хождения за плугом Л. Толстого, так и маниловские проекты социального государства, которым бредили передовые граждане, оказались далеки от реальной жизни и истинных чаяний народа, ради которого они все сочинялись. Но те, кто не принимал новомодных словес о «всеобщем счастье» в случае выполнения тех или иных условий, те, кто предполагал большую сложность социальных процессов, автоматически попадал в число ретроградов, консерваторов, шовинистов, короче – врагов «прогрессивного».
Удивительную моду мы наблюдаем в начале ХХ века среди образованных слоев Российской империи: интеллигенты, отрицающие интеллигентов, интеллект, презирающий интеллект и полученное буржуазное образование. Радикалы порывали с прошлым, считая себя людьми новой формации, лучше других знающими, что необходимо окружающим. Но, как и во всякой секте, мнение вне своего круга ими не учитывалось. Оплакивая утраченную в результате кровавой революции страну, П. Струве справедливо указывает: «Россию погубила безнациональность интеллигенции, единственный в мировой истории случай – забвение национальной идеи мозгом нации» (17). Согласно мнению «передовых» слоев общества, масса косна и консервативна, просветить ее и привести к прогрессивным идеям – есть долг мыслящего патриота. То, что у массы есть свой накопленный многими поколениями опыт, предпочтения и коллективный разум, реформаторам как-то в голову не приходило. И не приходит.
9
Жена Льва Николаевича вспоминала: «Как-то я смотрю на собрание сочинений Чехова и говорю Льву: скучно мне читать Чехова. Язык замечательный, образы великолепные, но эти ноющие женщины невыносимы. “А это уже началась эпоха скуки, – сказал он. – Самое страшное, когда люди начинают скучать. Значит, они инертны, у них нет энергии. Настоящий творческий человек – художник, писатель, ученый – никогда не скучает. А к концу ХIХ века у нас появилось огромное количество обывателей, и так как Чехов жил среди них, то он описывал”» (13).