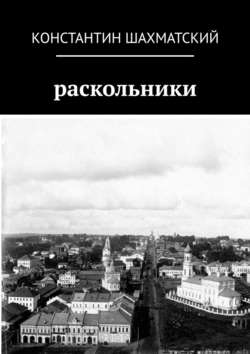Читать книгу Раскольники - Константин Шахматский - Страница 7
Глава вторая
Конец октября 1854 года. Уездный город Сарапул
ОглавлениеВ Сарапуле погода стояла отвратительная – все та же слякоть и собачий холод. Выпавший снег сразу таял, перемежаясь с дождем. Временами с реки дул холодный пронизывающий ветер, а колокола церквей в центре города звучали как-то неприятно, с дребезжанием, словно фальшивили. И все вокруг было ненавистно и омерзительно. Возможно, приедь чиновник в другое время, все оказалось бы по-иному. Но сейчас, даже городничий заискивал перед ним и лебезил через чур рьяно, что выглядело крайне противно.
Едва устроившись в гостинице, даже не переодевшись, Михаил пал жертвой Дрейеровского гостеприимства.
Фон-Дрейер, выходец из лифляндских дворян, слыл ретивым служакой, и выставлял себя таким простым, что в отношении его поступков и помыслов невозможно было заблуждаться даже неискушенному человеку. Что уж говорить о Салтыкове, который мог читать с лица все его мысли. В такие моменты Михаил все сильнее утверждался во мнении, что Дрейер – обыкновенный дурак, и ничего больше.
Там же в номере, городничий принялся докладывать чиновнику nuances5, которые осмелился опустить в секретном донесении. В собственном понимании ситуации Дрейер был не совсем уверен, поэтому предпочел докладывать лично. Например, среди писем, найденных в сумке арестованного курьера Анания, выискалось одно, написанное на странноватом языке, коего никто не в силах был разобрать.
– Вроде и буквы русские, – говорил Дрейер, – а все равно непонятно. Тарабарщина какая-то…
– Ладно вам, Густав Густавич, – отвечал Салтыков, – я давно расшифровал его, к вам едучи.
Дрейер изумленно выдохнул.
– Я уже сталкивался с подобными письмами ранее, – продолжал чиновник, – Даже заочно консультировался по данному вопросу у известного специалиста. Таким образом раскольники свои письма шифруют, переставляя местами буквы в словах. На деле все очень просто. Вот, смотрите…
Михаил положил перед городничим загадочное письмо и стал объяснять, как делаются эти самые перестановки. Фон-Дрейер хмурил брови, пыжился понять, но в конце – концов махнул рукою:
– Эй, Прошка, неси-ка сюда…
В дверях появился мальчуган с подносом, за ним еще один, и вот уже стол заставлен тарелками, а посередь него – штоф водки с запотевшими гранями.
– Михаил Евграфович, без этого ну никак не разобраться, право слово! – игриво заулыбался городничий, – Заодно и отужинаете. Время-то позднее, куда вы сейчас пойдете. А у меня все готово. Вот, извольте-с.
Салтыков устало плюхнулся на стул.
– Ладно, давайте, – выдохнул он, – Составите компанию?
– С удовольствием, – городничий щелкнул пальцами, и мальчишки официанты исчезли.
– А теперь самое главное, – загадочно улыбнулся штабс-капитан, доставая из кармана аккуратно сложенную бумаженцию.
– Полюбуйтесь-ка на это.
В обрывке вощеной бумаги лежал, поблескивая в свете лампы, золотой дукат.
– Вот он, красавец, – не без гордости произнес городничий, – Что вы на это скажете?
– Лобанчик! – хмыкнул Салтыков, – Э-ка невидаль.
– Ну, может быть, у вас на Вятке таких пруд пруди, но у нас, в грешном Сарапуле наперечет. Сами смотрите.
Михаил взял дукат и приблизил к свету. Монета как монета, ничего особенного. Правда, выглядела как новенькая, без царапин и потертостей, какие бывают от долгого обращения.
– Недавно отчеканена, – произнес Салтыков вслух.
– Как пить дать. Я толк в звонкой монете знаю, уж поверьте.
– Да, новый дукат встретишь редко. Разве что в банке. Где взяли?
– У задержанного Анания Ситникова конфисковал. И ладно бы в кошельке, среди прочей мелочи обнаружился. Так нет, лежал отдельно, в потайном карманчике.
– И что из этого следует?
– Пока не знаю, вам решать, Михаил Евграфович. Скажу только, что мне удалось выяснить по поводу этой денежки.
Фон Дрейер приблизился к чиновнику и прошептал:
– У нас отчеканена, в России-матушке.
– Санкт-Петербург, Монетный двор Его Величества?
– Точнее не куда.
– Секрет, о котором знают все! – рассмеялся Салтыков, – С Петровских времен чеканим голландское золото.
Городничий отстранился от чиновника и обиженно пробормотал:
– А что, ежели разбойник, этот дукат с завода слямзил, поэтому он такой новенький?
– Да-а, – подхватил чиновник, – или со складов Петропавловской крепости…
А и правда! – подумал Салтыков, – Чем черт не шутит. Факт хищения исключать нельзя.
– Знаете что, Густав Густавич, – серьезно сказал Михаил, – Одолжите-ка мне его… для следствия.
Городничий недоуменно вскинул брови.
– Пожалуй, нет. Я его у вас куплю. Вы, надеюсь, не указали его в описи? Какой нынче курс? Два с полтиной?
Городничий задумчиво кивнул.
– Вот и ладненько.
Салтыков подкинул монету в ладони, поймал ее, и быстренько отправил в нагрудный карман.
– Я с вами позже расплачусь.
– Как скажете.
Фон-Дрейер потянулся за бутылкой и наполнил рюмки.
В процессе дальнейшей трапезы повеселевший чиновник расспрашивал городничего, памятуя о семейном положении оного:
– Ну, как супруга ваша, как дети малые?
– Спасибо, Михаил Евграфович, волей Божею.
– Сами как?
– А что мне старику деется! Пока дождей не было – дорогами занимался. Теперь, вот, за пожарную команду борюсь, чтобы на постоянной основе, а не от случая к случаю… Еще для нужд окружного суда здание реконструируем на Вознесенской площади. Да вы об этом знаете.
– Ну а как, к примеру, взгляды ваши …либеральные? Сильно изменились со времен последнего моего визита к вам?
– Шутить изволите? – Дрейер чуть не поперхнулся куском зайчатины, – Не понимаю я ваших намеков, Махаил Евграфович. Извольте для нас, обывателей, попроще изъясняться.
– А что тут не понятного? – усмехнулся Салтыков, довольствуясь произведенным замешательством.
– Да то, что все мои ошибки молодеческие давно уже в прошлом! Да вы, наверное, и сами знаете. …Но с чего вы спрашиваете?
Салтыков пристально посмотрел в глаза городничему и, изменившись в настроении, сказал, отложив вилку с нанизанным фрикасе:
– Да черт с вами, Густав Густавич. Я и сам ошибки совершал по молодости лет. Тоже, представьте, восхищался французишками со всеми ихними революциями, оказавшимися на поверку результатами очередной бубонной чумы, неурожаем зерновых, или, скажем, обнищанием церкви. По наивности своей и незнанию восхищался западным устройством жизни. Как у них там все рационально и продуманно устроено, в отличие от нашего …бетламса6.
Растерявшийся от такого поворота Дрейер аккуратно приложился салфеткой к губам и отложил приборы, вопросительно глядя на Салтыкова.
– А сейчас что?! – продолжал со злостью чиновник, – Нахватался ума. Вижу, насколько лицемерна в своих действиях Европа, будь она проклята. Противодействую Бонопарту, воюю за Палестину, искореняю ересь во славу Государя императора… Хотя сам этим императором и наказан.
Городничий часто заморгал ресницами и судорожно сглотнул, озираясь по сторонам, словно проверяя, не подслушивает ли кто.
– И только Богу известно, сколько мне еще предстоит бороться не только за себя, но и за вас, дорогой мой Густав Густавич. И вообще, за всех…
Только теперь Салтыков поднес вилку ко рту, медленно снял зубами мясо и, методично пережевывая, продолжил, не отводя глаз от Дрейера:
– А вы, случайно, не масон?
Дрейер остановил занесенную к бутылке руку. В его глазах повторно читалось недоумение. Крайнее недоумение.
– Больно уж много по всей Вятской губернии Дрейеров рассеяно, вы не находите? И все на ответственных постах, – продолжал наступать Салтыков.
Городничий начал снимать с груди салфетку, привставая со стула. Ну, это уж слишком!
– Если бы я был масоном, любезный Михаил Евграфович, – медленно багровея лицом отвечал он, – то не ходил бы до сей поры в штабс-капитанах.
– Но в этом ли причина вашего откровенного невезения?
Дрейер окончательно выпрямился и стоял по стойке смирно. С минуту губернский чиновник смотрел на городничего снизу – вверх. И только тут заметил на краешке его мундира маленькую, аккуратно заштопанную серыми нитками дырочку. Заплатка была так мастерски выполнена, что едва различима.
– Моя беда в том, что я честно служу Отечеству… Возможно, через чур честно, – отчеканил Дрейер, продолжая стоять не шелохнувшись.
Салтыков прекратил жевать и, облизывая жирные губы, стал взглядом искать по столу оставленные документы. Найдя заветную папку, воскликнул: «Ах, вот же она!» и, порывшись в ней, извлек секретный рапорт. Затем, держа его перед собою, произнес:
– Ваша честность, господин городничий, весьма хлопотное дело. И чем оно закончится – неизвестно. И что этот Ситников, он же Ананий, – «весьма важное лицо в расколе», – это вы сами решили, да? На основании чего? Непонятного письма, которое по зубам расшифровать последнему гимназисту? А может, вы его сами написали, левой рукою? Заскучали, и решили что-нибудь этакое выдумать? Раздуть из наимельчайшей пустяковины вселенский заговор?
Тут Салтыков сбавил тон, и произнес:
– Ведь я уже не первый раз у вас в городе, Густав Густавич! Ну что я вам плохого сделал, а? Обидел чем-то? Или плохо отозвался в ревизиях? В чем проблема, дорогой мой? …Ну, сидел бы я сейчас в Вятке, отдыхал от трудов праведных, а тут, представляете, – оказия. Вы не подумали, какая сейчас из-за вашего рапорта круговерть подымется?
Городничий горестно вздохнул и опустил голову.
– Ладно, – отступил Салтыков, отодвигая от себя недоеденное блюдо, – Давайте-ка завтра с допросами, на свежую голову…
– Так точно-с, – сухо ответил Дрейер и пошел прочь.
Почему городничий не осмелился возражать, Салтыков знал наверняка, поэтому не стеснялся в выражениях. Дело в том, что в прошлое свое посещение Сарапула в качестве проверяющего, губернский чиновник обнаружил небольшое, так сказать, разночтение, в делах винного пристава Владимирского. Не знамо почему, но за последнего вступился сам городничий и убедительно просил не давать делу огласки. Уж как он сумел убедить проверяющего – не имеет значения. Остался, однако, должен.
Поднявшись из-за стола, Салтыков добрел до кровати и рухнул на нее лицом вниз, тут же уснув без зазрений совести. На душевные терзания Фон-Дрейера ему было плевать. Точно так же, как и на все остальное.
Да пошли они к черту!
***
Придя домой, Густав Густавич украдкой пробрался в столовую, извлек из буфета графинчик, и присел за стол. Он был крайне расстроен нападками губернского чиновника, и оскорблен до глубины души. Оттого ему захотелось выпить и завершить с оппонентом незаконченный, как ему представлялось, диалог.
«Да что вы обо мне знаете, коллежский асессор! – говорил воображаемому визави городничий, – Вы еще в нежном возрасте пребывали, а я уже военную карьеру заканчивал. Из рядовых, можно сказать, выбился. И единственный смысл, который я для себя тогда вывел: служить дорогому Отечеству. И служил, представляете? Многие лета служил и получал поощрения… А вот у вас, господин Салтыков, награды имеются? Нет наград? Так что ж вы от меня требуете? Чтобы я вам кланялся? Чтобы сознался в каких-то там ошибках юности? А не дождетесь! Потому как не было этих ошибок, Михаил Евграфович. Ну, разве ж это ошибка: сказать в лицо командиру полка, что он подлец? Нет, не ошибка это, господин хороший, а нравственное убеждение! Но вам ли знать о существовании такого понятия. Лично вы, скольких товарищей предали и открестились от них, по собственному малодушию, а? Молчите. Сказать вам нечего. То-то же. И не надо передо мною бумажкой размахивать, петрашевец деланый. Думаете, я не знаю, за какие грехи вы сюда сосланы…»
В дальнем конце коридора мелькнул огонек и послышались шаркающие шаги. Матушка! – встрепенулся Дрейер, пряча меж колен хрустальный графинчик. В дверях появилась семидесятилетняя Гертруда Марковна: в ночном халате и мятом чепчике.
– Явился, – сказала матушка, поднимая над головою свечу.
– Да, – прошептал городничий, заслоняя рукой налитую рюмку.
– Да не прячь ты уже. Пей.
Гертруда Марковна поставила свечу перед Густавом, прошла к буфету, и достала из среднего ящика баночку с каплями.
– Забыла принять. Ох, опять сердечко пошаливает.
– Что ты, матушка. Вечером, наверное, понервничала, вот и пошаливает. Надо было почитать на ночь Слово Божие.
Гертруда Марковна вздохнула.
– Читала, да толку-то. Все за тебя, Густав, переживаю. Вот, например, чиновник, что прикатил. Настолько ли строг? Не придирается ли? Да много ли денег требует?
– Ах, ты об этом…
Старуха присела рядышком.
– Ведь недавно ревизор был. Ты ему тыщу рублей поднес. И вот, опять. Чего им всем надо-то?!
– Это другой, матушка. Он взяток не берет. Порядошный, – последнее слово Фон-Дрейер произнес с издевкою.
– Не может быть! – безапелляционно произнесла Гертруда, – Все берут, иначе жить на что?
– Я не беру, – потупился городничий, разглядывая на пальце наградной перстень.
– Дурак, – матушка ткнула Густава в бок, – Поэтому живем в долг. И всякий заезжий болван пользуется твоей мягкотелостью. А все потому, что не знаешь ты себе цену, дорогой мой. Вот назначил бы таксу, каждый и знал, что городничий Густав Густавич человек серьезный.
– Да не умею я взятки брать. Даже не знаю, какие суммы и по каким случаям требовать. А вдруг, запрошу больше, чем следует? Так меня и посадят в тюрьму …по доносу. Али меньше? Тогда какой смысл репутацию пачкать. Взятка – вопрос тонкой организации. На нее нюх нужен. Ну, не создан я для этого.
– Вот – вот, – покачала головой мать, – Сам и создаешь проблемы. На доходном, можно сказать, месте.
– Согласен, матушка.
Фон-Дрейер, наконец-таки, опрокинул рюмку и, задержав дыхание, выждал какое-то время.
Матушка, сидевшая рядом, грустно смотрела на него, держа на коленях руки. В ее взгляде читалось сочувствие и глубокое материнское сострадание к непутевому отпрыску. В это же время сухие пальцы ее левой руки, похожей на куриную лапку, сжимали пузырек с сердечными каплями, правой – перебирали тяжелые складки халата и подрагивали.
– Возьми арестованного Анания, – сказал ей Густав, словно оправдываясь, – Он, ведь, мне денег сулил. Еще во время обыска.
Гертруда Марковна, будто очнувшись, воскликнула:
– Так взял бы!
– Признаться, я иногда так думаю. Вот, взял бы, глядишь, и не было этой неприятной истории с заговором. Я бы даже не знал о нем.
– Видишь! А я что говорю!
Городничий хмыкнул и покачал головой.
– Поздно. Сейчас открылись многие обстоятельства, от которых не отвертеться… Опять же – чиновник из Вятки приехал. Наорал на меня. Обвинил в том, что я сам этот заговор выдумал.
Старуха отставила пузырек в сторону, решительно встала и положила руки на плечи сыну.
– С другой стороны, – продолжал рассуждать городничий, глядя на мать снизу вверх, – Что ежели и вправду – заговор? И Государя хотят убить. Ведь я, получается, спасу его от верной гибели. Все благодаря моей бдительности, а главное – неподкупности. Вот что вы тогда скажете, а?
Гертруда Марковна пригладила сыну на голове редкие седые волосы.
– Гордиться мною будете – вот что! – выдохнул Густав.
– Ну, дай Бог, – матушка поцеловала Густава в лоб и пошла к себе в спальню, позабыв сердечные капли на столике.
***
А Сарапульское дознание пришлось начать заново. Салтыков начал тем, что для острастки и пользы дела поднял всю вертикаль земской полиции. Затребовал дополнительные сведения о надзоре за старообрядцами от исправника Алексеенко. Трех становых – Мышкина, Назарьева и Тукмачева опросил дополнительно, потребовав предоставить списки всех подозрительных личностей по каждому стану. Сотских обязал ежедневно отчитываться о сношении лиц, уличенных в неблагонадежности, десятских же – выстроил в шеренгу и чуть не каждому приставил кулак к носу и прорычал «ужо я вам!». А вот со следственным приставом Радзишевским побеседовал тет-а-тет без посторонних, после чего тот бывал у Салтыкова чуть ли не ежедневно и при закрытых дверях. Свои методы имелись у следователя Салтыкова. Людей толковых привечал и способствовал, а вот лентяев и тугодумов разносил в пух и прах без стеснения. Был случай, когда в одного такого чернильницей запустил. Хорошо в голову не попал, иначе зашиб бы насмерть.
Так вот, изучив суть, Салтыков принялся за работу. В течение месяца допрашивал арестованных Дрейером раскольников поочередно – то Смагина, то Ситникова. Сводил их вместе, стращал, убеждал в бесполезности упорствования; в другое же время умасливал, проникался обстоятельствами, симпатизировал. И главное: из многочисленных объяснений разбойников чиновник постепенно, от беседы к беседе, уяснял для себя, в чем же могла заключаться суть так называемого заговора против Государя императора? Ежели имелись ввиду Донские казаки, то бишь – некрасовцы, то вся их подковерная деятельность сводилась к тому, чтобы усадить в Белой Кринице собственного старообрядческого митрополита, а затем принять в свои ряды несметное количество крестьян-переселенцев из центральной России, имеющих религиозные расхождения с официальной церковью. Однако же, вновьприбывшие в Криницу раскольники никакой политической вражды к бывшему Отечеству не питали. Скорее, наоборот. Никакая польско-османская агитация не могла заставить старообрядцев встать с оружием в руках против Российской империи на стороне бусурман.
Хотя, из любого правила всегда можно сделать исключение и найти одного-двух негодяев, которые испортят тебе всю картину маслом. Например, стать курьером по переправке из какой-нибудь Добруджи фальшивых ассигнаций для подрыва экономики страны собственной. А это явная и неоспоримая связь с небезызвестным Саид-пашой, который, в свою очередь, именовался чуть ли не врагом номер один для государя Николая Павловича. И только в таком варианте событий, при определенной фантазии, можно было бы усмотреть заговор.
Но печатный станок, в таком случае, отпадал. Фальшивые ассигнации печатались бы в Турции. Это и большой тираж, и хорошее качество, и относительно дешево. К тому же, не надо постоянно бояться, что тебя вот-вот накроет жандармерия.
Дальше. На кого можно было бы возложить обязанности по переброске фальшивок? Да на кого угодно! На того же Анания Ситникова, к примеру. Родившись в старообрядческой семье поповского согласия, а после второго брака числясь принадлежащим к официальному православию, часто отлучался он по заводским делам в другие губернии и, как оказалось, продолжал заниматься делами раскольников. После увольнения с завода, странствуя по разным местам, – из города в город, от одного скита в другой, – он вполне мог исполнять обязанности курьера. А почему бы и нет? Ведь закупал же он книги, иконы, прочую утварь, исполнял всевозможные поручения.
Что же касается Тимофея Смагина, то сидел он на своем месте ровно, и на курьерскую беготню не разменивался. Постепенно выяснялось, что мещанин-старообрядец Смагин, в прошлом – зажиточный купец, промышлявший торговлей мясом и хлебом, а ныне действующий лишь по поручениям пермского купца Любимова, предоставлял дом свой не только для ночлега всевозможных переселенцев-раскольников, а сидел на пересечении своеобразной паутины. Паутины, по которой общались и переписывались старообрядцы Москвы, Петербурга, всего Поволжья, Киева, Кавказа, Болгарии и даже Турции.
Вот вам и исполнитель и координатор всего этого безобразия. Но были и еще участники. Кроме указаний местоположения раскольничьих обителей, чиновник добился от арестованных еще с десяток имен и фамилий, которые необходимо было проверить.
Чего Салтыков не смог пока выяснить, так это каким образом в вещах у Ситникова оказался золотой дукат? Разбойник отвечал неохотно, юлил, и озвученная им версия выглядела неправдоподобной. Салтыков не стал дожимать старика, оставляя одного в сырой и холодной камере, – пущай помучается.
5
Незначительные различия (фр).
6
Сокр. от названия Бетлемской королевской психиатрической больницы в Лондоне.