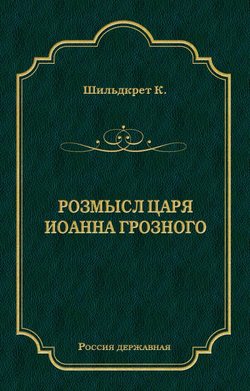Читать книгу Розмысл царя Иоанна Грозного - Константин Шильдкрет - Страница 2
Часть первая
Глава первая
ОглавлениеТочно у вздернутых на дыбы людишек, скрипели старые кости леса. Ледяными слезинками стыл на помертвелых сучьях подтаявший было за день снег.
Скулили северы.
Васька поплотнее запахнул епанчу и в раздумье остановился.
– Ишь, хлещет, склевали бы тебя вороны! – выругался он, отворачиваясь от лютого порыва ветра, запорошившего глаза пригоршней снежной жижи. – Токмо бы ему потехами тешиться!
Какая-то тоска, так часто наседавшая в последние дни, уже закрадывалась в сердце Васьки, вызывая тупую боль и раздражение.
– Кат его ведает, коликой дороги держаться!
Он хмуро оглядел лес и прицыкивающе сплюнул.
Зимой, в северы, Ваське было все равно, куда идти. Зимой и лес, и дороги, и жилье человеческое на один лад обряжены: куда ни кинься – опричь волчьей песни да хороводов и плясок, что ведут непрестанно под вой метели лешие с беспутными ведьмами, – ничего не услышишь. А и хороводы те только поначалу как будто пугают крещеную душу. Обживешься же в берлоге медвежьей, попривыкнешь к метельному говору – и ничего. Свой не свой, а чуешь в тех песнях и говоре, прости господи, нечестивые думки, такую же сиротскую жалобу, какую от мала одинокий человек в груди своей носит. Видно, не зря земля разметала от края до края седые космы свои и, точно мертвая, застыла в неуемной кручине. Нет уж, как ни вертись, а ей, старенькой, все, что выносила она в чреве своем, – родное дитя!
И в долгие месяцы стужи шел беззаботно Васька по дремучим трущобам; жил, где придется и чем попотчует лес; одинокой белой тенью скользил по занесенным дорогам вдоль городов и затерянных деревушек, теряя счет дням-близнецам.
Еще когда он покинул родимый погост, кукушка-вотунья, как и допрежь, в детскую пору, посулила ему многое множество годов впереди. Но от такого посула была ли Ваське корысть? Все едино: колико не прикидывай к ноше, легко болтающейся покуда за спиной двадцатью с небольшим годами, новых дней и недель, а не дойти до той межи, где зарыта доля холопья.
Кого другого, а Ваську не проведешь присказками бабьими о доле счастливой.
Зря болтают людишки: не бывало доли той отродясь на земле и не будет.
Так все чаще царапалось в усталом сердце бродяги и нарушало покой.
Распахнулась Васькина епанча. За усталью и думками темными, навеянными не видимыми еще, но уже близкими весенними вестниками, не чувствует он, как лехтают[1] больно сучья его голую грудь. Из-под высокой бараньей шапки, опушенной желтыми волдырями облезшего лисьего меха, выбилась прядь, цвета спелой пшеницы, волос.
Васька то и дело жмурится и раздраженно встряхивает головой. А ветру и любо потешиться: еще глубже запускает он студеные пальцы свои за шапку, норовит добраться до самой макушки, и другой лапой шарит уже, повизгивая задорно, по жилистой, широкой спине.
– Охальник! – плюется бродяга, не зло грозит в гулливую мглу кулаком и идет к едва видной прогалине.
Позади, где-то тут, рядышком, кажется, лязгнул кто-то зубами.
Васька насторожился и, уловив слабый вой голодного волка, взялся было за оскорд, но тут же раздумал и пошел дальше своей дорогой.
Уже за полночь выбрался он на опушку. Свернув в сторону от жилья, облюбовал поглубже байрак и устроился на ночлег.
Под снегом было тепло и уютно. Приятно покалывало лицо и ноги. На глаза ложилась баюкающая истома.
Ощупав оскорд, бродяга прижал его к себе.
«Тебя что не станет, оскорд мой, – что руку мою отшибут. Иль бывает тако, чтобы рубленнику срубы рубить без оскорда?»
И, нахлобучив на глаза шапку, притих.
Его разбудили частые удары, доносившиеся откуда-то из-за реки.
«Никак оскорды загомонили? – приподнялся на локте Васька. – Так и есть – рубленники», – оживленно подтвердил он свою догадку и решительно пошел на стук.
За рекой, при свете факелов, копошились у бревен и недостроенных срубов людишки.
Васька подкрался к крайней избенке.
Рубленники заметили его и выжидающе остановились.
– Спаси бог хозяев добрых!
– Дай бог здравия гостю желанному!
Согнутый старик придвинулся к гостю вплотную.
– Ежели с добром – покажи милость, подмогни людишкам работным, а ежели, – он добродушно хихикнул, – таловень[2] – не обессудь: опричь блох, все добро у ветра да в тучках небесных хороним.
Рубленники весело, точно по уговору, присвистнули.
Достав из-за спины оскорд, бродяга поплевал на ладонь.
– Сказывайте, хозяева, чего робить.
– Да откель тебя ветром в наш починок[3] снесло?
– Оттель же, где тому ветру положено подле добра вашего с дозором держать помело!
– Ишь ты, балагур какой выискался! – довольно причмокнул старик и строго насупился. – А и поболтали, да за робь не срок ли нам вышел?
Ловко помахивая оскордом, Васька увлеченно пригонял бревно к бревну и сколачивал низенький сруб.
Перед рассветом старик осмотрел деловито работу и, перекрестясь, разрешил рубленникам идти в избу отдохнуть.
В клети пахло овчиной, сосной и едким потом. Жадно закусывая чесноком и пустой похлебкой, гость любовно поглядывал на окружающих и скалил тупые крепкие зубы в блаженной улыбке.
– Прямо тебе не то из лесу, не то из темницы, – перешептывались сочувственно рубленники. – Словно сорок сороков годов людей не видывал.
– Да, почитай, и не менее, – поддакнул Васька, уловив шепот.
Он вдруг поднялся и развел удивленно руками.
– Пошто тако бывает? Покель северы дуют – ништо тебе. И волк лютый – брат, и дубрава – изба родимая. А колико подует весной, осеренеет[4] колико самую малость, тужить человек зачинает.
Глубокий вздох вырвался из его груди, и синим теплом засветились большие, задумчивые глаза.
– Тако тужить зачинает и такая на сердце ложится туга, что горазд душу отдать, токмо бы сызнов к людишкам прийти да человеческий голос услышать.
– Поди, и волка к волку тянет, и пчелу к пчеле, – степенно поглаживая бороду, ответил старик и, натруженно выпрямив спину, улегся на ворохе прелой соломы.
Остальные последовали за ним.
Не спалось Ваське на земляном полу в душной клети. Едва все стихло, он неслышно поднялся и подошел к волоковому оконцу.
Хозяин подозрительно поднял голову.
– Аль замыслил чего?
От неожиданности гость вздрогнул и схватился за оскорд.
– Ты спи, старик, – выдохнул он тотчас же уже спокойней и болезненно улыбнулся. – Не приобычен аз к избяному духу. Крышку затеял с окна сволочить.
Хозяин поманил Ваську к себе.
– Ляг. С дороги-то оно эвона како отдышаться надобно человеку.
И, с отеческой лаской:
– Бродишь-то, небось и сам срок потерял?
– Не счесть, старина!
– То-то ж и аз мерекаю… А звать тебя как?
– Васькой звать. Бобыль аз – Выводков Васька.
– Так, так, – зажевал беззубыми челюстями хозяин. – А меня, мил паренек, Онисимом кличут.
Выводков помолчал; удобнее улегся и, сквозь сдержанный зевок, процедил:
– А вы чьи будете людишки?
Гордо откашлявшись, Онисим отставил указательный палец.
– Живем мы за могутным господарем, за самим князь-боярином, Симеон Афанасьевичем Ряполовским.
– Могутный-то – спору нет, а невдомек мне, пошто ночами починок робите, яко те тати.
Хозяин удивленно оттопырил нижнюю губу.
– Коли ж и робить, мил человек? Аль не русийской ты, – не ведаешь, что положено Богом да господарями шесть дней робить холопям на князь-бояр?..
Он причмокнул и покровительственно потрепал соседа по крепкому и упругому, как шея молодого коня, плечу.
– Тут и пораскинь ты умишком. Токмо и наше, что единый день да семь темных ночей.
Один из рубленников перекатился поближе к Выводкову и, не то серьезно, не то со скрытой усмешкой, вставил:
– Оно бы жить можно. Пошто не жить? Одно лихо – кормиться нечем.
– И отпустил бы, выходит, боярин, избыток людишек-то, – зло дернулся Выводков.
Онисим и рубленник улыбчато переглянулись.
– Чудной ты, гостюшек! И не разберешь, откель занесло тебя. Како князь-боярину без тьмы холопьей? Поди, зазорно ему перед суседями.
Хозяин ткнулся холодными губами в ухо гостя.
– Вот и нынче пригнал отказчик рубленников. Утресь кабалу писать будут. Хоромины князю новые поставить запритчилось.
Выводков сладко потянулся и, чувствуя, что сон властно сковывает все его существо, почти бессмысленно хлюпнул горлом:
– Лют?
– Кто?
– Боярин.
– Како положено ему родом-отечеством. Не худородного семени сын, а от дедов князь-вотчинник.
И снова нельзя было понять, говорит ли серьезно рубленник или подсмеивается над своими словами.
Онисим же твердо прибавил:
– На то и поставлены Богом господари над людишками, чтобы через лютость и миловать другойцы.
И, сочно зевнув, отвернулся к стене.
– Спи. Не за горами и утро.
* * *
Васька проснулся, когда никого в клети уже не было. Накинув на плечи епанчу, он сунул за пояс оскорд и вышел на двор.
Починок был пуст. Только на краю узенькой улички, в куче щебня, возились полуголые ребятишки, да чахлый кутенок обиженно выл, тщетно гоняясь за неподатливым вороненком.
Вдалеке, на раскисшей серым месивом пашне, копошились, разрывая навоз, холопи. Пригретый солнцем туман медленно расползался гнилыми клочьями овечьей шерсти и таял, теряясь в мреющих прогалинах розовато-бурого леса. По взбухшей спине реки, по тысячам синих жилок льда, точно согревшаяся кровь, скользили золотые лучи, неся с собой весть воскресающей жизни.
Бобыль постоял в раздумье у двери. Беседа с Онисимом не выходила из головы. Хмурый взгляд тяжело шарил по недостроенным избам, пытливо устремлялся за черед осевших, кривогорбых курганов, в сторону боярской усадьбы, и стыл на ворчливой чаще леса.
«Уйти! – тряхнул он решительно головой. – Без нас рубленников достатно хоромины ставить господарям!»
Но тяга к людям была сильнее, и мысль, что здесь ждет его работа рубленника, по которой он истомился, как надолго запертый в клетке кречет, приученный к охоте, гнали его упрямо и властно к хоромам князя-боярина.
С пашни шел какой-то мужик.
«Уж не отказчик ли?» – испугался Выводков и юркнул в сарайчик.
В полумраке он разглядел охапку соломы и на ней серую тень девушки.
– Занедужилось нешто?
Тень заколебалась, поднялась на локте и удивленно уставилась на вошедшего.
Васька приоткрыл шире дверь и шагнул в глубину. На него, не мигая, глядели глубокие сапфировые глаза.
– Аз – не лих человек. Лежи, коль недужится.
Она едва кивнула и смежила веки. От ресниц двумя трепещущими венчиками легли на подглазицах прозрачные стрелочки.
– Испить бы!..
И потянулась исхудалой, полудетской рукой к глиняному ковшику.
Бобыль подхватил ковшик, поддержал голову девушки и не передохнул до тех пор, пока вся вода не была выпита.
– Занедужила?
– Вся-то поизвелась.
Мягким дыханием ветерка прошелестел ее слабый голос, порождая в груди непонятную тревогу и жалость.
Чтобы чем-либо проявить сочувствие, он неловко взбил слежавшуюся солому, спешно забегал по сарайчику, сгребая ногами сор и поднимая тучи удушливой пыли; потом, с медвежьей ухваткой, повернул девушку на бок и ухнул рядом на подгнившую чурку.
– Так-то вольготнее будет, – разодрал он в широкой улыбке рот.
Больная благодарно коснулась плечом его колена и чуть приоткрыла сухие губы.
– Отказчик доставил?
Выводков, стараясь изо всех сил не причинить боли девушке, осторожно провел тяжелой ладонью по ее матовой щеке.
– Точно листок рябины по осени… алый и жалостный…
Она не поняла и передернула покатыми плечиками.
– Про кой ты листок?
– Про губы твои. А замест зубов – иней на елочке.
Лицо больной стыдливо зарделось.
Васька виновато потупился и, чтобы перевести разговор, торопливо шепнул:
– Сам пришел… без отказчика. А ты давно маешься?
– С Васильева дня. Думка была – не одюжу.
Помолчав, она робко спросила:
– Далече путь у тебя?
Бобыль скривил губы.
– Далече.
Он горько улыбнулся и двумя пальцами пощипал русый пушок едва пробивающейся бородки.
– А по правде ежели – сам не ведаю, где тому пути край.
И, устремив опечаленный взгляд в пространство, процедил сквозь зубы:
– Земли, доподлинно, многое множество, а жить негде одинокому человеку.
Больная недовольно поморщилась.
– Грех. Каждому творению свое место положено. Каково бы и кречету быть, ежели бы дичина вся извелась? Да и падаль на то Богом сотворена, чтобы было ворону что поклевать.
Волчьими искорками вспыхнули раздавшиеся зрачки бобыля. Забываясь, он шлепнул изо всех сил ладонью по спине девушки.
– Ан, вот горло перекушу, да не дамся тем воронам!
Больная в страхе перекрестилась.
– Сплюнь! Через плечо в угол сплюнь! Туги не накликал бы ты себе словесами кичливыми.
В ее голосе звучала пришибленная покорность.
– Гоже ли черным людишкам с долею свар затевать?
Васька ничего не ответил и свесил голову на выдавшуюся колесом грудь. Сразу стало тоскливо и пусто, по телу разлилась безвольная слабость.
Девушка с немой грустью погладила его руку.
– Аль лихо какое приключилось с тобою, что кручину великую держишь в очах своих?
Он поднялся и, остановившись у выхода, заломил больно пальцы.
– От лиха и на свет холопи родятся, по лиху ходят да с лихом и в землю ложатся. На то и холопи.
И, точно жалуясь самому себе, тяжело перевел дух.
– И пошто ты, туга, камнем на сердце лежишь?!
Рука потянулась к двери.
– Прощай, болезная.
– Куда же?
В голосе больной прозвучала такая глубокая ласка, что Выводков почувствовал, как глаза его застлались соленым туманом.
Неожиданно, не думая, помимо своей воли, он решительно объявил:
– Куда – пытаешь? К подьячему… кабалу писать на себя.
– Выходит, у нас будешь жить?
– А выходит!
Наклонившись над ожившим в мягкой улыбке лицом, он провел рукой по кудели пышных волос девушки и вздрогнувшим голосом спросил ее имя.
Она почему-то потупилась.
– Клашею звать… Онисима дочка аз, Клаша. А тебя?
– А аз – Выводков Васька.
Шагнув за порог, бобыль с шутливой торжественностью воздел к небу руки.
– Отныне Васька бобыль да Кланька Онисимова – одного князя холопи!
И скрылся.
Собрав все свои слабые силы, Клаша ползком добралась до порога и долго не сводила странного, полного тайной тревоги и восторженности взгляда с богатырской фигуры Выводкова, твердо шагавшего к кривогорбым курганам, к нахохлившимся низким хоромам князя-боярина Симеона.
1
Л е х т а ю т – щекочут.
2
Т а л о в е н ь – вор.
3
П о ч и н о к – новая деревня.
4
О с е р е н е е т – потеплеет.