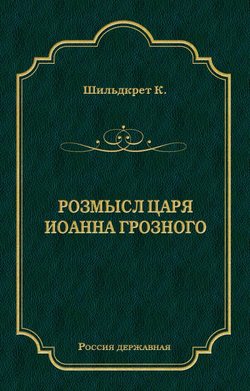Читать книгу Розмысл царя Иоанна Грозного - Константин Шильдкрет - Страница 9
Часть первая
Глава восьмая
ОглавлениеЛица Тешаты не было видно – оно обросло дремучею бородой. Клочья волос торчали во все стороны, точно утыканные репейником колючки бурьяна. Из черных провалов под мохом бровей мертво проглядывали пустые зрачки. Под железными обручами, туго перехватившими шею и руки, копошились белые зерна могильных червей. Перегнившие остатки потерявшей цвет епанчи обнажали перебитые ребра и бурые язвы на волосатой груди. Узник был прикован к стене и мог двигать лишь головой и едва касающимися земли разбухшими колодами ног.
Каждое утро сына боярского расковывали и волокли в посад на правеж. Трупный запах приводил в исступление катов. Чтобы поскорее избавиться от пытаемого, они озверело били его по икрам и то и дело, будто невзначай, изо всех сил наносили удары по голове.
Наконец, Тешата не выдержал.
– Все отдаю… И себя… и живот… – задыхаясь объявил он пришедшим за ним катам.
Был праздник. Князь собирался в церковь, к обедне. Тиун и полдесятка холопей помогали ему обряжаться.
На крыльце дожидалась толпа людишек, сопровождавших постоянно боярина в церковь.
Ряполовский надвинул на брови высокую шапку из черно-бурой лисицы с тиарою, поправил на голой шее ожерелье и расставил широко руки. Тиун напялил на него шелковый зипун до колен и торопливо взял с лавки кончиками пальцев кафтан.
Обрядившись в подбитую мехом и разукрашенную золотыми галунами земскую ферязь, Симеон надел камлотовый охабень, накинул поверх него однорядку и, постукивая серебряными подковами расшитых жемчугом сафьяновых сапог, вышел на двор.
Едва появился он на крыльце, холопи пали наземь.
Отказчик стал на колени.
– Тешата челом тебе бьет, осударь.
– Неужто не издох еще гад проваленный?
– Жив, господарь. Сохранил Господь душу для покаяния.
Боярин нахмурился. Жирная складка на багровом затылке свисла на ожерелье, полуприкрыв верхний ряд изумрудов.
– Не Господь, а лукавый!
Отказчик стукнулся оземь лбом.
– А аз холопским разуменьем думку держал, что сжалился Господь над смердом для тебя ради, князь. Чтобы можно ему быть в холопях твоих да зреть силу твою могутную.
Симеон дернул носом и, польщенный, забрал в кулак бороду.
– Не басурмены и мы. Для ради Христа – снимаю железы с Тешаты и жалую его холопем своим.
Подумав, он прибавил твердо:
– Людишек его нынче же согнать ко мне на двор!
Узника спустили с желез и унесли в починок, в избу Онисима.
В тот день не пошла Клаша к обедне. Она остригла больного, вымыла горячей водой и, изодрав единственную рубаху свою на длинные полосы, кропотливо перевязала раны.
Сын боярский доверчиво поддавался девушке и, несмотря на невыносимую боль, не проронил ни единого стона.
Онисим натаскал в сарай свежего сена и, с помощью дочери, уложил Тешату на душистой постели.
В первый раз за долгие месяцы больной поверил в возможность выздоровления. Об утерянной воле и разорении как-то вовсе не думалось. Да и можно ли еще чего желать, когда каждым мускулом и суставом своим чувствуешь, как радостно бежит по жилам согревшаяся вдруг кровь и как заморским вином вливается в душу и воскрешает ее пьяный аромат неподдельного, так недавно еще казавшегося навеки утраченным, чистого воздуха.
На просвечивающемся лице, точно солнечные лучи в застоявшейся лужице, скользнул бледновато-грязный румянец, а ввалившиеся глаза подернулись мягким счастливым теплом.
Встать бы сейчас, стремглав броситься в широкое поле, захлебнуться в вольных просторах и кричать так, чтобы вся земля клокотала, как могуче клокочет в груди радость жизни!
Тешата сжал кулаки и приготовился крикнуть. Он не заметил, что, вместо крика, в горле бурлит какой-то странный и жуткий смешок, и только тогда пришел в себя, когда очнулся от надрывных рыданий.
Онисим ушел в церковь, а Клаша принесла Тешате ломтик заплесневелой лепешки, поднесенной ей накануне рубленником.
– Откушай. В воде помочи и откушай. Настоящая, изо ржи.
Он отстранил ее руку и взволнованно перекрестился.
– Воистину херувима зрю средь смердов!
Хмельной от воздуха и разморенный после еды, Тешата заснул. Девушка на носках ушла из сарая и занялась по хозяйству. Для праздника она решила попотчевать рубленников гусем, добытым в последний набег на посад.
Зажав в кулак голову птицы, Клаша заглянула в сарай. Сын боярский болезненно взвизгивал и тяжко стонал во сне. Она вышла, растерянно оглядываясь по сторонам. На уличке не было ни одного мужика: все разбрелись по окрестным посадам за милостыней и в церковь.
Гусь трепетно бился в руках, рвался на волю. Клаша сунула за пазуху нож и уселась в лопухе у дороги. Вскоре она увидела медленно шагавшего к ней из леса Ваську.
– С гусем тешишься? – улыбнулся рубленник, поравнявшись с девушкой, и бросил к ее ногам зайца. – Тепленькой. Прямехонько из силка.
– Зарезать некому гуся того. Ушли мужики, – пожаловалась Клаша, протягивая полузадохшуюся птицу.
Он подразнил ее языком.
– Неужто гусенка не одолеешь?
Клаша надулась.
– Все-то вы до насмешек охочи. Моя ли вина в том, что опоганится живность, ежели ее не человек, а девка или баба заколет?
Выводков звонко расхохотался.
– Аль и впрямь опоганишь?
– Отстань ты, охальник!
И сунула ему в руки птицу.
– Покажи милость, приколи ты его, Христа ради.
Холоп облапил тоненький стан девушки и увел ее за поленницу.
– Держи-ка его, милого, промеж колен. А подол эдаким крендельком подбери.
Подав свой нож, он шутливо притопнул ногой.
– Секи!
Клаша зажмурилась и упрямо затрясла головой.
– Не можно… Избавь… От древлих людей обычай тот – не резать бабе живности.
Рубленник помахал двумя пальцами перед лицом своим, творя меленький крест.
– Заешь меня леший, коли единый человек про то проведает.
Нож вздрагивал в неверной руке, пиликая залитое кровью горло гуся. Жалость к бьющейся в предсмертных судорогах жертве и страх перед совершенным грехом смешивались с новым, доселе неведомым чувством к рубленнику.
Вытерев о лопух руки, Клаша почти с гордостью запрокинула голову. То, что мужчина, в первый раз за всю ее жизнь, дерзко насмеялся над обычаем старины и что она, с относительной легкостью, попрала этот обычай, – вошли в нее шальным озорством и неуловимым осознанием своего человеческого достоинства.
К полудню вернулись из церкви рубленники и тотчас же уселись за стол.
Клаша подала лепешек из коры и пригоршню лука.
Наскоро помолясь, холопи набросились на еду.
– Погодите креститься, – лукаво предупредила девушка, – еще для праздника похлебку подам с гусем да зайцем.
Ее вдруг охватило мучительное сомнение.
«Абие набросятся на меня!» – подумалось с ужасом.
Васька ободряюще подмигнул и показал головой на рубленников, вкусно прихлебывающих похлебку.
После трапезы холопи вышли на двор и, зарывшись в сене, заснули.
* * *
Прямо из церкви Симеон прискакал в новые хоромы свои с гостем, князь-боярином Прозоровским.
Гость, пораженный, замер на пороге обширной трапезной.
– Каково? – кичливо шлепнул губами хозяин.
– Доподлинно велелепно! Мне бы умельца такого – ничего бы не пожалел.
И с опаской провел по крышке стола, на которой были вырезаны искусно стрельцы, преследующие ушкалов[34] татарских.
– А не сдается тебе, Афанасьевич, что смерд твой с нечистым спознался?
Ряполовский вобрал в голову плечи и подавил, по привычке, двумя пальцами нос.
– Споначалу сдавалось. Токмо у того оплечного образа крест целовал холоп на том, что споручником ему – един Дух Свят.
Он развалился в дубовом кресле и ткнул с важной небрежностью пальцем в ларец.
– Трех холопей наидобрых отдам, коли откроешь потеху.
Насмешливая улыбка шевельнула гладко приглаженные усы Прозоровского. Он уверенно рванул крышку, но тотчас же отскочил в страхе.
– Пищит!
Князь побагровел от гордого самодовольства и заложил победно руки в бока.
– И мне сдается – пищит!
Гость вытянул шею и приставил к уху ладонь.
– Пищит, Афанасьевич!
– И то, Арефьич, пищит!
Хозяин придвинул к себе ларец, отогнул нижнюю планку и нажал пружину. Что-то зашипело внутри по-гусиному, попримолкло и разлилось мягким, бархатным звоном. Из приподнявшейся крышки ящика высунулась игрушечная голова скомороха.
Прозоровский бросился в сени. В суеверном ужасе он зачертил в воздухе круги и, не помня себя, закричал:
– Не нам, не вам, – диаволовым псам, а нашему краю – яблочко рая! Унеси! Богом молю… Не нам, да не вам… Христа ради сгинь, окаянный!
Симеон захлопнул крышку.
– Мы еще и не такие умельства умеем. Ты бы показал милость, Арефьич, в опочивальню б зашел.
Гость просунул голову в дверь и угрожающе сжал кулаки.
– Не унесешь антихристовой забавы – абие скачу к себе в вотчину!
И отпрянул в угол, когда Симеон, не скрывая торжествующей радости, поплыл с ларцем из трапезной.
– Садись, Арефьич. В скрыню потеху упрятал аз. Да ты опамятуйся.
Унизанная алмазами тафья сползла на оттопыренное ухо хозяина. В беззвучном смехе вздрагивали дрябленькие подушечки под глазами и волнисто колыхалась убранная серебристою паутинкою борода.
Они уселись на широкую лавку, наглухо приделанную к стене.
Арефьич приподнял тафью и вытер ладонью лысину.
– Был Щенятев у Курбского.
Симеон торопливо приложил палец к губам.
– Неупокой-то у меня сгинул. Думка у меня – не он ли в подклете в те поры шебуршил.
Прозоровский поджал желтые тесемочки губ.
– Других холопей сдобудешь.
– Не про то печалуюсь. Боязно – вот что. Не подслушал ли молви он нашей да на Москву языком не подался ли?
Гость вылупил бесцветные глаза и крякнул от удивления.
– Ты и не ведаешь ничего? – И, рокочущим шепотком: – Пришел тот Неупокой к Матвею Яковлеву, дьяку.
Симеон вздохнул так, как будто только что миновал неизбежную, казалось, погибель.
– К Яковлеву, сказываешь, дьяку? – Он откинулся к стене и по-ребячьи подбросил ноги. – Эка ведь могутна Москва и колико в ней разных дорог, а угодил так пес куда положено.
Прозоровский степенно разгладил бороду и с расстановкой откашлялся:
– А и к Мирону Туродееву угораздил бы, – одна лихва. А и у Кобяка да у Русина – тоже не лихо нам. Что пчел в дупле, то и людей наших на той Москве. – Хихикнув, Арефьич уже громко прибавил: – Взяли в железы Неупокоя да на дыбе косточки разминали. Чать, уставши с дороженьки молодец. А и с дыбы спустивши, порадовали: дескать, ходит слух от людишек – спознался ты, смерд, со языки татарские.
Они по-заговорщичьи переглянулись и, кривляясь, прищелкнули весело пальцами.
– Будет оказия – спошлю Матвею в гостинец мушерму чистого серебра.
Арефьич дружески похлопал хозяина по колену.
– Будет оказия! Така, Афанасьевич, оказия будет…
Он встал, неслышно подвинулся к двери, с силой толкнул ее и, убедившись, что никто не подслушивает, растянул губы.
– Курбской к Володимиру Ондреевичу захаживал.
– Да ну?
– Вот те и ну! И не токмо захаживал, а и крест обетовал целовать от земских бояр.
Тяжело отдуваясь, Симеон встал и отвернулся к окну. Тычки его зубов выбивали мелкую дробь; по спине суетливо скользил развороченный муравейник, а пальцы отчаянно колотили по оконному переплету.
Гость заерзал на лавке.
– А ежели лихо – не кручинься: уйдем на Литву.
Передернувшись гадливо, он грохочуще высморкался.
– Краше басурменам служить, нежели глазеть на худеющие роды боярские. – И, выкатывая пустые глаза, стукнул по лавке обоими кулаками. – Не быть жильцам[35] выше земщины! К тому идет, чтобы сели безродные рядом с князьями-вотчинниками! А не быть!
– А не быть! – прогудел клятвенно в лад Ряполовский. – Живота лишусь, а не дам бесчестить рода боярского!
Арефьич притих и скромно опустил глаза.
– Живот, Афанасьевич, покель поприбереги, а сто рублев отпусти.
Весь пыл как рукой сняло у хозяина.
– Исподволь, Афанасьевич, для пригоды собирает князь Старицкой казну невеликую. Авось занадобятся, упаси Егорий Храбрый, и кони ратные да пищали со стрелы.
– Где же мне таку силищу денег добыть?
– А ты ожерелье… Да не скупись – не для пира, поди.
И, запрокинув вдруг голову, повелительно отрубил:
– Володимир Ондреевич, Старицкой-князь, показал милость мне, Курбскому и Щенятеву изоброчить оброком бояр для притору[36] на божье дело.
Сутулясь и припадая немощно на правую ногу, поплелся Симеон к подголовнику за оброком, коим изоброчил его Старицкой-князь.
34
У ш к а л – наездник.
35
Ж и л е ц – дворянин, изредка заседающий в думе.
36
П р и т о р – расход.