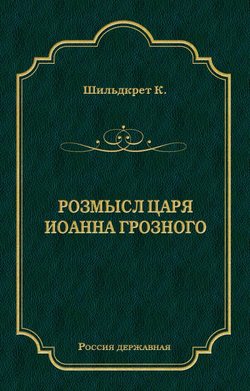Читать книгу Розмысл царя Иоанна Грозного - Константин Шильдкрет - Страница 3
Часть первая
Глава вторая
ОглавлениеПодьячий встал, вытер перо о сивые остатки волос на затылке и, тряхнув кабальной записью, строго поглядел на бобыля.
– Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Васька негромко повторил возглас и, повинуясь немому приказу, перекрестился.
Гнусаво и нараспев, отставив два пальца правой руки, подьячий читал кабалу:
Се аз, Васька, сын Григорьев, по прозвищу Выводов, дал есмы на себя запись государю своему, князь-боярину Симону Афанасьевичу Ряполовскому, что впредь мне жити за государем своим, за Симеоном, во крестьянех, где он меня посадит в своем селе, или сельце, или деревне, или починке, на пустом жеребью, или пустоши, и, живучи, хоромы поставить и пашни пахати, поля огородити, пожни и луги расчищати, и смолу курити, и лубья драти, как у прочих жилецких крестьян, и с живущие пашни государевы всякие волостные подати платити, и помещицкое всякое дело делати, и пашни на ней пахати, и денежной оброк, чем он изоброчит, платити, и со всякого хлеба изо ржи и из яри пятинное давати ежегод, и жити тихо и смирно, корчмы и блядни не держати и никаким воровством не воровати и с его поместной деревни, где он, князь-боярин Симеон меня посадит, не сойти и не сбежати, а во крестьянство и в бобыльство ни на котору землю, ни за монастыри, ни за церкви, ни за помещики, никуда не переходити. А нечто аз, Васька, нарушу сие, и где меня князь-боярин Симеон с сею жилецкою записью сыщет, и аз, Васька, крепок ему во крестьянстве в его поместьи, на тое деревню, где он меня посадит, да ему ж взяти на меня заставы четыре рубли московских.
Выводков рассеянно слушал и сочно зевал.
Подьячий передохнул и сунул ему в руку перо.
– Аминь!
– Аминь! – выплюнул сквозь зубы холоп и склонился над кабалой.
– Об этом месте крестом длань свою закрепи, – нетерпеливо притопнул подьячий.
– Мы и граматичному учению навычены, не токмо крестам!
И с огромным трудом Васька вывел:
Васька сын Григорьев Выводков рубленник.
Подьячий присвистнул от удивления:
«Разрази мя Илья-пророк, ежели видывал аз грамоте навыченных смердов!»
Он оттопырил тонкие губы и таинственно шепнул на ухо ухмыляющемуся кабальному:
– Уж доподлинно ль бобыль ты? Не из соглядатаев ли худородных?
Васька испуганно отступил.
– Живу, како дал Господь живота. Про свары господаревы не разумею и в языках не хожу. – И, стукнув себя в грудь кулаком: – А токмо, к жалости своей, опричь подписа, не навычен был тем юродивеньким.
Он прямо поглядел в недоверчивые щелочки глаз подьячего.
– Живал аз однова в лесу с блаженным Иовушкой.
Подьячий сморщил открытый, выпуклый лоб и шумно вздохнул.
– Обман ежели, памятуй, не миновать тебе в железы обрядиться. За удур[5], не будь я Ивняк, у нас – во!
В избу вошел надсмотрщик за работами.
– Кланяйся спекулатарю, – ткнул Ивняк Выводкова ногой и передал надсмотрщику кабальную запись.
– Рубленник тебе новый.
Выводков отвесил спекулатарю низкий поклон.
– Разумею и пашню пахати и срубы ставити.
– А и хоромины князь-боярам?
– На том и живу.
Ваську увели на постройку.
На обведенном тыном лугу рубленники ставили повалушу[6]. Глухой подклет уже был почти готов.
Староста долго опрашивал Выводкова, пока, наконец, задал ему несложный урок.
К полудню пришел на постройку боярин. Работные людишки побросали топоры и, распростершись ниц, трижды стукнулись о землю лбами.
Симеон хлестнул в воздухе плетью.
– Робить!
Васька первый вскочил. Князь с приятным изумлением поглядел на статного рубленника.
– Пядей[7] то сила в холопьих плечах! – распустил он в улыбку толстые губы и намотал на палец край волнистой каштановой бороды.
Спекулатарь приложился подобострастно к поле княжеского кафтана.
– По господарю и людишки. Аль вместно князь-боярину Симеону, опричь богатырей, иных холопей на двор свой вводить?
Польщенный князь самодовольно заложил руки в бока.
– Нынче гости ко мне пожалуют.
Он подошел поближе к холопу и деловито оглядел его.
– За столом ходить в трапезной будешь. Пускай бояре поглазеют на богатырей моих!
И, подавив двумя пальцами, в багровых жилках, нос, прибавил, обтирая пухлые руки о полы кафтана:
– Волю аз зрети ныне в хороминах единых могутных холопей!
Сторож на вышке ударил в колокол. Ряполовский вгляделся в расползающуюся тягучей кашицей дорогу.
– Скачут никак?
До слуха отчетливо доносилось чавкающее жевание копыт. За выгоном показались подпрыгивающие колымаги.
Князь развалистой походкой пошел к крыльцу.
Прежде чем сойти с колымаг, гости намеренно долго возились, медлительно складывали на руки согнутым в дугу холопьям шубы и осанисто разглаживали встрепанные бороды.
– Дай бог здоровья гостям желанным! – прогудел Симеон.
– Спаси бог хозяина доброго! – в один голос ответили бояре и подошли к крыльцу.
Ряполовский ответил поклоном на поклон и искоса поглядел, чья голова склонилась ниже.
Дмитрий Овчинин почти коснулся рукою земли. Михаил Прозоровский и Петр Щенятев ткнулись за ним ладонями в грязь. Симеон разогнулся и снова, тяжело отдуваясь, по-бычьи мотнул головой. Овчинин согнул правую ногу и сделал вид, что собирается стать на колени. Тотчас же остальные согнули обе ноги.
Так, стараясь из сил выказать почтение и перещеголять друг друга, долго пыхтели и кланялись хозяин и гости.
Холопи лежали в густом месиве из снега и грязи, не смея пошевельнуть коченеющими пальцами.
Наконец, Ряполовский кивнул тиуну.
Широко распахнулась, повизгивая на ржавых петлях, резная дверь. Гости по одному прошли в сени. Позади всех грузно шагал, вскидывая смешно короткими чурбаками ног, хозяин.
В трапезной все строго уставились на образа и степенно перекрестились.
– Показали бы милость, посидели б с дороги, – предложил Симеон, показывая рукой на обитую алой парчой долгую лавку.
Чинно усевшись, они молча уставились перед собой и вытянули шеи так, как будто что-то подслушивали. У двери, готовый по первому взмаху броситься сломя голову куда угодно, стоял, затаив дыхание, тиун.
Прозоровский заерзал на лавке.
– Аль молвить что волишь? – услужливо подвинулся к нему князь.
– Убери тиуна того.
– Изыди! – тотчас же брызнул слюной Симеон и плотно прикрыл дверь за холопом.
– Язык не притаился бы где? – подозрительно оглядели гости полутемную трапезную.
Хозяин уверенно прищелкнул пальцами и постучал в дубовую стену.
Тиун тенью скользнул в сенях и сунул голову в дверь.
– Слыхать, будто в хороминах людишки хаживают?
Приложив к уху ладонь, Антипка в страхе прислушался.
– Не можно человеку в хороминах быти, коли не было на то твоей милости.
Князь угрожающе взмахнул кулаком.
– Ежели запримечу…
И, легким движением головы отпустив тиуна, раздул чванливо обвислые щеки.
– Без воли моей не токмо человек – блоха не прыгнет!
Овчинин протяжно вздохнул. Ему эхом отозвались Щенятев и Прозоровский.
Симеон Афанасьевич грузно опустился на лавку.
– Сдается мне – невеселы вы.
Щенятев похлопал себя по бедрам и разгладил живот.
– А и не с чего ликовать, Афанасьевич. Слыхивал, поди, каково на Москве?
Хозяин широко раскрыл рот и встряхнулся, точно пес, которого одолели неугомонные блохи.
– Слыхивал. Токмо кручиною не кручинюсь.
Он гулко вздохнул и сверляще пропустил сквозь желтые тычки редких зубов:
– Не бывать тому николи. Краше на Литву податься, нежели глазеть, как хиреет сила земщины.
Овчинин закрыл руками лицо.
– А в остатний раз, егда сидел в думе с бояры, тако и молвил: «Самодержавства, дескать, нашего начало от Володимира равноапостольного; мы, дескать, родились на царство, а не чужое похитили!»
Щенятев заткнул пальцами уши и с омерзением сплюнул через плечо.
– Сухо дерево, завтра пятница… А не той молвью молвить, а не тому ухосвисту вещать.
И, с неожиданной гордостью:
– А мы чужое похитили? Не от дедов ли в вотчинах, како Бог издревле благословил, господарим?
Его рябое лицо подернулось синей зыбью, и багровые лучики на мясистом обрубочке носа зашевелились встревоженным роем паутинных червей.
– А еще да памятует, да крепко пускай памятует великой князь: обыкли большая братья на большая места седати. Не прейти сего до скончания века.
Туго натянутой верблюжьей жилой звучал его голос. И были в нем жестокая боль и упрямая, жуткая сила.
– Да памятует Иоанн Васильевич!
Что-то зашуршало в подполье. Прозоровский торопливо сполз с лавки и приложился щекой к полу.
– Мыши! – выдохнул он и в суеверном страхе перекрестился. – Не к добру, Афанасьевич. Сдается мне – тут под полом и гнездо мышиное.
Овчинин хрустнул пальцами.
– Не к добру. Высоко мышь гнездо вьет – снег велик будет да пути к спокою сердечному заметет.
Симеон Афанасьевич приподнял гостя с пола и затопал ногами.
– Кш, проваленные! По всем хороминам тьмы развелись!
Но тут же хитро прищурился.
– Да и мы не лыком шиты. Не мудрей меня лихо. Ухожу аз в хоромины новые.
Щенятев расчесал пятерней мшистую бородку свою и крякнул.
– Оно, при доброй казне, от лиха завсегда уйти можно.
Заплывшие глаза хозяина полыденно сверкнули.
– Не обидел бог казною, Петрович. В подклете-то во – коробов. – Он широко развел руками и поднял их над головой. – Токмо казною и держимся.
Они снова уселись, успокоенные.
Прозоровский скривил в ехидной улыбке толстые губы.
– А поглазеем, како без высокородных поволодеет великой князь! Како без земщины устоит земля русийская!
И к Ряполовскому, полушепотом:
– Репнин Михайло намедни в вотчину ко мне колымагою заходил.
Симеон насторожился.
– Сказывал, будто в Дмитрове, Можайске да Туле и Володимире по всем вотчинам ропщут бояре.
Щенятев не вытерпел и перебил Прозоровского:
– Дескать, покель время не упустили, – посадить бы на стол Володимира Ондреевича, князь Старицкого.
Кровь отхлынула от лица Симеона. Обмякшие подушечки под глазами взбухли черными пузыречками, а на двойном затылке завязался тугой узел жил.
– А ежели проведает про сие от языков великой князь?
Гости задорно причмокнули.
– Ни един худородный про то не ведает. А среди земщины покель нет языков.
Низко свесилась голова Ряполовского. Зябко ежились тучные плечи его, и испуганные глаза робко прятались в тараканьих щелках своих.
Щенятев раздраженно забарабанил пальцами по столу.
– Аль боязно стало, боярин? – Улыбка презрения шевельнула напыженные усы и шмыгнула в бородку.
Симеон кичливо выставил рыхлое брюхо.
– На ляхов не единыжды хаживал. Противу арматы[8] татарской с двумя сороками ратников выходил. Не страха страшатся князья Ряполовские!
Князь Михайло прищурился.
– Не страха, сказываешь? Так не князя ль великого, Иоанна Васильевича?
Мучительное сомнение охватило хозяина. Ему начинало казаться, что гости, которым он всю жизнь доверял, как себе самому, затеяли против него что-то неладное и пытаются нарочито втянуть в разговор о великом князе. Но больше, чем сомнения, терзала мысль действительной возможности заговора. Если бы нужно было, он не задумываясь стал бы лицом к лицу перед Иоанном и без утайки поведал ему все, что накопилось в душе за последние годы, когда великий князь заметно стал уходить от влияния Сильвестра и Адашева и приблизил к себе родичей жены своей Анастасии Романовны. Но тайно замышлять противу Рюриковичей, богом данных князей великих, но при живом государе отдаться другому владыке – было выше его сил.
Гордо запрокинув голову, он раздельно, по слогам, отчеканил:
– Отродясь не бывало у Ряполовских, чтобы израдою[9] душу очернить перед Господом.
Бояре молча поднялись и потянулись за шапками.
Хозяин растерянно засуетился:
– Негоже тако, хлеба-соли нашего не откушавши. Петрович… и ты, Михайло, да ты, сватьюшко Дмитрий…
Гости отвернули головы и решительно шагнули к двери.
– Негоже нам неподобные словеса твои слухом слушати.
– Сватьюшко! Да нешто звяги аз молвлю? Откель ты те непотребные звяги-словеса спонаходил?
И, заградив своей, колышущейся студнем, тушею выход, вцепился в руку Овчинина.
– Не было воли моей гостей окручинить…
Прозоровский зло передернул плечами.
– А кто израдою окстил нашу затею?
– И не окстил, а по-божьи волил размыслить.
Страх, что бояре покинут его, оставят одного среди назревающего спора земщины с великим князем, заставил смириться на время и заглушить в себе возмущение.
– Поразмыслить волил с другами верными. Нешто же тем согрешил?
Овчинин откинул шапку.
– А поразмыслить и пожаловали мы в хоромы твои.
Усевшись удобней, он прислонился спиной к стене и сурово спросил:
– Пораскинь-ко, Афанасьевич, умишком своим: не израда ли Господу Богу стол московской окружить Юрьиными, а на земщину и не зрети?
Прозоровский стукнул изо всех сил кулаком по своей ладони.
– Попамятуете меня! Лиха беда сызначалу! А и опала не за лесами, а и грамоты наши вотчинные скоро не в грамоты будут.
Уставившись немигающими глазами в хозяина, он приложил палец к губам.
– Затем и пожаловали к тебе, чтобы ведать… – рука мотнулась перед лицом, творя меленький крест, – чтобы ведать, волишь ли ты под заступника стола московского и древних обычаев, под Володимира Ондреевича, аль любы тебе Юрьины?
Ряполовский вобрал голову в плечи и отступил, точно спасаясь от занесенного над ним для удара невидимого кулака. Выхода не было. Приходилось или сейчас же порвать с боярами и отдаться на милость ненавистных родичей Анастасии, или войти в заговор и этим, может быть, удержать в своих руках силу и власть земщины, против которых, несомненно, замышлял великий князь.
– Волю! – прогудел он вдруг решительно. – Волю под Старицкого!..
И по очереди трижды, из щеки в щеку поцеловавшись с гостями, хлопнул в ладоши.
На пороге вырос тиун.
– Пир пировать!
Антипка метнулся в сени.
Ожили низенькие хоромы боярские неумолчным шепотом, звоном посуды и окликами боярских стольников. Долгою лентою построились холопи от поварни и погребов до мрачной трапезной. Людишки ловко передавали от одного к другому кувшины, ведра, братины, полные вина, пива и меда. Стольники расставляли по столу ендовы, ковши и мушермы, жадно раскрытыми ртами глотали вкусные запахи дымящихся блюд и покрикивали на задерживавшихся людишек.
Симеон зачерпнул из братины корец двойного вина боярского и подал старшему гостю – Овчинину. Прозоровский и Щенятев сами налили свои кубки.
Хозяин с укором поглядел на гостей.
– Нынче сам всем послужу.
Отодвинув кубки, налил братину и передал ее князьям.
По долгой холопьей стене беспрестанно скользили новые блюда.
– Пейте, потчуйтесь! – усердно кланялся хлебосольный хозяин. От толокна борода его побелела, а по углам губ золотистыми струйками стекал жир.
Симеон то и дело обсасывал усы, размазывал ладонью потное лицо и вытирал пальцы о склеившиеся стоячими сосульками рыжие свои волосы. От недавнего возбуждения он быстро охмелел и раскис. Гости уже не дожидались приглашения, а молча и усердно пили, закусывая пряжеными пирогами с творогом и яйцами на молоке, в масле, и рыбою, изредка подливая вина в овкач Ряполовского.
Низко склонившись перед Щенятевым, Васька держал на весу огромное ведро гречневой каши.
Князь осоловело уставился на холопя.
– Пригож ты, смерд. В пору тебе не в холопях, а в головах стрелецких ходить.
И, пощупав внимательно, как щупают на торгу лошадей, руки, грудь и икры рубленника, похлопал хозяина по плечу.
– Ты бы, Афанасьевич, меня наградил холопем своим.
Князь приподнял голову со стола, залитого вином, подкинулся всем телом от распиравшей его пьяной икоты и промычал что-то нечленораздельное.
Выводков угрюмо уставился в подволоку и, стиснув зубы, молчал.
Стольники убирали посуду и расставляли новые блюда с курником, левашниками, перепечами и орешками тестяными.
– А к зайцу вместно двойного боярского! – загудел неожиданно Ряполовский и сделал усилие, чтобы встать, но, потеряв равновесие, рухнулся на заплеванный пол.
Овчинин, как сват, принял на себя хозяйничанье и поклонился в пояс гостям.
– Аль у нас потрохи под зваром медвяным не солодки?
Прозоровский с омерзением пресытившегося зверя отодвинул от себя звар и припал распаленными губами к братине.
Князь не отставал. Еле держась на ногах, он кланялся в пояс и упрашивал заплетающимся языком:
– Свининки отведали бы. А то бы гуська да блинов. Ей-пра, отведали бы.
Щенятев тыкался в агатовое блюдце, тщетно пытаясь подхватить щелкающими зубами неподдающийся блин.
– Песню бы, что ли, сыграть? – предложил Прозоровский и, с завистью взглянув на всхрапывающего хозяина, улегся подле него. – Пой, играй, друга, песни веселые! – размахивал он руками и удобней устраивался. – Про славу князей русийских пой песни, други!
И в полусне загнусавил что-то тягучее и бессмысленное.
В окно тыкался серенький и чахлый, как голодный кутенок, выброшенный на дождь, мокрый вечер. В светлице боярыни запутавшимся в паутинную вязь золотым жучком трепетно бился огонек сальной свечи.
Из каморки в подклете, что под трапезною боярскою, крадучись, на четвереньках, выползала чья-то робкая тень.
5
У д у р – ложь.
6
П о в а л у ш а – летние покои.
7
П я д ь – четыре вершка.
8
А р м а т а – воинство.
9
И з р а д а – измена.