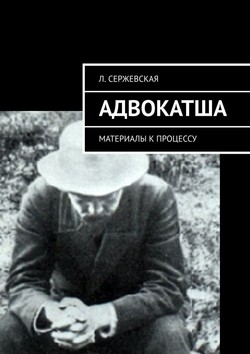Читать книгу АДВОКАТША. Материалы к процессу - Л. Сержевская - Страница 4
Часть I. Дом на 1-Й Мещанской
Миша Чехов, Малышев и другие
ОглавлениеЯ иногда ошарашиваю публику. «Скажу вам по секрету, – шепчу я соседу, – эту фразу Кальдерон позаимствовал у Лопе де Вега…». И мне верят… Ступай-ка, проверь!
А. П. Чехов. «В Москве»
Действительно, ступай-ка, проверь, правду пишет М. П. Чехов о своем поступлении в гимназию или сочиняет:
«Не сказав никому ни слова, я побежал в 3-ю гимназию на Лубянке. Там мне отказали в приеме. Тогда я побежал на Разгуляй, во 2-ю гимназию. Я подошел к директору и попросил его принять меня. Он поднял бритое лицо и, подумав, сказал: „Хорошо, я принимаю тебя“. За мной так и установилась репутация: „Миша сам себя определил в гимназию“».
Но проверить получилось.
История эта – явно неправдоподобная: бегают, мол, по Москве приезжие мальчики и втайне от родителей «сами себя определяют» на учение, – тем не менее, славно здравствует и поныне. Однако из неопубликованной переписки чеховской семьи вырисовывается совсем другой сюжет, и главный персонаж в ней – Василий Павлович Малышев.
В 1876 году в Таганроге резко ухудшились финансовые дела семьи Чеховых, и в надежде найти заработок в Москве туда весной уехал Павел Егорович, а летом к нему присоединилась и Евгения Яковлевна с младшими детьми. Одной из главных родительских забот стала прерванная учеба Маши и Миши.
Учебный год в те времена начинался 16 августа, но вот уже наступил сентябрь, а с учебой ничего не получалось. Павел Егорович жаловался оставшимся в Таганроге сыновьям: «Маша и Миша остались без ученья, в Москве не за что их определить, а не учиться им очень плохо». И хоть все силы были брошены на подготовку: «Меня учит Саша по предметам, а Коля – по французскому языку», – писал Миша Антону, шансов на московскую учебу не было.
«Не пристроили мы еще ни в какое учебное заведение Машу и Мишу, самое дорогое время для ученья проходит даром. В Москве вакансии ни в одной гимназии нет», – переживал отец.
Устроиться в московскую гимназию вообще было сложно, а тем более во время уже начавшихся занятий. Могла выручить только протекция. Как говаривал Антон Павлович: «Кумовство – важный двигатель». Оставалось только найти кума. За это взялся Александр Чехов, рассчитывающий на В. П. Малышева с его связями.
Михаил Чехов не случайно называет конкретные гимназии: третью и вторую – именно в этих гимназиях у Малышева были «свои люди».
В 3-й московской гимназии учились его пасынки: Сергей, Михаил и Иван Озеровы. Но эта гимназия была, как бы сейчас сказали, – с математическим уклоном, там преподавалась даже высшая математика. Однако способность ученика к точным наукам, видимо, не впечатлила директора, и как пишет Миша, ему отказали в приеме.
Вторая московская гимназия была, конечно, далековато, но зато – вариант беспроигрышный. В описываемый период в этой гимназии директорское место было вакантным. Сергей Викентьевич Гулевич, будущий ее директор, только еще оформлял перевод из Рязани в Москву, а пока главным человеком в гимназии был инспектор Иван Васильевич Аристов, приятель и соученик В. П. Малышева по костромской гимназии. Разумеется, Мишу приняли. Да еще с какими преференциями!
П. Е. Чехов радостно писал сыновьям в Таганрог: «Брат Ваш Миша определяется во 2-ю гимназию во II класс без экзамена». Однако никто не ожидал, что в разгар занятий Мишу возьмут не только без экзаменов, а даже и без оплаты за учебу. Но вскоре И. В. Аристов получит повышение по службе, его место займет другой инспектор, и обучение Миши станет платным.
Учеба у Миши шла туго. Александр писал Антону в Таганрог: «Мишка получает табель отметок, где всего только одна тройка, остальные колы». Первый московский гимназический год получился неудачным: Мишу не перевели в третий класс. Но и следующий год мало что изменил: «Мишке в гимназии не везет, так что, я думаю, его после экзаменов попросят удалиться, ибо по латыни у него до сих пор отметка не заходит выше тройки, а двоек, а наипаче – колов – обилие». Из-за неуспеваемости Мише грозило отчисление. Он отметит это в своих воспоминаниях, но прокомментирует так: «В министерстве Делянова был издан циркуляр о том, чтобы дети бедных родителей вовсе не принимались в гимназию, а я был беден, и мне грозило исключение». Однако Михаил Павлович лукавит: так называемый «Циркуляр о кухаркиных детях» был издан лишь в 1887 году, а Мишу исключали в 1877-м.
В 1880 году он опять остался на второй год. Бедный Павел Егорович только сокрушался и горько острил: «Не знаю, почему в Москве ученье медленно двигается, или от того, что климат холодный». Ведь и старший сын его, проучившись пять лет в университете, был все еще на 3 курсе, да и другой сынок все никак не мог окончить художественное училище.
Спустя десятилетия бывший гимназист с отвращением вспоминал как он «после долгого страдальческого учебного года, после девятимесячного сидения на голой скамье, вырывался из-под власти проклятых учителей». Отмучившись в московской гимназии девять лет, Михаил Чехов получил-таки в 1885 году вожделенный аттестат.
Итак, со всей очевидностью следует, что Мишиным поступлением в гимназию занимались по всем законам «кумовства»: готовили к поступлению, договаривались, собирали документы. Хлопотала вся семья, и никто не собирался отдавать его в «мальчики», как он утверждал позже: отец с матерью были просто «помешаны» на образовании детей. Словом, не было: «не сказав никому ни слова, я сам побежал».
Сочиненная М. П. Чеховым история о «самоопределении» грешит еще одной его фантазией: «Зима была жестокая, пальтишко на мне было плохонькое, и я часто плакал на улице от невыносимого мороза». Однако из писем видно, что у Миши было совсем даже не пальтишко, а шуба. Еще в начале сентября 1876 года Павел Егорович торопил оставшихся в Таганроге сыновей выслать Мишину шубку, и вскоре все было получено. Подхватив вслед за Михаилом Чеховым эту историю с «пальтишком», биографы на все лады расцвечивают ее жалостливыми красками, доходя порой до абсурда. Всех переплюнул Д. П. Рейфилд, уверяя, что Миша вообще зимой ходил без верхней одежды: «Зима стояла холодная, но у одиннадцатилетнего Миши даже пальто не было, так что в школу приходилось бегать вприпрыжку».
Мифы неистребимы.
Михаил Павлович Чехов прожил длинную жизнь и в иной мир ушел самым последним из братьев. Как и все сыновья Павла Егоровича и Евгении Яковлевны он был разнообразно талантлив: играл на пианино, рисовал, неплохо владел пером, был красноречив, «чертовски» обаятелен и льстиво ласков в своих речах, чем заслужил от Антона насмешливое – «сладкий Миша».
Однако, несмотря на всю эту «сладость», отношения Чехова с младшим братом сложно назвать близкими. Душевная черствость и откровенная скаредность нет-нет да и проглядывала сквозь слащавую Мишину оболочку. Так, в одном из писем Антону он жаловался на отца, что тот, придя домой со службы, ел купленные Мишей продукты, а деньги за съеденное не оставлял. Тогда, рассказывал далее Миша, он стал еду от «дорогого папашеньки» утаивать: «Был отец, искал, искал и не нашел спрятанного, мой сахар спрятан был в мешок».
Впрочем, с жадноватостью брата столкнулся и сам Антон Павлович, доверивший ему свою экипировку на Сахалин:
«Чемодан, купленный Мишей, рвется». Ботфорты оказались «узкие в задниках. Представьте мое мучение! То и дело вылезаю из возка, сажусь на сырую землю и снимаю сапоги, чтобы дать отдохнуть пяткам. Как это удобно в мороз!», – писал он родным, а Мише советовал не гнаться за дешевизною: «Дешевизна русского товара – это диплом на его негодность».
Не способствовала сближению и гаденькая затея Михаила втайне от Антона завязать собственные отношения с патроном брата, А. С. Сувориным, которому Миша слал заискивающие письма с просьбами о трудоустройстве.
Возникающее отчуждение между братьями с годами становилось все явственнее и непреодолимее. «Трудно ждать, чтобы этот молодой человек был внимателен к кому-нибудь другому, кроме собственной особы», – с явным раздражением писал Чехов сестре, и порой умышленно избегал встреч с братом. А тот делился обидой с матерью: «Я очень подозрителен и мне ж до сих пор еще кажется, что тогда, летом, когда я приехал к вам в Мелихово, он рассердясь на меня за письмо, нарочно уехал из Мелихова, чтобы не встречаться со мною».
На чувства Михаила проливает свет одно из его писем к сестре:
«Антон загордел. Прежде я целыми часами разговаривал с ним, а приехав два года тому назад в Мелихово с целым коробом разговоров, я так и не нашел возможность уловить внимание Антона. В этом-же году он уделил мне только одну минуту. Только я его за эти два года и видел! Ну, да ладно. А вот что: скажи ты мне на милость, куда за один только этот год прожиты: 25 тыс. от Маркса, 5 тыс. от Коншина, 3 тыс. от „Чайки“ и от „Дяди Вани“. Ведь если дом и имение стоят 25 тыс., то и тогда (по моим вычислениям) восьми тысяч некуда девать. И думаешь: ну, что если бы мне такую уйму денег!»
Еще в 1889 году Чехов писал Суворину: «Миша кончил курс4. Его тянет к серенькой обывательской жизни, и хочется ему жениться во что бы то ни стало, хотя бы на разбитой сковороде, да только бы поскорей».
Женился Миша Чехов не на «сковороде», а на хорошей, трудолюбивой девушке и стал прекрасным мужем и отцом. Дочку с сыном обожал и восторженно описывал свое родительское «медовое счастье» бездетной и незамужней сестре. «Постепенно обращается в гоголевского Мижуева», – смеялся Антон в письме Александру.
Переписка Михаила с Антоном, никогда не отличавшаяся оживленностью, к началу 1900-х практически сошла на нет. М. П. Чехов вспоминал: «По странной игре судьбы я за это время не получал писем ни от него, ни от домашних. Как вдруг в конце мая 1901 года я неожиданно узнал из газет, что он женился. В первое время я даже не знал, кто была его невеста. И с этой поры я уже совсем потерял брата Антона из виду и больше не видел его никогда».
Жизнь Михаила, жившего уже в Петербурге, описал Антону Александр, побывавший у него в гостях: «По утрам стряпает вместе с супругою обед, съедает его в 2 часа, в 3 едет на Невский в контрагентство, по праздникам сидит дома и смакует. Получает жалование хорошее, по-видимому, откладывает кое-что в кубышку, и на горизонте в качестве путеводной звезды видит не суворинское, а собственное контрагентство. За два года я у него два раза обедал, допущенный к столу в роли бедного родственника».
Читая эти строки, невольно вспоминаешь чеховское: «Опиши ты обед, как ели, что ели, какая кухарка, как пошл твой герой, довольный своим ленивым счастьем, как пошла твоя героиня, как она смешна в своей любви к этому подвязанному салфеткой, сытому, объевшемуся гусю».
Весной 1902 года на гастроли в Петербург приехал Московский художественный театр. На спектакле «В мечтах» по пьесе Немировича-Данченко и с женой Чехова в главной роли побывал по заданию Суворина («меня так упрашивал старик!») Михаил Павлович.
Книппер отписала мужу в Ялту: «Сегодня читала в „Новом времени“ статейку твоего брата о „Мечтах“. Ты бы Мише написал, чтоб он не помещал рецензий о нашем театре, а особливо обо мне, ведь нехорошо, право. Ты согласен?». Чехов отрезал: «Мише я не стану писать. Он любит Суворина, и если Суворин похвалил его, то это для него важнее всего».
Михаил же спустя десятилетия описал жене эту историю так: «Московский Художественный театр должен был первый раз приехать в Питер. Тогда он еще не ставил Антошиного слезотечения5. Для меня это было сугубо интересно, потому что мы еще не были знакомы с нашей новой невесткой, а она должна была выступить в первом же спектакле. Разочарованию моему не было границ. Книппер кривлялась ужасно. В своем чешуйчатом платье она была похожа на змею, насильно картавила букву „р“ и показалась совсем несерьезной артисткой. Я написал по-совести и от души, и что потом было, ты сама знаешь. От Маши письмо, от матери письмо, Леонардовна надулась, и с той поры, вот уже 30 лет дипломатические отношения не вытанцовывались. Так Антон и умер с охлаждением ко мне».
Приезжал Художественный театр в Питер и весной 1904 года. Тогда Антон Павлович написал жене: «Если Миша пожалует в театр на мою пьесу, то принеси ему чувствительнейшую и почтительнейшую благодарность за оказанную мне честь. Только едва ли он снизойдёт». Миша не снизошел. Впрочем, как и Александр. «Твои братья не показываются», – ответила мужу Ольга Книппер.
В 1919 году М. П. Чехов оказался в Таганроге, и, похоже, там и окончил бы свои дни, если бы не усиливающееся сияние вокруг имени Антона Чехова и все возрастающий к нему интерес. Под этот прожектор славы брата попал и М. П. Чехов: его привлекли к организации в Москве чеховского музея. Несмотря на то, что Михаил Павлович мало что помнил и реконструировал биографию писателя в основном по его письмам и рассказам сестры, он как-то сразу заважничал: «Именно я, и только я один, смог (и должен был бы) писать монографии и примечания об Антоне». К другим исследователям творчества брата М. П. Чехов относился болезненно-раздраженно, не стесняясь в выражениях в их адрес (заглазно, разумеется):
«Прислали из Ростова-на-Дону Чеховский сборник. … Помещена в нем статья дурака Андреева-Туркина, нечто необыкновенно дикое и бездарное, полное лжи и нелепостей. Теперь я ему не буду подавать руки. Бездарные люди! Бедная бумага! Все выдержит! О, под-д-д-лые!!!!» (из письма сестре).
«Прислал Балухатый письмо. Просит у меня разрешения напечатать мои стихотворения со своим профессорским сопроводительным текстом. Трудно, конечно, отказать и придется согласиться, но гонорар, разумеется получит он. Бездарные паразиты! Точно жуки-могильники, чувствующие себя дома только на трупе» (из дневника).
К концу жизни М. П. Чехов все больше превращался в резонера и очень любил писать жене многостраничные письма с пространными рассуждениями. Особенно его занимала тема гениев. Ни Тургенева, ни Толстого он не признавал: «Вы преклоняетесь перед ослом Толстым – я докажу вам, что он действительно осел! Целые два тома о том, как Анна путалась с Вронским, а Кити толстела и плодила ребят. А ваш Тургенев! Сопляк, который бряцал на своей лире перед такой-же сопливой интеллигенцией. И, Господи ты боже мой, какие это несерьезные писатели!» Критерием гениальности Михаил Павлович считал возраст: «Статистика лучше всяких критиков, вроде Михайловского, указывает вам, кто именно гений и кто нет. Уже одно то, что мне сейчас 67 лет, доказывает, что я – не гений. А то, что Антон умер так рано, говорит в его пользу. Если он и не гений, то во всяком случае значительная мировая величина».
Мучила М. П. Чехова еще одна заноза: «Скрябину М. К. Морозова, купчиха, назначила ежегодную пенсию в 3000 р., Левитан получал такую-же субсидию от С. Т. Морозова, П. И. Чайковский – от богача Фон Мекка. Они же их командировали и заграницу, – и им нисколько не было стыдно получать эти деньги от богачей и жить на их счет, — возмущался он и резюмировал, – а что было бы, если бы я тогда съездил за границу! Быть может из меня вышел бы тогда большой писатель. Э, да что говорить!».
Но каковы гримасы судьбы! Именно Михаил Павлович, менее всех из братьев соответствующий духовности Антона Павловича («чужды друг другу, как колокольный звон кусочку мыла» – Чехов), стал «узаконенным» биографом писателя.
О мифотворчестве М. П. Чехова писалось неоднократно, но его главным мифом стало утверждение: «Я – его младший брат, проживший с ним почти всю его жизнь и никогда не терявший с ним связи, и на моих глазах развилась вся его литературная деятельность». Здесь все неправда, кроме, разве что – «я – его младший брат».
4
М. П. Чехов окончил юридический факультет Московского Императорского университета.
5
М. П. Чехов ошибался: МХТ уже приезжал в Питер в 1901 году и привозил две пьесы Чехова: «Дядя Ваня» и «Три сестры».