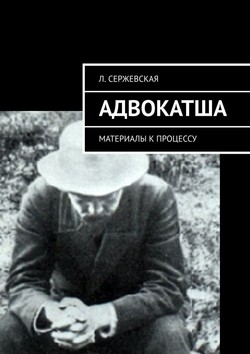Читать книгу АДВОКАТША. Материалы к процессу - Л. Сержевская - Страница 6
Часть I. Дом на 1-Й Мещанской
Обреченная жизнь Николая Чехова
ОглавлениеХудожник Егор Егорович Груздев был истинным художником: он был космат и носил шляпу а ля Вандик. Он начинал массу картин и не оканчивал ни одной; шестой год искал сюжета для десятиаршинного произведения «на медаль» и все свои этюды вешал на стену боком или вверх ногами, чтобы «не приедались»..
Ал. Чехов «День творчества»
Николай Чехов, самый некрасивый из братьев, заметно косящий, был невероятно обаятелен, легок в общении и при этом отличался глубокой религиозностью и необычайной талантливостью. Его отец старался всем своим детям дать музыкальное образование, но только Коля научился виртуозно владеть фортепьяно и скрипкой, поражая своей игрой даже профессионалов. Не менее блестящи были его успехи и в рисовании, так что в семье подумывали об учебе сына в петербургской Академии художеств.
Но так сложилось, что летом 1875 года в Таганрог на каникулы приехал Колин гимназический приятель Федор Гаузенбаум, студент московского Училища живописи, ваяния и зодчества, и рассказал, что там за учебу платят всего 15 рублей (таганрогская гимназия обходилась в 40 руб.). В Академии, правда, обучали вовсе бесплатно, но в московское училище живописи еще собирался и одноклассник Коли, Сергей Гущин, а главное, в Москву ехал учиться старший брат Александр. Вот с ними за компанию и решили отправить семнадцатилетнего Колю.
Он послал инспектору училища К. А. Трутовскому запрос об условиях приема и стал ждать ответа. Но так оного и не дождавшись, они с братом Сашей утром восьмого августа 1875 года сели в поезд Таганрог-Москва и «с Божьей помощью и родительского благословения укатили». А через три дня родители получили от Трутовского письмо, в котором прочли убийственную новость «об увеличении годичной платы за посещение в Училище с 15 р. на 30 р.».
Это была катастрофа: ведь и пятнадцать-то рублей наскребли еле-еле. Получи Чеховы известие о двойной плате за учебу чуть раньше, возможно, Александр уехал бы в Москву один, а Николай учился бы в Петербурге, и вся история их семьи стала бы другой. Но случилось то, что случилось: чрезвычайно болезненного, психологически зависимого подростка, все ещё мочившегося по ночам в постель, недопустимо рано «отрезали от пуповины» и отдали на откуп брату Александру, цинику и богохульнику.
В Таганроге набожный Коля был духовно защищен с одной стороны строгостью отца, с другой – особой заботой матери. В Москве Саша сразу начал с издёвки над религиозностью брата и писал родным: «В дороге он все время крестился. Даже надоел. Мы с ним за это ссоримся. Он окончательно осовел и только все крестится да прикладывает икону ко лбу, уж я думаю, шишку набил».
Несмотря на наставления отца: «Не запрещай Коле молиться, а то ты своею насмешкою отобьешь его от усердия – он хорошо делает. Горе тому, от кого соблазн приходит», Александр выполнил свою черную миссию и выбил из-под ног брата нравственную основу. И он же, сам большой охотник до выпивки, приучил к пивным и Николая.
Когда Александр познакомился с братьями Третьяковыми, то привел в их дом на 1-й Мещанской и своего полуголодного брата-художника. Перед душевной открытостью и брызжущим талантом Николая не устоял никто из обитателей усадьбы. Особенную симпатию и сочувствие к нему проявил Василий Павлович Малышев: «Этот знаменитый господин так Колю любит, без него никуда не поедет, по три целковых тратит, платит в клубе за ужин для Коли», — рассказывала Евгения Яковлевна Антону.
А когда из-за финансовых неурядиц Чеховы опять стали подумывать о «бесплатном» Петербурге, Малышев обратился к «своим людям»: С. М. Третьякову и К. Т. Солдатёнкову, входившим в Совет училища. И с осени 1877 года Солдатёнков взял Н. Чехова под свою финансовую опеку, это называлось – «зачислить на свое имя».
В то время Николай был увлечен учебой, усиленно занимался и мечтал о золотой медали. Павел Егорович, уже живущий в Москве, не мог нарадоваться и писал Антону в Таганрог: «Мы желаем, чтобы ты имел такой характер, какой носит в себе брат твой Коля! Мы очень им довольны и всегда видя его, утешаемся. Он находчив в словах, говорит и рассуждает дельно, поведением своим он приобрел себе хороших товарищей, и все его любят дома и в обществе. Так Бог ему дал за его прежде бывшее терпение и разные насмешки с малолетства».
Неизвестно, как бы сложилась дальнейшая судьба Николая Чехова, если бы в связи с внезапной и одновременной смертью бабушки и тети Ивана и Леонида Третьяковых на них не свалились огромные деньги, повлекшие за собой безудержные пьяные гулянки.
Для Коля это были счастливые мгновения: алкоголь дарил состояние безмятежности, эйфории, веры в свою гениальность. Правда, утром надо было взять в руки кисть и свою гениальность доказывать. И тут накрывала депрессия. Это состояние брата – переход от подавленности к новой эйфории с помощью похмельного алкоголя ярко описал Александр Чехов в рассказе «День творчества»11.
Результат кутежей не замедлил сказаться.
«Николай начинает новые картины и не оканчивает. Он, между прочим, написал головку – прелесть как хорошо. Я по получасу стою перед нею и смотрю на ее единственный глаз (другой не написан)», – горько иронизировал Александр в письме к Антону.
А Павел Егорович уже обреченно сетовал: «Коля и Ваня по своему малодушию споткнулись или сбились с дороги. Коля думает теперь многое, хочет экзамен в Гимназию держать, чтоб поступить в Университет, но ничего подобного не будет».
Однако пока Николай держался, готовился к передвижной выставке и писал портрет Ивана Третьякова:
«У меня надежд гибель. Новый год уже подарил мне сюрприз: выставка публичная картин, в коей стоит в раме картина моего сочинения. Публики гибель. Что-то скажут обо мне. Моя картина очень понравилась профессорам и генерал-губернатору. Жаль, что я не окончил портрет Третьякова, рука не готова. Портрет в натуральный рост, сидит за роялем. На экзамене я получил самый первый номер. Медали, скоты, не дали, говоря, что я мало сижу в классе, посидите мол еще до Пасхи. Ну, Бог с ними, лишь бы успеть написать на медаль, а она не уйдет», – писал он Антону.
Родители и радовались, и тревожились.
«У Коли купил картину „Вдовушку“ г-н Кувшинов за 100 руб. на выставке. Это первый его труд интересный и для нас приятен, много он доставал бы, если побольше было прилежания. В Москве чрезвычайные развлечения, так что некогда и заниматься, а ученье тормозится», – докладывал Антону Павел Егорович в феврале 1879 года. Ему вторила и Евгения Яковлевна:
«У Коли много заказу, мог бы много заработать, да некогда, почти каждый день в гостях. За всю зиму едва одну картину написал Малышеву, инспектору окружному. Слава Богу, наш Коля уже и в Москве известный, называют – знаменитый художник».
Но медали Н. Чехов не получил. А она была нужна, ох, как нужна. Дело в том, что Николаю уже исполнился 21 год, и в 1881 году он подлежал воинскому призыву. Медаль же давала отсрочку до 25 лет.
В декабре 1879 года открылась вторая ученическая выставка. Николай представил две картины и обе они получили от рецензентов уничижительную оценку:
«Две картины одного и того же ученика, – та про которую мы уже говорили [„Визит старичка“], и другая большая картина „На кругу в Сокольниках“, составляют единственные произведения, которые неприятно действуют на зрителя своею внутреннею фальшью».
В частности про первую картину писалось:
«Ученик не нарисовал совсем руку у одной из своих барышень, не нарисовал ручку у кресла в котором она сидит, и только подмалевал лицо другой барышни. В таком виде картина его ни в каком случае и ни под каким предлогом не должна была попадать на Выставку. Неужели нельзя было окончить картину прежде чем представлять ее на суд публике? Мы обратились к одному из распорядителей. Он не без удивления посмотрел на недостающие руку и ручку.
– Да, да, – сказал распорядитель, – это он не окончил.
– Зачем же вы допускали неоконченную картину на выставку?
– Он докончит ее потом. Деньги нужны были. Смотрите: вот ведь она уж продана. Игривенький сюжетец».
О другой картине не менее жестко:
«Пестро и безвкусно собрал он на довольно большом полотне галерею мужских и женских фигур, по большей части неприятно написанных, еще более неприятно подчеркнутых».
Это был, конечно, провал. Но ни Малышев, ни Солдатёнков не могли оставить своего протеже. «Гуляние…» купил Козьма Терентьевич, «Визит…» – похоже, Василий Павлович или его племянники Третьяковы, а вот этюд Левитана «Осенний день в Сокольниках», как известно, Павел Третьяков, и не исключено, что именно из-за участия в этой работе Николая Чехова.
Медаль, малая серебряная, была-таки получена «за представленный им этюд масляными красками» [«Сокольнический круг»].
В 1880 году Антон и Александр, начавшие активно печататься в журналах, привлекли в качестве иллюстратора и брата Николая. Теперь Училище отошло на второй план, и за непосещение занятий Н. Чехов был отчислен. Но, не особенно огорчаясь, он азартно принялся за новую деятельность, и, надо сказать, был нарасхват. Но эта работа тоже требовала времени и труда. А труд – это не про Николая: леность, праздность, то пьянки, то похмелье.
Безответственность, необязательность Николая огорчала и тревожила близких. Тетка Федосья ругалась и звала его «балалайкой», да и Антон подтверждал: «Год собирается он написать Лентовскому, который ищет его. Ему предложил „Русский театр“ иллюстрировать Достоевского. Он дал слово и не сдержит своего слова. Балалаечней нашего братца трудно найти кого другого».
А тут еще появилась «кувалда» или по-другому – «бергамот»: так зло прозвали братья новую любовницу Николая – Анну Александровну Ипатьеву. С. М. Чехов12 утверждал, что в последние месяцы жизни живя с «кувалдой», «ему, уже тяжело больному, приходилось лежать в накуренной комнате, в которой она со своими гостями с утра до ночи играла в стуколку и уговаривала: „пей, Коля,“ даже тогда, когда он не хотел». Чехов ее ненавидел и, не сдерживаясь, писал редактору «Осколков» Н. А. Лейкину:
«Дело не в выпивательстве. Половой инстинкт мешает работать больше, чем водка. Пойдет слабый человек к бабе, завалится в ее перину и лежит с ней, пока рези в пахах не начнутся. Николаева баба – это жирный кусок мяса, любящий выпить и закусить. Перед coitus всегда пьет и ест, и любовнику трудно удержаться, чтобы самому не выпить и не закусить».
Однако приближался срок призыва, и воинское присутствие вновь требовало либо подтверждения обучения, либо личной явки Николая. Нужно было что-то предпринять. Опять подключился Малышев. Н. Чехова восстановили в Училище с правом еще некоторой отсрочки. Но это ничего не изменило: Николай занятиями манкировал.
В это время он, как высказался Александр Чехов: «убивал себя в карикатуре». Тем не менее этот жанр приносил доход и питал богемную жизнь Николая. Но умение одновременно и пить и творить дано не каждому, и уж явно – не Николаю. Подшафешный художник обожал пустые разговоры о творчестве, предавался мечтам о славе, а с похмелья не мог взять в руки карандаш.
Редактор Н. А. Лейкин вопрошал: «Скажите, пожалуйста, что Николай Павлович? Неужели все еще в положении птицы небесной, которая не сеет, не жнет, а Господь небесный питает ее? Нельзя ли его заставить поработать».
Антон отвечал: «На мой вопрос, желает ли он работать в „Осколках“, он ответил: „Конечно! Я завтра же пошлю туда рисунок!“ Стало быть, ждите завтра, с чем Вас и поздравляю. Если это завтра протянется 2—4 недели, то придется радоваться, что оно не протянулось 2—4 месяца».
Набранные заказы копились, а полученные авансом деньги пропивались. Клиенты требовали объяснений, Николай же от них скрывался. Обстановка накалялась.
В отличие от сдержанного Лейкина, Франц Шехтель в письмах Чехову не скрывал эмоций:
«Рву на себе волосы и зубы с отчаяния: Николай сгинул и замел за собою всякий след. Что делать? Помогите Вы со своей стороны тоже, внушите ему, что взяв на себя какие-либо обязательства, он должен же когда-нибудь привести их в исполнение, тем более, что со стороны Лентовского сделано все зависящее от него (в смысле авансов и т. д.). После безвестной трехдневной пропажи, наконец, третьего дня он появляется ровно на полчаса и для чего же: чтобы рассказать небывальщину о том, как с ним сделался обморок, в котором он пролежал ровно три дня; берет у Лентовского еще 100 руб (4-я сотня) и моментально пропадает; и опять до настоящей минуты ни слуху ни духу».
Но мало того, что Николай, как писал Шехтель «не обмакнул даже в краске кисть», и все числящиеся за ним работы окончил художник Турлыгин с помощниками, – «так все они остались при пиковом интересе. Несчастный Турлыгин получил с Николая всего 50 р. Нечистоплотно».
В другом письме тот же Шехтель добавлял: «Мне в высшей степени больно, что его считают чуть ли не за подлеца; я со своей стороны, конечно, объясняю это неумением владеть собою и феноменальною распущенностью, хотя, по-моему, где дело касается денег, нужно бы было быть более щепетильным, а не то в конце концов отшатнутся от него его последние друзья».
Из училища Н. П. Чехов вновь был отчислен, а воинское присутствие вновь настойчиво требовало от него явки к призыву или свидетельства об учебе. В сентябре 1887 года «вечный студент» попробовал было опять восстановиться, но на этот раз последовало жесткое – «отказать». Больше цеплялся было не за что.
Продолжились запои, усугубляющие физическое истощение Николая, кровохарканья учащались, усиливалась и психологическая зависимость от алкоголя. Близкие рассчитывали на В. П. Малышева. Василий Павлович и был бы рад помочь своему любимцу, но он мог предложить только место учителя рисования, а эта работа была явно не для «свободного» художника. Поэтому Николай тянул с визитом к инспектору. Еще в октябре 1886 года он уверял Антона: «Завтра буду у Малышева», но уже наступил февраль 1887 года, а он все «собирается к Малышеву», – сетовал Антон.
Переживал и Александр: «Кстати о Николае. Он мне пишет, что намерен твердо и во что бы то ни стало держать нынче осенью экзамен у Малышева. Если это вспышка, хотя бы и минутная, то не дай ей погаснуть, если только это от тебя зависит».
О надеждах на помощь В. П. Малышева писал Антон и Суворину: «Один инспектор народных училищ, человек сильный, обещает в конце ноября взять с собою живописца в Дмитров и, подвергнув его учительскому экзамену, выдать ему вид, который одновременно даст ему легальное положение и освободит его от военщины. Но до конца ноября может произойти еще многое. Одним словом, скверно». Слова оказались пророческими: «произошло многое».
Осенью 1888 года верный друг Шехтель опять включил Н. Чехова в свою работу по оформлению церкви: тот должен был подготовить эскизы для иконостаса. Николай, как всегда, за дело взялся с энтузиазмом: забрал доски, аванс и… исчез.
Шехтель в панике атаковал Антона:
«Выручите меня бога ради! Отдайте, по крайней мере, посыльному доски; пока еще есть время, я отдам их писать. Он положительно страдает какою-нибудь манией, если не считать это за манию – то ведь придется не подавать ему руки. Я хотел в последний раз попробовать дать дело Николаю – он же продолжает платить мне всё одною и тою же монетою».
«Простите мне, дорогой Антон Павлович, мои надоедания, я готов ему дать отступного, лишь бы он возвратил доски. Я десятый раз лезу на рожон, зная отлично, что с Николаем можно только есть салами, но отнюдь не делать дело. Николая же, и жалеть-то нельзя и ни к чему – он чувствует себя совсем счастливым. Ему писать я не могу – я бы разорвал пером всю бумагу».
Но что мог ответить Чехов, только одно: «Милый Франц Осипович! Мне больно и стыдно».
Двадцать восьмого марта 1889 года Антон получил от Николая телеграмму: «Приезжай ради Бога. Умираю. Бок болит». Антон забрал брата к себе, а Александру написал: «Наш Косой около 25 марта заболел брюшным тифом, формою легкою, но осложнившеюся легочным процессом. Перевез Косого к себе и лечу. Сегодня был консилиум, решивший так: болезнь серьезная, но определенного предсказания ставить нельзя. Все от Бога. Надо бы в Крым».
Двадцать третьего апреля семья Чеховых выехала в Сумы, навсегда увозя Николая из Москвы. Уже в начале мая было понятно, что «у него болезнь, не поддающаяся излечению. Вопрос должен ставиться так: как долго будет продолжаться процесс? Но не так: когда выздоровеет?»
18 июня Шехтель получил от Чехова скорбное известие: «Вчера, 17-го июня, умер от чахотки Николай. Лежит теперь в гробу с прекраснейшим выражением лица. Царство ему небесное».
11
См. Александр Чехов. От Агафопода Единицына до А. Седого. Избранные рассказы и пьеса. М., Ridero, 2020.
12
Сын Михаила Павловича Чехова, также занимавшийся биографией А. П. Чехова