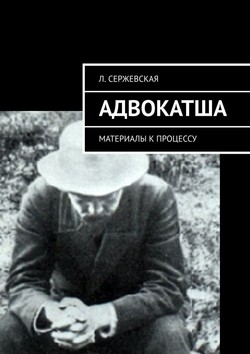Читать книгу АДВОКАТША. Материалы к процессу - Л. Сержевская - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть I. Дом на 1-Й Мещанской
«Ректор воскресенского университета»
Оглавление– Антон Павлович, не так девушки уходят в революцию.
– Туда разные бывают пути.
(Из диалога Вересаева с Чеховым о рассказе «Невеста»)
Разные пути бывают не только в революцию, но и в педагогику, однако такого маршрута история учительства, пожалуй, еще знала.
Весной 1875 года ученик таганрогской гимназии Ваня Чехов, четырнадцати лет от роду, не сдал переводных экзаменов и в очередной раз остался в третьем классе на второй год.
С Иваном была просто беда: с детства отличаясь капризным и вздорным характером, он изрядно трепал нервы своей семье. Павел Егорович жаловался сыновьям-студентам в Москву: «Ваш братец Ваня кажный день упрямится, не слушает Мамашу, так что она чрез него постоянно больна. При мне он Ангел самый тихий, но в семействе со всеми не ладит и спорит до крайности. Мамаша много от него терпит». В ужасе от брата был и приехавший на каникулы в Таганрог Николай: «Ваня – отродие такое, что нет никому покоя».
В 1876 году Иван закончил третий класс, перешел в четвертый, но осилить его уже не смог.
Когда Павлу Егоровичу пришлось уехать в Москву, а за ним – и Евгении Яковлевне с младшими детьми, в Таганроге остались Антон и Иван. На Пасху, это был март 1877 года, Антон съездил в Москву и вернулся с твердым намерением отправить Ваню доучиваться в столицу. Дело в том, что в Москве Антон познакомился с приятелем брата Николая, Константином Макаровым, окончившим в своё время Учительскую семинарию. Он-то и порекомендовал определить туда Ивана: обучение, обмундирование и проживание – все за казенный счет.
В Москву семнадцатилетний Иван с тремя классами образования приехал 20 июня, но уже через месяц Павел Егорович горько признавал: «Иван приехал – ошибка: при всех стараниях и хлопотах наших, он остался без ученья, ни в какое учебное заведение не приняли его. Горе наше с ним жить. Куда теперь его денешь, экзамен не захотел держать в Классическую [гимназию], а срок пропустил 3 месяца, в Реальную [училище] – немецкого не знает, в Архитектуры [училище живописи и зодчества] тоже не попал. Что из этого выйдет и сами не знаем, но ему без ученья плохо будет».
Упорство Павла Егоровича в стремлении любой ценой дать детям образование вызывает искреннее уважение. Несмотря на финансовые трудности, отказывая себе в благополучии, он настаивал – «Учитесь, это ваше счастье». Но этой философии совсем не разделял сын Ваня. Да и до учебы ли было ему, провинциалу, в этой полной веселых соблазнов и искушений Москве. Бесконечные домашние скандалы его не трогали. Даже «вольнодумец» Александр возмущался:
«Иван просто свирепствует. Вчера чуть не поколотил мать, а при отце оказался таким ангелом, что я до сих пор не могу прийти в себя от изумления. Да и ехидна же он, братец ты мой! Всюду норовит быть первым, съесть кусок получше и побольше, занять место повиднее. С матерью вечно воюет. На днях он возмутил меня до глубины души. Мать заметила ему, что он ничего не добывает, а потому и обязан помогать по хозяйству. Что же он ответил, как ты полагаешь? Он ответил, что он работать не обязан, и что его обязаны кормить, холить и лелеять, потому что его выписали из Таганрога в Москву!!! Ну, не холуй ли?!», – писал он Антону.
Жаловались Антону и сама Евгения Яковлевна: «Ваня грубит так, чего я не ожидала»; и Миша: «У нас Ваня деспотует»; и Николай добавлял черной краски: «С Иваном беда! Не пройдет мимо, чтобы не дать подзатыльника Маше или Мише».
Попробовали было устроить Ваню переписчиком6, как писала Евгения Яковлевна: «По полтора целковых за лист. Если не поленится, то заработает 15 руб.». Но переписка, видимо, Ивана не вдохновила. Он продолжал развлекаться и, поздравляя Антона с 1879 годом, захлебывался от восторга: «Я только что пришел от Поливаевых, встречал новый год. Теперь 5-й час. Вчера был ряженым у знакомых Волковых. 2 января еду в клуб благородного собрания. Завтра 1-го января иду делать визиты, первый – Соловьеву7». До учебы ли тут!
Однако всякому терпению приходит конец. Сдали нервы и у отца семейства: он указал сыну на дверь. Сам Павел Егорович служил у купца Гаврилова, там же при конторе и жил, Ивана видел редко, а посему написал ему письмо:
«Ваня! Ты сделался в последнее время никуда негодным, ленивым и непослушным. Сколько раз я тебе говорил, убеждал, советовал, но мои убеждения остались тщетными, ты только стоял, слушал да моргал. Живешь беспечно в квартире Мамаши, со всеми споришь, кричишь, приходишь в полночь, спишь смертельным сном до 12 часов, потом встаешь, начинаешь требовать то и другое. Ты образумься, тебе уже 19 год, а все как младенец бессмысленный, ничего не знающий. Ты нас безжалостно обманывал здесь в Москве, три года мучил нас обещанием, что ты поступишь в Учебное Заведение, найдешь себе место, будешь хоть маленькое жалованье получать, но ничего подобного не вышло. У тебя есть ум, силы и способность. Постарайся найти в Москве себе дело на фабрике или в магазине. Завтра же иди и без того не приходи, чтобы никуда не поступить. Я не хочу тебя видеть праздномотающимся, потому что праздность есть большой порок. Выгони из себя леность, вставай утром пораньше, приступай к делу посмелей, докажи перед всеми, что и ты можешь дело делать. В доме больше ты не нужен».
Письмо произвело сильное впечатление, и реакция была мгновенной. Не на шутку перепуганный Иван, не желающий идти ни на фабрику, ни в магазин, бросился к братьям. Его защитником выступил Николай и на другой же день ответил Павлу Егоровичу также в письменной форме, и, как бы сейчас сказали – лихо «развёл» отца:
«Милый папа! Вы его посылаете на фабрику. Я уверен, что Вы, как всякий любящий детей отец, желаете сыну блага. Какое же будет благо, если прослужив на фабрике два года, его завербуют на шесть лет в солдаты. Теперь-то ему стыдно, он покаялся мне и Саше во всем и хлопочет о держании экзамена в военных гимназиях. Наша обязанность с Вами одна – поддерживать его. Если человек упал и запачкался грязью, то зачем же втаптывать его дальше в грязь, это не по-христиански. А потому не уроним человека, а наоборот – поднимем его, это последнее и есть христианская добродетель. Бог даст, Иван, направленный на цель, поступит».
Николай знал, как воздействовать на своего набожного отца и Павел Егорович внял и поверил сей проповеди. А напрасно, ничего не изменилось. Да и какая учеба – уже давно забылось и то, что зналось. Евгения Яковлевна отчаянно умоляла Антона: «Приезжай скорей, може, Ваня при тебе будет стараться. Мне с ним великая скорбь. Третье лето в Москве и не спешит никуда готовиться. Вот сегодня ушел рано утром, должно быть рыбу ловить, вчера прошлялся где-то. Скоро экзамены, а он не заботится. Еще прошения не подавал, а еще надо бы в мае подать».
Антон приехал в Москву 8 августа 1879 года. А через четыре месяца произошло невероятное. Нет, учиться Ваня не начал, он сам стал учителем!
18 декабря того же года восемнадцатилетний бездельник и бывший второгодник держал в руках документ:
«Иван Павлович Чехов назначен к исполнению должности учителя Воскресенского училища. Инспектор народных училищ Московской губернии Василий Малышев».
Как остроумно заметил чеховед Рейфилд: «Оболтус стал приходским учителем».
А семейный биограф М. П. Чехов сочинил очередной миф о пай-мальчике Ване и распутных братьях Третьяковых, с «которыми «покучивал наш Александр». «Он познакомил с ними и нашего скромного брата Ивана, который держался в сторонке и вел себя так солидно, что резко выделялся на фоне этой развеселой жизни. Это обратило на себя внимание В. П. Малышева. Ваня понравился ему».
На самом деле всё обстояло несколько иначе. Действительно, это Малышев вновь выручил Чеховых, но не потому, что «Ваня понравился ему», скорее наоборот. Тут были иные причины.
После смерти в марте 1878 года бабушки и тети братьев Третьяковых в их усадьбу переехал Александр, там же постоянно крутился и Николай, за ними подтянулся Ваня, а затем в доме появился и приехавший из Таганрога Антон со своими друзьями. Это было какое-то нашествие Чеховых. «Кутежи» с канканами процветали и не лучшим образом влияли на учебу студентов Третьяковых и их братьев Озеровых, тоже студентов. Так что исключить из этой компании хотя бы праздношатающегося Ивана было в интересах и самого Малышева.
В подчинении Василия Павловича были как городские так и приходские училища. Но Ваня со своим образованием на городское никак не тянул, так что ограничились приходским, где требования к учителям были минимальными. Однако училище училищу – рознь. Для Чеховых Малышев выбрал «благоприятный» Воскресенск. Как вспоминал М. П. Чехов: «место подбиралось специально». Уважили и религиозных родителей – рядом находился Ново-Иерусалимский монастырь. Семья не могла оправиться от неожиданного благодеяния.
«Это начало собирания плодов из вашего долго ожидаемого посева», – писал из Таганрога Митрофан Егорович. Счастливый Павел Егорович отвечал брату: «Очень Вам благодарны за поздравление нас с учителем, мы очень рады, что Господь так устроил. Слава Богу! Сверх ожидания! Мы радуемся».
А радоваться было чему, и в первую очередь серьёзному улучшению достатка семьи8. Помимо неплохого и постоянного заработка Иван, теперь, конечно, – уважаемый Иван Павлович, или как называл его редактор «Будильника» Н. Кичеев: ректор воскресенского университета – получил просторную казенную квартиру, ставшую для всей семьи летней загородной резиденцией.
Но через три года новоиспеченного «ректора» с позором изгнали с должности.
Воскресенское приходское училище располагалось рядом с городской церковью Вознесения, священником которой был о. Холмогоров, известный своим религиозным подвижничеством. В училище, куда прибыл Иван, С. И. Холмогоров преподавал с 1875 года. И если перед Иваном Павловичем стояла задача учить детей азам письма, счета и чтения, то на законоучителе лежало религиозно-нравственное воспитание, где Закон Божий был первым и главным предметом. Попечительницей училища была Анна Сергеевна Цурикова, женщина глубоко набожная и ревностно относящаяся к учебно-воспитательному делу в своем учебном заведении.
Приезды многочисленного семейства Чеховых на все лето, возможно, несколько озадачивали о. Холмогорова с госпожой Цуриковой, но религиозный и строгий Павел Егорович, добрейшая и трудолюбивая Евгения Яковлевна располагали к себе, да и новый учитель поначалу старался соответствовать положенному статусу. Первый учебный год прошел благополучно. «Малышев хвалит Ивана» – радовал семью Александр.
Но последующие эпистолярные свидетельства и воспоминания о воскресенском периоде жизни Чеховых рисуют картину такого бесконечного дачного веселья, пикников, катаний, крокетов и прочего, что совсем забывается первопричина появления этой семьи в городке. А ведь их казенная квартира находилась бок о бок с храмом. В церкви служба, а здесь – дым коромыслом и насмешливый атеизм. И все это на глазах прихожан. Разумеется, у священника храма и попечительницы подобные вольности не могли не вызывать осуждения и тревоги за нравственность учеников. А уж о страхе Божьем и говорить не приходилось.
В небольшом Воскресенске Чеховы невольно обращали на себя внимание, особенно выделялся Антон: «Высокий, в черной крылатке и широкополой черной шляпе, он принимал участие в каждой прогулке, а гуляли большими компаниями и вели либеральные беседы на злобы дня». А уж рассказы о посиделках с пародиями на дьячка и архиерея у врача местной больницы будоражили весь Воскресенск. «Часто, после многотрудного дня, вся эта молодежь собиралась у одинокого Архангельского, и создавались вечеринки, на которых говорили о Щедрине, Тургеневым зачитывались взапой, со смаком декламировали Некрасова. Эти вечеринки были для меня школой, где я получил политическое и общественное воспитание», – вспоминал М. П. Чехов. Не мудрено, что подобное «политическое воспитание» отразилось вскоре и на карьере И. П. Чехова.
Начался последний для Ивана 1882/1883 учебный год в качестве учителя. В атмосфере уже чувствовалась напряженность. Вдобавок в эту зиму в Воскресенск приезжал со своей многодетной невестой Александр Чехов, человек крепко пьющий, курящий и щедро снабжающий речь непристойностями. Впрочем, не отставали и братья. Наставления дяди Митрофана Ивану: «Учи детей, чтобы они не знали и не слышали сквернословия» – оставались без внимания.
Неподалеку от Воскресенска в деревне Максимовка жил приятель Николая по художественному училищу Исаак Левитан. Он снимал комнату у какого-то горшечника. И вот однажды июльским днем 1883 года, когда в Воскресенске не было никого из «старших» Чеховых, эта компания веселых художников во главе с учителем, накупила у бедняка множество горшков, притащила их в Воскресенск и, поразвесив во дворе школы (общего с храмом!), стала натренькивать на них церковные мелодии. Позже, стараясь как-то сгладить вину братьев, Мария Чехова, тоже, видимо, присутствовавшая на «концерте», уверяла, что Николай «вызванивал на этих горшках великолепные мелодии, чем приводил в восторг детвору, ханжой Цуриковой этот горшечный звон был расценен как кощунство над церковью и Иван Павлович был уволен». Но что греха таить: это и было кощунством. Богохульная пародия на благовест, исполненная на глиняных горшках пьяными гостями учителя, стала последней каплей терпения для законоучителя-священника и попечительницы. Так или иначе, но в августе 1883 году Ивана Чехова попросили с блатного места.
В книге «Биография семьи» А. П. Кузичева пишет, что Иван Павлович покинул Воскресенск, т. к. ему предложили место в Москве, а училищный Совет официально поблагодарил учителя и с сожалением отпустил. Это не так. Никто и ничего Ване не предлагал: он был уволен, уволен со скандалом, и почти полгода не мог найти работу. Что касается благодарности, то она действительно была, но только оформили ее задним числом (июлем 1886 года) для нового трудоустройства Ивана.
В результате сего происшествия семья лишилась бесплатной дачи, а учитель остался без должности и с долгами. «Мне прожить бы до 1-го сентября и расплатиться с лавочниками», – писал он Антону.
Надо сказать, что в Воскресенске Иван Павлович проживал на основании учительского свидетельства, зарегистрированного у пристава, для Москвы же был необходим паспорт. И тут возникли проблемы. «Получил я от бедного нашего Ивана просьбу выслать ему паспорт, но, к сожалению, мещанская управа не дает его в силу того, что Иван подлежит воинской повинности», – сочувствовал из Таганрога Александр.
Приходилось пока как-то устраиваться в Воскресенске. Иван переписывал бумаги местному судье Голохвастову и репетиторствовал. Уже шел ноябрь, но ничего не менялось. «Перебейся как-нибудь. Пустим все пружины в ход…», – успокаивал брата Антон. Но все понимали, что это была катастрофа. Найти подобное место с Ваниным образованием было невозможно. Помочь мог только один человек, тот, кого так подвел Иван – Василий Павлович Малышев. Идти к нему было стыдно, но другого выхода не было. И Малышев опять помог.
Мещанские мужские и женские училища, основанные купеческим обществом были солидным учебным заведением9. С его попечителем С. М. Третьяковым В. П. Малышев, как уже сказано выше, был на «короткой ноге». Инспектором этого училища был другой близкий приятель Малышева – И. П. Веревкин, его однокурсник по Учительскому институту и поручитель на венчании.
Еще в 1881 году В. П. Малышев устроил с их помощью в Мещанское училище приятеля Чеховых, Михаила Дюковского. Но у Дюковского было образование, учительский стаж и чин коллежского секретаря, а что у Ивана Чехова: три класса гимназии и три года службы в приходском училище? А в Мещанском купеческом требования к преподавательскому составу были высочайшими – не ниже кандидата университета.
Но как раз в это время в училище менялось штатное расписание. Упразднялась должность надзирателя и вводилась должность инспектора. Вот на этой волне, пока еще шли пертурбации, Ивана все же успели пристроить надзирателем. И тем не менее, через много лет, опять-таки задним числом, Иван Павлович получит от И. П. Веревкина удостоверение, что тот состоял в названном учреждении в должности учителя. Но, как говорится, шила в мешке не утаишь.
Так случилось, что сын инспектора Веревкина в детстве дружил с будущим писателем И. С. Шмелевым, который в воспоминаниях о А. П. Чехове, писал о его брате Иване именно как о надзирателе училища. Да и в Адрес-календарях Москвы того времени в списках преподавателей Мещанского купеческого училища фамилии И. П. Чехова, разумеется, не значится.
Однако новая служба Ивана Павловича, к сожалению, могла быть только временной. Дело в том, что Мещанское училище купеческого общества – заведение ведомственное, а посему, служа там, Иван лишался возможности получения чина и права на государственную пенсию. Нужна была государственная служба, и поиски работы продолжились. Брат Александр вообще предложил Ивану кардинальные меры: уехать из Москвы и податься в новороссийскую таможню, где служил сам. Или, советовал он: «Если в тебе есть достаточно энергии, приезжай и открой училище». Но не понадобилось ни то ни другое. Проблему решил все тот же Василий Павлович. В апреле 1886 года из городского Арбатского училища уволили некого И. Скворцова10. На освободившееся место и определил Ивана Павловича всесильный инспектор. И вот уже Антон пишет в Таганрог дяде Митрофану:
«У мамаши радость: Иван получил в Москве казенную школу, где он будет самостоятелен. Квартира у него в 5 комнат казенная. Прислуга, дрова и освещение тоже казенные. У папаши тоже радость: тот же Иван купил себе фуражку с кокардой и заказал учительский фрак со светлыми пуговицами».
Но и на этом благодеяния Малышева не закончились. Уже в феврале 1887 года он перевел Ивана в Мясницкое городское училище, которое лично инспектировал, и добился утверждении И. П. Чехова в должности с правами государственной службы.
С этого периода педагогическая деятельность Ивана Павловича довольно подробно отражена в эпистолярии семьи. Из писем видно, что теперь повзрослевший Иван Павлович относился к своим служебным обязанностям уже не так легкомысленно, как в Воскресенске; однако первое, что бросается в глаза: он терпеть не мог своей работы. «Послезавтра начинать школу, брр.; принимаюсь снова за свою каторжную работу», – писал он Антону.
Одно утешало – всегда большие казенные квартиры в тех школах и училищах, куда его устраивал Малышев, знавший «тесную» ситуацию чеховской семьи.
А в 1889 году в Дирекции народных училищ Московской губернии поменялась власть. И как это часто бывает, «новая метла» вымела всех неугодных, в том числе и покровителя Ивана Чехова, инспектора В. П. Малышева: он был переведен в Орловскую губернию.
Вновь назначенный директор начал серьёзные преобразования в отношении начальных училищ, часть из коих закрывалась, а в оставшихся расширялась программа и повышались требования к учителям. Ивану Чехову с его образованием, точнее – с его отсутствием, грозило увольнение, да и само Мясницкое училище подлежало закрытию. Однако надо отдать должное Василию Павловичу: он успел-таки до отъезда помочь своему протеже и вновь перевел его в Арбатское училище (оно не закрывалось). Но это спасло лишь на короткое время.
В июне 1890 года Евгения Яковлевна сообщала Антону на Сахалин: «Ваня остался без должности. Малышева перевели в провинцию».
А Иван делился с отцом: «В Москве все инспектора и товарищи со мною очень хороши, жалеют, что я ухожу, бранят Новицкого [новый глава Дирекции], который на самом деле, не давая мне места, наказал не Малышева, а меня. Какое дурацкое самолюбие у этого полицейского директора. В пику Малышеву он не дал мне и отпуска. Дней 5 тому назад Новицкий присылал за мной, чтобы предложить мне место в Клину, но я не пошел».
Не пошел Иван потому что получил другое предложение. Опять сработало «кумовство». Общий знакомый и Малышева, и Чеховых – Михаил Герасимович Комиссаров, владелец стекольного завода в с. Дубасово Владимирской губернии открыл при заводе двуклассное училище и искал учителя. Ему порекомендовали Ивана Чехова. «Место около Владимира взял с 1 сентября», – сообщил он Павлу Егоровичу.
Этот 1890/1891 учебный год станет переломным в становлении Ивана Павловича как учителя. Пожалуй, именно в Дубасове он сформируется в настоящего педагога.
А дороги Малышева и Ивана Чехова с этого времени расходятся, и свидетельства об их последующем общении пока неизвестны.
Служба статского советника Малышева на поприще образования закончится с его смертью в 1907 году.
Иван же продолжит учительствовать. Через год после Дубасово он вернется в Москву. Дальнейшая его служба будет вполне успешной, и в 1904 году за педагогические заслуги он получит звание Потомственного Почетного гражданина.
Но никогда и нигде Иван Чехов не вспомнит имени своего «крестного батьки» от педагогики, Василия Павловича Малышева, которому был обязан своей состоявшейся учительской судьбой.
6
М. П. Чехова вспоминала, что Иван «работал у известного беллетриста П.Д.Боборыкина, под диктовку которого записывал его произведения». А. П. Чехов отразил эту деятельность брата в рассказе «Иван Матвеич».
7
Речь, видимо, идет о драматурге и режиссере Малого театра С. П. Соловьеве, с которым братья Чеховы познакомились на литературных встречах у братьев Третьяковых..
8
Однажды на Рождество Иван привез из Воскресенска теленка, и Чехов приглашал знакомого художника: «Непременно приходите, будем, обжираться». Тот явился и позже вспоминал, как «за обильным столом много смеялись остроумным шуткам Антона Павловича над теленком, который, кстати, оказался приготовленным очень вкусно».
9
Ныне в здании Мещанского училища размещается Горный университет.
10
Любопытный факт: уволенный Скворцов через несколько лет уйдет с головой в революционное движение и станет ближайшим сподвижником В. Ульянова.