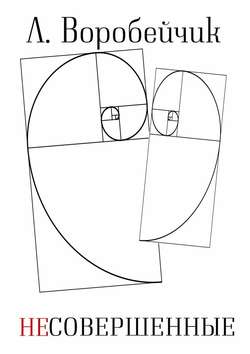Читать книгу Несовершенные - Л. Воробейчик - Страница 11
3
ОглавлениеДве недели безрезультата. Хорошее слово – «безрезультат», использовать бы где его. И ведь нигде раньше не встречалось, ни в одной книжке или статье; термин, хорошенько описывающий все вместе, целиком. Устал за неделю, домой приходишь, хочешь отдохнуть и понимаешь – вот он кругом, твой безрезультат существования. Одни выходные, другие, когда попросту лежишь и никуда выходить не хочется. И они кончаются, чтобы дать место новой неделе. И наступает новый день, незначительный и маленький – несовершенство, звонки, перерывы; но в целом – жизнь.
– Кофе. – многозначительно и как-то двусмысленно замечает Аркадий Алексеич, шумно отхлебывая.
– Безусловно, кофе, – отвечаю. – проспекты не врали.
Он отмахивается, улыбается как-то заискивающе, хотя вроде начальник. Мужик вроде бы умный и понимающий, но смешной иногда, а иногда жалкий – сухая рыба в костюме, из под очков затравленные и усталые глаза человека, посвятившего себя многолетним поискам своего восьмирукого Бога, а нашедшего зачем-то офисный струйный принтер.
– Люди врут, не проспекты. Я тебя чего это отвел, Николай, – он говорит. – я же, как-никак отчитываюсь. Ты пойми, Коля, отчеты – это моя прямая обязанность, поддержание сплоченности, духа команды. Кое-кто считает, что это для молодых, нам, старикам, это уже не нужно, союзно воспитаны, но я, знаешь, иначе думаю. Точнее – приходится думать, работа такая.
Молчу, смотрю на него выжидательно. Кофе в его руке остывает.
– Мне Борисовна говорит, – продолжает. – давай-ка, Аркадий, Николая в команду вводи. Игры на сплочение и все дела, ну а я ей, мол, ничего, сам втянется, все сами и без этого. Ну а она на своем – командный дух, мол, ячейка ради общества, цитату мне мотивирующую. Нет, баба она неплохая да понимающая, но занудная, вся в этих тенденциях. Так вот, – придвинулся он ближе, пока кофе все остывал. – она мне и говорит, либо вводи в команду, либо отчет пиши. А это, сам понимаешь…
– Что за отчет? – непринужденно спрашиваю. В голове всё не о том, не про отчеты, не про звонки. Другое в голове.
– Ну, – замялся Алексеич. – такой, в общем. НКВДшный почти, считай – донос. Там нужно написать мне, что ты от сплочения отказался и командный дух поддерживать отказался тоже.
– Так где я и где дух-то. Да и не отказывался я, вы разве спрашивали, – полувопросительно заметил я. – не могу с ними просто сойтись чего-то, да и все. Да и надо оно разве?
– Это-то понятно, Николай, это-то понятно. – заторопился он. – Но я, знаешь, на окладе. И написать, если не выйдет у нас понимания, обязан. Или ты становись ячейкой общества, или я ей перестану, понимаешь? Да, – округляет он глаза. – тут все вот так. Уволить она меня давно зачем-то хочет, не так, мол, не эдак. А мне бы не хотелось. – На мгновение замолк и грустно повторил, рассеянно как-то. – Не хотелось бы, да.
Я почесал затылок и задумчиво посмотрел на его остывающий кофе. Тоже внезапно захотелось этого пойла.
– Если короче, Аркадий Алексеич, – начал я. – от меня что требуется? Как это тут, ячейки, команды? По-русски если?
Он на мгновение задумался и начал выдавать толковое определение из словаря. Смешной… Кончив, он слегка просиял, уставившись на меня, не поняв, кажется, что ни слова я не разобрал; даже, честно говоря, не пытался…
– Еще более по-русски?
– Николай… Скажешь тоже, – в этот раз он думал дольше. – по-русски… это, в общем, общаться тебе нужно. Точно, общаться! – обрадовался он своей точной формулировке. – Ну там, курить со всеми вместе, например, а ты в одного ходишь. Как дела спрашивать, про домашние дела интересоваться, и на вопросы отвечать змеям нашим. Спрашивать как звонить нужно, а как – нет, любят они это, важничать начинают и краской заливаться.
– Так в тетрадке же все есть. – сказал я. Разговор этот определенно меня забавлял, а пойло – обжигало. Кофе я раньше не сказать чтобы любил, ну а теперь, выходило, что делал к этому первые шаги – статус, да и кофемашину рассмотреть можно; импортная, дорогая. Неприкрученная.
– Тут дело в коллективе, понимаешь, – развел он руками. – ну и в отчетах, разумеется! Система премий и штрафов, все на моих отчетах держится, все читается и изучается. Я же, как-никак…
– Аркадь Алексеич, – перебил я. – Вы меня, конечно, извините, но я человек в этой сфере новый. Да и в офисе – тоже. Трудно это, когда приходишь в сплоченный коллектив и сразу же…
– Конечно, – перебил уже он меня. Сделал шаг, в глаза смотрит. – Вас и никто. И никак. Просто – пожелание, командный дух, а то отчеты, Николай, ну пойми ты по-человечески. Необходимо.
«Необходимость, продиктованная глупостью» – подумалось мне и я с трудом подавил улыбку.
– Так что давай-ка начинай, а то две недели уже, а все жалуются, – заключил он с сияющей почему-то улыбкой.
– Кто-то жалуется?
Он почесал нос и выдал, кажется, самую потаенную из своих мыслей.
– Да змеи наши. Все. Николай… Им волю дай, не посмотрят, что мужик ты хороший вроде, умный, только и заметят, что нелюдимый. И темы что подхватываешь неохотно. Что опаздываешь немного. Ты бы это, поменял что-ли в себе что-то, ну или в отношении. – С сожалением в голосе он чуть ли не прошептал. – Борисовна, правду сказать, рвет и мечет. Бабы к ней на доклад ну прямо зачастили. А мне – сам понимаешь, трибуналами грозит да расправами. Уволю, мол, Аркадий, и не замечу.
– Понимаю. – ответил я и попытался натужно улыбнуться. – Спасибо за совет, Аркадий Алексеич. Подводить не станем…
– Ты не это, – полушепотом продолжал он, не желая, чтобы нас подслушали. Никто не слушает, все звонят, работают, нас не замечают. – не надо. Я – горой за тебя, если придется, но отчет, сам понимаешь, обязанность. Ты попробуй, хорошо? А я за старания все напишу так красиво, преувеличивать – не врать, Коля… Мне вон тоже тяжело было – первым мужиком в конторе был…
– Обещаю. – заверил я его. – Начинаю немедленно.
– Спасибо, – произнес большой и властный начальник, незаметно схватив мою руку и тряся ее, тряся. – отчеты эти, понимаешь… тот еще труд, изложи, да выложи. Я лучше буду это, координировать. Руководить. Собачье дело – а куда деваться-то…
Я кивнул, он кивнул, холодный кофе начальства унесся прочь. Вздохнув и еле заметно качнув головой, я тотчас принялся выполнять поручение Алексеича. Сев на стул рядом с Митрохиной, я завел с ней ни к чему не обязывающий разговор, ужасно ее смутив, отвлекая от разговора с потенциальным покупателем. Мои эпитеты разрывали ее график. Мои вопросы ставили ее в тупик. Думал я, разумеется, только об одном – даже мысль о наживе на этой конторе отошла куда-то на задний план; никуда это не денется, не убежит. Другое в голове, как и всегда; бьется, бьется, надрывается…
Недели две назад пришел как обычно – разбитое лицо, хромает. Я приоткрываю дверь после работы, скриплю ей и вижу – незажившая голова, порванные штаны, как он ковыляет в свою комнату, не поднимая глаз, не говоря ни слова. И в такие моменты рвется земля и все сущее рвется тоже. Пласты всякие в голове, категории всякие нахлестываются, горькое – ядом под язык, ну а сердце холодит а не обжигает. Все это, боги, все это… Когда видишь такое, сложно думать о чем-то еще. Когда он мимо ковыляет и руку с плеча сбрасывает, ищешь давным-давно найденные первопричины и следствия. И не хочется ничего – абсолютно. Хочется забыться, потому что «вспомниться» – не получится ни за что.
В итоге, в самом итоговом итоге, я, как дурак, остаюсь один посреди своей видавшей виды кухни. Между прошлым и настоящим, отказавшийся от будущего. Его мать, которой я никогда не знал, Инга, ушедшая и боги бы с ней, да что-то не то в груди, ну и, собственно, он. Сашок Гайсанов, маленький человек, который не является ни мной, ни своей матерью. Не является он чем-то от нас лучшим или худшим; генетические особенности делают его другим, особенным, несхожим со всем этим происходящим, нечестным… Он – чужак. Посторонний в своей импровизированной клетке-улице и клетке-районе. В этой квартире, в своих увлечениях, во мне, моих словах, во всем этом… среди этой несовершенности, которая у него звучит дерзко, ненавистно, называется «жизнь-житухой». Он дальше, чем соседские дети. Дальше, чем кто бы то ни был, находясь прямо рядом, за стенкой, воспитанный, начитанный Сашок, который… да, который.
Чужак, у которого я спрашиваю из-за двери, захлопнувшейся у меня перед носом:
– Что с твоим лицом? Ты опять дрался? Саня, открой, ну, поговорим. – С усилием выдавливаю. – Ты же не должен, не обязан. Выходи, Сань. Расскажи мне, что опять случилось. Ты не сиди там, не поможет…
Ни слова в ответ. Знаю я, как это будет, скажет, что упал несколько раз сам, оступившись – не признается, гордый, в дела не посвящает. Я не знаю, как давно во рту его нет зуба. Я вижу это – следы от костяшек на лице, чужом лице, ее лице, лучшей красоты ее лица. Он словно бы тоже видит это или чувствует, потому и не заботится, уничтожает в себе это. Не только ее красоту, а вообще любую, в словах, в себе, в своем маленьком устройстве. Делает так, что от красивого мальчика не осталось ничего, одно первобытное, звериное, злое – отпечаток этой нечестной и несправедливой жизни, без поиска виноватых, без поиска жертв. Дверь закрыта; я стоял пару недель назад у нее как дурак, был сентябрьский вечер. Он вышел к похолодевшему ужину, быстро ел, незаметно ушел и пришел ночью. И это – не новшество; это чертова закономерность…
Вот он приходит ночью, разговор ни о чем, я – пьян, да и он тоже. Равнодушная фраза:
– А проснешься завтра? На работу же.
И мое нахмуренное:
– Проснусь.
И – вновь наступающее одиночество, которого я не заслужил. Тяжелый возраст, что у одного, что у другого. А у меня еще – мать его да Инга, так внезапно исчезнувшая, хотя, казалось бы… теперь даже немного грустно, немного не по себе. Работа ради работы, жизнь ради жизни. Алкоголь развязывает ему язык – и это плохой разговор, тяжелый. Он утверждает, я оспариваю, и все это, все это… Все это и теперь в голове, когда я откровенно мешаю Митрохиной работать ради некоего абсолюта, фантастического «сплочения», торжества идей капитализма, используемого глупыми людьми во вред рабочему процессу. Это даже не в голове, разговор вроде того, а в клетках моих и жидкостях. В каждом нейроне, способном давать импульс, способном двигать меня дальше, но почему-то всегда и так неотвратимо возвращающему меня к былому: к дверям, фразам, оскорблениям, которыми я сам себя повязал своей молодостью и наивностью; боги…
Ты опять пьян, папа, тебе же на работу, говорит Сашок. Не нравится, спрашиваю, и он просто пожимает плечами, награждает безразличностью за мои переживания, за все свои переживания, да еще и Инга проклятая опять вспомнилась, да еще и в моем возрасте, трудно быть одному, Сашка, понимаешь, в моем-то возрасте, тебя дома никогда нет. Ты не про меня, а про мамашек, подразумеваешь их, надоело. И этот разговор неизменен, склоки, синяки, безразличие, новые «мамашки», и боль, и и покачивание, и я зайду попозже, и хочу выдавить «сын», но не выдавливаю, он сказал однажды – по имени, вот и зову по имени, а эту терминологию уберем, отставим. И я закрываю дверь, желая остаться там. И вновь ее на мгновение приоткрываю, надеясь, что мой Сашок, тот, кто не выстриг еще свои волосы, что приятно было изредка лохматить, что он там и ждет ладоней, а не темноты, чтобы забыться. Но дверь закрывается ни с чем. Часы бьют начало первого, я бью стаканом о зубы, снова день и проклятый коллектив, проклятое сплочение. Скоро первая зарплата и я куплю ему новые джинсы взамен этих, которые порваны, на них следы от пыли, а в коленях деревянные занозы, и он хромает, Саша, Саша… Голова тяжела, и она падает на ладонь, ну а утром, конечно, розовые полосы и шум твоей вилки о тарелку, независимость, и приходится самому готовить себе завтрак, чтобы отметить в календаре новый сентябрьский день.
Немудрено, что мешая Митрохиной, я в большей степени мешаю себе.