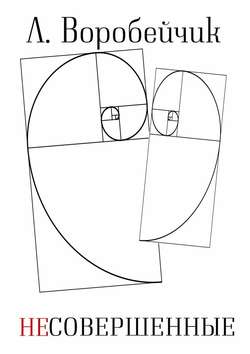Читать книгу Несовершенные - Л. Воробейчик - Страница 5
2
ОглавлениеПродержали, три дня промурыжили и не устроили. И к такому не привыкать. Но я уже нашел другое место – маленький офис на выезде, заниматься черти чем. По телефону звонить – всякого я пробовал разного, но такого не представлялось пока. Обычно искал что-то и находил, с руками связанное – то профнастил стелил, то загружал-разгружал, то склады охранял. А такого, чтобы звонить – не было пока, для такой-то работы образование поди нужно. А эти – пригласили вот сами, приходи, мол, Николай, карьерный рост и белая зарплата. Как тут устоять? Вот и выпил немного – чтобы спать не страшно; перемены вещь такая. А может из-за Инги. А может, потому что мать его вспомнил.
Химия это была. Как ее, комплиментарность – моя ли, ее ли, наша ли общая, не важно чья именно, но распалась в итоге, и все. Хотя была ого-го, цементной, крепкой. Камень наш треснул, ну и я, собственно, теперь вот где. Хотя камень – не то, лучше через химию. Незрелость моих решений долго бродила в катализаторе – ее свободе, но у нас, однако, все до поры до времени было замечательно, ибо некоторые из элементов нашей породы могли бы ждать года и десятилетия, прежде чем взорваться, уничтожив все. Другие правда нет… Кислота моих решений растворилась внутри кислоты ее свободы, и мы бы даже не заметили шипения, если бы Сашок не появился на свет. Примерно так все было – возвышенно и поэтично, как в книжках, ну, а как иначе в двадцать с лишком-то? Мы как бы притянулись после того застолья, потом годы любви и страсти, связь укреплялась; были заложниками химии, повторяя то, что заложено в гомосапиенсах с начала времен. А стали в итоге заложниками быта. Мы – не кислоты, а неудавшаяся семья, вот я и запил, словно бы предчувствуя ее уход, ну, а может так статься, что запил я после ее ухода, или прямо во время – да какая разница; мужчина, безгрудый, жалкий, с младенцем на руках. С флагом унижения на руках, плачущим и испачканным. С живым воспоминанием хлопнувшей двери на руках. Химия… да, лучше передавать через химию, чем через ощущения слабости или боли – они должны бы притупляться, да не притупляются, глупости это все; лучше через нее, непонятную, донести. Да как бы человек не морщился, объясняя одно через другое (а всегда можно объяснить одно через другое), просто как бы он не морщился, переступая навыки сообщения и комментария, навязанного нам литературой или кинематографом, как бы ему не было отвратительно, все всегда скатывается в уродливый быт – любая попытка упорядочить книжную полку в собственной голове. И мы тоже скатились. И даже теперь я скатываюсь, доглатывая со дна остатки горькой. Отмечаю очередной пропащий праздник одиночества и ненужности. Отец-одиночка не ждет Сашка и, разумеется, запил вновь.
Пьяный, читаю книгу. Пытаюсь читать. Сашок пришел поздно, такой же пьяный, уронил вешалку, а я от чтения и не оторвался. Хотя на самом деле в голове – кружева, водовороты фраз; я и с ним, и в книге, и с Ингой, и вновь остаюсь без его матери: хлопает дверь и, боги, я вновь наедине с ним и вновь я ненавижу себя за то, чего не сделал и чего уже не смогу сделать никогда. Письмо нашел в мусорном ведре – и мы не стали этого обсуждать, мы ничего почти уже не обсуждаем, играть перестали в друзей, даже не пытаемся; Ингиному письму я даже и не расстроился. Люди приходят и уходят – я обучен этому лучше других. Это «житуха», как он любит повторять – и это слишком, слишком для меня несовершенно! В какой-то степени для меня это совсем неприемлемо. Сама жизнь как форма бытия для меня неприемлема своей алогичностью. Это просто усталый импульс – мои первые безумные двадцать лет; не было бы их, я бы закрыл глаза и уснул бы навеки, если бы только, ах, если бы.
Несовершенство – это, возможно, наихудшая из моих маний, понимаю трезвым умом. Слово имеет слишком много значений для одного лишь слова; можно перечислять бесконечно все то, что есть несовершенного только лишь для одного индивида; возьмите другого – половину случаев он возьмет да оспорит. Это саморазрушение и бездна, проклятое это слово. Это трясина метафизики, ведь погляди, Коля, в космос – и там нет совершенства, разве что одна математика для ракет, путающая нас, обещающая девять цифр, а подсовывающая буквы и переменные, пугающая всех нас – но особенно меня, ведь ни порядок, ни хаос не есть путь к юдоли совершенства, возможно, что лишь порядок и хаос вместе есть совершенство – да и то, как посмотреть. И в то же время это шепот звезд. Это мой маленький взгляд на небо и поиск самого белого из всего белого цвета, когда они зажигаются; и мои глаза слезятся и звезды сами по себе тускнеют. И это – первый крах идеальности. Это как функционализм, не несущий практической пользы. Это как религиозные войны за право молиться чуть громче других. Это как я с его матерью. Как он со мной. Как я сам с собой. Это сводит с ума; я живу с этим так долго, боги, и никак не научусь жить с этим себе не во вред.
Несовершенство не вносит никакой ясности и даже не делает меня лучше, хотя, казалось бы, обязано. Оно обязано быть большим, чем просто враждебным миром, чем обществом предательства и подлога; но оно упорно, оно вечно, оно не хочет становится чем-то большим, хотя несовершенство, увы, всеобъемлюще. Оно – сестра пресловутой «американской мечты», но на иной порядок, по эту сторону баррикад; там во главу ставится человек, сделавший себя сам, тогда как тут – человек, что не нашел себя сам в маленьком зеркале прихожей. Оно, мое несовершенство, должно быть другим, обязано; оно должно закалить меня ушатом ледяной воды и бросить в прорубь, от которой исходит пар. Должно ткнуть мне в нос нищету и холодные макароны. Должно, обязательно должно обесценить мои сбережения (если бы они у меня были) и показать, что любовь существует – но у кого-то еще; оно должно взять меня за руку и свысока показать: смотри, мол, Коля, все, что ты видишь – в моей власти, и каждому живется хуже другого, по-особенному худо, как завещали деды и прадеды. Так что не выпендривайся, Коля – будь счастлив среди меня, как счастливы и они, цени то немногое, что имеешь, пей, пей, Коленька, пой грустные песни и находи в себе силы, несмотря ни на что. Таким… таким оно должно быть, мое несовершенство. Отрезвлять и будить во мне лучшее. Но осталось ли во мне это самое лучшее? Осталась ли во мне хоть крупица того, что не отшибли этой тяжелой дверью сущего, громко хлопнувшей, этим защелкнувшимся сухим щелчком замком среди эха коридора?!
Оно не такое. Оно начинается каждое утро – и, боги, оно не такое! Импульс – ну и хорошее же слово; убеждаться не устаю, как точна иногда терминология, одно слово на сотню. Так вот, мой импульс – это первопричина, а каждое новое утро – это следствие. Хотел бы я и теперь зачитываться философией рационализма, но увы – я помню лишь фразу Декарта о мысли и существовании; все остальное выела водка и возраст. Я открываю глаза, я знаю все о своем двадцатилетнем импульсе, но до открывания следует маленькое, незаметное: следует титаническая борьба Николая с мировым несовершенством. Я открываю их спросонья, механика; тут же зажмуриваюсь что есть силы и размышляю, размышляю… Задаюсь вопросами вроде «зачем», верчу их на языке помногу, в разных категориях. Зачем это, зачем то. Ради чего оно все. Что я собираюсь делать, как жить. Для чего жить. Все эти (зачемзачемзачем) вопросы наслаиваются; боги свидетели – я давно уже на них не отвечаю, так что может показаться, что это просто ритуал. Хочется ли мне? Нет. Нужно ли мне? Нужно, но не мне – кому-то еще нужно; догадываюсь, кому именно… И эта маленькая борьба не может быть борьбой по самой своей сути – засомневался, значит проиграл. И мне нужно бы, нужно не сомневаться – нужно точно знать, нужно создавать себя с самой постели, с самого утра, быть новым и быть лучшим, начиная с открывания заспанных глаз… но я не могу. Я равнодушно принимаю существование, в котором есть место лишь несовершенству – и мне. Однажды это кончится; импульс приближается к роковому концу. И что тогда будет со мной и с ним? Два человека с виду, а так – прорехи и дыры в одеяле души…
– Сашок, – зову его. Слышу, как что-то там валится и падает. Может, вторая вешалка. Может он сам. – Сашок, ты будешь есть?
За моей спиной он что-то тихо говорит. Как соседи, правда – я с книгой, даже не оборачиваюсь в его сторону. Он – не делает попыток говорить чуть громче. Наверное, это слова вроде «буду, сам разогрею». Вряд ли что-то еще.
– Где? – все же доносится до меня.
– Вторая полка. Увидишь, в сковороде.
– Ага. – хмыкает. – Вижу.
И я попытался погрузится в чтение. Безрезультатно. На самом деле я слушал то, что он делал, но свои тщетные попытки не оставлял.
«-ность. Маменька, маменька, причитала она, простите, кричала она, заливаясь слезами, ка-»
Глаза стирались о проклятую строчку, невозможность принятия последовательности повествования отстукивали диссонансову пляску, ведь одновременно я читал, вспоминал былое, рассуждал о несовершенстве, думал об Инге, о том, хочу ли я новых детей и спрашивал своего пьяного сына о том, хочет ли он есть, а после слушая его и гадая обо всем на свете.
– Где был? – так же рассеянно спрашивал я.
– Жил. – просто ответил Сашок. – В лучших традициях реализма. И тебя, конечно.
– Рановато.
Саша икнул и промолчал. Одно с ним хорошо – за словом не лезет, даже погордиться им можно. Но если и стану – то не признаюсь ни за что. Хоть пытать будут – ни за что…
– Жить всегда рано. – я не обернулся на его слова, но слегка улыбнулся. Ответ был далеко не совершенным, но в нем слышалось нечто мудрое, чего никогда не услышишь у сверстников его лет. Иногда, когда мои мысли не тревожило это мое маленькое помешательство насчет несовершенства, я мог получать удовольствие от таких вот маленьких вещей. – Оставишь денег? Надо мне.
– Сколько надо?
– В этот раз побольше, сотки три, надо. Как обычно, верну.
Я кивнул, и мы замолчали. На том и порешали. Маменька, маменька, причитала она. Под оглушительный, разрывающий перепонки грохот тарелок и вилок я перечитывал вновь и вновь одну глупую фразу, монотонно, стуком рельсов в голове ухало это слово – маменька, маменька, маменька, все накручивалось, било обухом, за окном шумел ветер, монотонно билась вилка о тарелку, в новом коллективе меня как обычно не примут, но, маменька, мне нужно будет втереться в доверие, чтобы придумать, как что-то опять украсть и перепродать, маменька, фраза повторялась, пьяный сын бил вилкой по тарелке, воздух пропах газом с плиты, мы с ним на пару – пропадали, моя жена и его мать опять хлопала дверью, в висках шумело, маменька, все было несовершенно, бум, бум, зачесалась борода и скрежет от моих ногтей опять сбил меня с мыслей, и вот я опять читаю ту же фразу – маменька, маменька, снова стук, и еще сердце, и сигареты бьются изнутри о пустоту пачки, да еще и ветер за окном, и пьяный Саша, и он иногда так сильно пугает, маменька, и вот я снова думаю, как Инга ушла, а я приведу новую женщину в дом и он выбросит письмо от нее в ведро, маменька, и это несовершенно, ах, слишком несовершенно, маменька, даже чересчур, и Сильвия со страниц Свифта вновь испражняется, и это заклинание, маменька, и вот я снова в мыслях там, где все пошло не так, давно, давно, маменька, это было так давно и будто бы вчера – вот как это, вот как!
Но наваждение прошло, я опять задумался, какое впечатление произвести и что бы мне завтра стоит попытаться украсть. Офис… компьютеры, телефоны те же. Костик будет руки потирать – он-то людей знает, на базе прочно работает, краденое там только так улетает; надежнее, чем в ломбард нести. Никогда еще следов не находили. Хотя что и говорить – никогда и не пытались…
Пытаюсь читать, слушаю стук вилки. В голове шумит. Мысли – о несовершенстве, о женщинах, о прошлом с его дверью и о том, сколько еще движимых вещей мною будет «списано». Это, если посмотреть плохо – так, что во мне даже какая совесть борется. Но хоть несовершенство и не делает меня лучше, хуже не делает точно. Знаю, что сам далеко не святой. Цель, все таки: кушать же что-то надо, да и Сашку новые кроссовки давно пообещал.