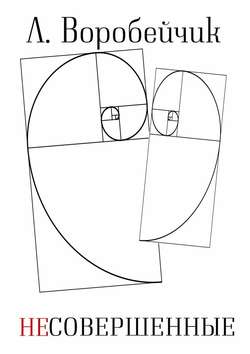Читать книгу Несовершенные - Л. Воробейчик - Страница 2
1
ОглавлениеЭто был один из тех летних дней, которые я целиком практически не помню, из тех, где хоть какое-то значение представляют только лишь полчаса ночи.
Я говорил, она тоже говорила, много было у нас всякого звука, возникающего из наших ртов и нас же им заволакивающих. У нас вообще было много всяких штук, порождаемых ртом, вроде слова «нет» и извечного вопроса – «почему», а еще было плохое дыхание. Почему такое? Да потому что мы причиняли друг другу боль именно словами, ну и следовательно запахом этих слов, ну а еще у нас с ней были всякие жидкости вроде слюны, которая иногда капала на простыни. Мы, конечно, меняли их, словно бы это могло помочь простыням быть нетронутыми. Наивные – мы тут же мяли их телами, пачкали слюной и пошлостью своего существования в данном месте и данном времени, в непосредственной близости, в сути наших отношений и существования вообще. Так что простыня была лишь маленьким следствием несовершенства нашей голой тесноты и всего такого. Остальные следствия требовали дальнейшего анализа, ну а мне, в силу возраста, о таких далеких вещах думать уже, по-хорошему, некогда. Но что поделать – думать приходится…
Хуже всего было со ртом, порождающим всякие явления вроде слюны и слов, и это было опаснее прочего, хотя я, конечно, преувеличиваю: я вовсе забываю о зубах, которыми можно даже прокусить тонкую кожу и явить миру алую и багровую кровь (следовательно, не так уж слова и опасны), но мы не кусали – мы рвали друг друга только вопросами и грустными фразами. Возраст такой, наверное. Но мы не думали и об этом тоже.
Нет, мы вовсе об этом не думали, нет, нет, мы совсем ни о чем не думали, а наши языки были склизкими щупальцами осьминога и еще червоточиной; слюна капала, капали слова, а где падали, там прожигали простыни. Мы спорили о будущем, понимая, что мы и будущее – дело вовсе фантастическое. В общем, наша дряблость, слюна, слова, простыни. Все это – мы, и это только несовершенство наших ртов; вообще, конечно, сильно слово это ко мне припечаталось, что и говорить. «Несовершенство». Даже и говорить-то нечего, но говорю: наверное, всегда так было, что не было с основания мира чего-то по-настоящему чистого и правильного, во всем всегда были и углы и изъяны; так что неудивительно, что и мы герои полотен постимпрессионизма – одни изъяны да углы, да причем такие неудачные, что паз в паз, ребро в ребро и, следовательно, созданы друг для друга. Чтобы спорить и ругаться, да еще и отравлять жизни. Такая ночь, какую и запоминать-то тошно. Но лучше запоминать новое, чем возвращаться к старому – говорю как человек, что ненавидит и одно, и другое.
Стариковы мысли… везде смогу преувеличить. Везде эту травлю вижу, яд этот растекающийся. Казалось бы – разговоры как разговоры, жизнь как жизнь, несовершенны – да и боги с ним. Это же маленькое дело, рты наши, слова, ругань – ведь покуда мы сами неидеальны, где бы взяться взаимопониманию? Как может понять злодей злодея, а слепой – другого слепца? Так и мы. Верхушки айсберга не существует этой летней и душной ночью, ибо верхушка – это абсолют, маленькая идеальная точка размером с клопа, вниз уходящая какой-угодно неровностью. Пусть хоть углами изойдет – верхушка-то идеальна. Но вот до нее нам еще карабкаться и ползти, и не то, чтобы я не хотел или же она не хотела, ну, просто мы не подходим для скалолазания и друг друга из-за своих ртов (если начинать с самого заметного) и всего остального, хотя по отдельности друг другу подобны, хоть зеркало ставь. В общем, все же изначально мысль была правильна. Рыба с головы тухнет, мы – со ртов. Поэтому и поступков каких-то, высоты в плане чувственности, благосклонности и планирования вообще ждать не приходится. Нам, говоря проще, не по пути – и не по моей вине. Я понимаю, ну а она – нет. Просто кто-то ждет слишком много и не видит всей картины целиком. И плачет.
Когда мы плачем (она плачет), мы впадаем в банальности, приравнивая их к следствию наших чувств, но на самом деле приравнивать их стоило бы к чему еще. Это просто различные синдромы других следствий, не более. Или она это дело любит просто?
Я ударял по стене в исступлении – плакала, я гладил – плакала, она плакала по любому поводу: чай, моя мужская слабость, гляди-ка, как падают листья, я расскажу о товарняке, что едет в никуда, как и мы идем в никуда, слышишь?..слишком тихо шепчутся, твой сын смотрит на меня как на чужую, я – не та, чувствую себя моложе, ты – не тот, прекрасная музыка, все кругом прекрасное, но только давай опять поговорим о будущем, а я спорю, мол, нет, несовершенное и говорить не будем, и вот тут слово за слово, и слезы ради слез, и молимся вместе разным богам и, нет-нет, Боже, ты уверен, что дело не в тебе, сходи к врачу, Коленька. Плакала из-за утраченных возможностей. Из-за Сашка плакала, губы поджимала. Предлагала все оставить как есть и начать заново, почти с нуля. Она так сильно обижается: говорит, что я, кажется, совсем не нужна тебе, Коля. А я не могу ей сказать, что, в общем-то, мне безразлично – некрасиво говорить такое женщине в твоей кровати. Что есть лишь вещи из тех, что я не хочу – а вот вещей, которые я хочу, почти не осталось. Те же, что остались – ну, фантастика, книжные полки целые, космические приключения надежд Николая. Главный герой – Сашок, шестнадцатилетний ребенок от чужой женщины. Композиция: печальная. Финал – более чем открытый.
Она просто не понимает, а знает свою версию – и только. Для нее все вытекает одно из другого, из ее маленькой правды, как орнамент на улице из жухлых листьев, как будто бы это всё обязано быть просто-запросто. И потому мы и есть слезы, падающие звездами, слезы ради слез, ибо железы застоялись, а трубочист внутри них бьет и бьет, вот тебе объяснение, а под них уже и повод любой подгоняется. Синдром завышенных ожиданий, да моих молчаливых обещаний. У нас что ни день или ночь – то попытки, вечно пытаемся, а чего, не понимаю уже. Видимо, только плакать и пытаемся. Только это и выходит.
Вообще, ночью поэтично все как-то. Даже иногда думаю, что как-то со стороны это смотрится интересно.
– Знаешь, – в сердцах говорит мне она. – такую жизнь-то и не выразишь никак иначе, Коля! Омерзение во всем.
Конечно, отвечаю, тут по-французски и не скажешь. Язык не тот, быт не тот. Как Сашок говорит, «житуха» не та. Мы, конечно, попытаться можем… по-французски? Да выбирай любой язык, дорогая Инга, твои слова или мои не станут мягче или легче от смены фраз. Хрен че поменяется, дорогая Инга. Наши тела-доски подгоняются стык в стык, паз в паз, а слова попадают изо рта в рот даже набором элементарных фонем, пусть хоть пролаянных, и неизменно это вызывают – в этом ли, в другом ли, но наша отягощенность друг другом, что порождает слезы, может даже быть выражена по-кошачьи, зачем рвать лапы лягушкам ради того, что неминуемо, что породит наше непонимание, нашу новую войну за будущее, а? Хотя, казалось бы… слезы, прямое продолжение наших отвратительных ртов. В этом городе, банально до крайности, в оранжево-бежевом августовском времени нам плевать и на город, и на ночной холод, только одеяло, нестираные заслезенные простыни, да мы; плачет по поводу и без – о каком-то утверждает будущем, хочет наследника. Несовершенно, что и сказать, хоть и вполне обычно.
Устал я, кряхтя размышляю: вот стены – у стен нет изъянов, махонькие бабочки, залетающие с улицы, что не умирают, садятся зачем-то на шторы и смотрят на нас немигающе; как и я на них. Перевожу тему, говорю, мол, они великолепны.
– То есть? То есть, Коля? – взрывается она. – Какие бабочки? Не слышишь меня, да, как всегда? Я говорю: поговори с ним, я не могу так… Мне другого нужно, а ты, – глаза дрожат, руки заламываются. – а ты все… Все никак. Коля! Какие бабочки? Я о нас, а ты о… что, нечего сказать? Сказать тебе, Коля, нечего?!
Ночь. Хорошо, что Сашок не дома, гуляет, не слышит этого. Не смотрит на нее с яростью как всегда.
– Ну а что еще сказать. – устало вздыхаю. – Нечего.
И правда – говорить нечего. Это же мы. Мы пили, но не пьянели – много пили. Сегодня, например, вино, отдающее кислым запахом, я окрестил его запахом нашего обоюдного страдания, пока она крестилась двумя пальцами и молилась, чтобы в этот раз точно получилось; сильно-то она наследника хочет. Говорили потом, но звука не слетало. Жили, но как бы не этой жизнью, я – прошлой, она – невозможной. Скоро уж третий месяц пойдет этого бытья-житья. Зачем, правда, не знаю. Даже устаю от себя – такого.
Так со стороны посмотреть – забавно даже. Какой-то ореол романтичности, книжное нагромождение – пласт за пластом, проблема на проблеме; старики, курящие, пьющие, спорящие ни о чем и ругающиеся, ругающиеся… Задумываюсь еще: как бы я описал себя или ее в контексте всего этого?
Вот она посмотрела. До мурашек аж. Описать этот взгляд не выходит; не воссоздать человека набором слов, каким бы словарным запасом не обладал, какой бы фантазией не обладал слушающий, нет-нет, просто как объяснить взгляд набором буковок, словишек, фразочек? Вот сидит она, печальная, но разъяренная и смотрит – и я, даже закрыв глаза, не смогу это повторить хотя бы в своем воображении, что уж тогда эти самые слова. Слов не хватает в принципе, хотя жизненный опыт, да и читательский опыт, да и бытовой. А ведь это, ну, наша августовская ночь – обычная литературщина, проблема из ничего. Должны слова сами браться. Как в книжках, читано-перечитано. Чтобы одно слово – и метко, в цель. И поняла она сразу. И отстала наконец…
Или вот я. В таких ситуациях говорят или же пишут: сердце остановилось или пошло быстрее. А это фарс, глупая комедия: мне плевать и всегда плевать было на это самое сердце с того самого раза, разве за ним следишь, когда на тебя смотрят таким взглядом?
«Он прожигает насквозь, взгляд этот»…ни черта он не прожигает, взгляд как взгляд, его не обзовешь даже никак. Он бесконкретен, в нем нет даже намека на чувство, он абсолютно оторван от нее, как бы вне нее; взгляд – эта, как ее, парцелляция, только от мира взглядов и людей; о лошадях и людях, о временах и нравах, о политических трактах, о силе незнакомого интернета, о моей рыбьей принадлежности (плаваю да плаваю в прошлом, удильщик херов), о можжевеловых кустах и о волосиках на губах повзрослевших мальчишек – словом, о всей той жизни, что я знаю и раньше знал, и что нельзя уложить ни в один из списков. Жизнь – она и есть жизнь, а этот взгляд – да даже магия фотографии передать его неспособна. Чего уж там слова… Она как будто что-то решила. Взгляд затравленной Инги, какая мне не знакома никак.
Мне, в общем, не выйдет даже приблизительно его описать, да и незачем, достаточно решить, как на него ответить. Словарь закончится, прежде чем из двадцати тысяч слов я выберу нужное, это, как его, со-вершен-ное. Такое как раз нужно, а раз попытка моя заведомо обречена на провал, что же, тут уже можно и языки посмешивать, и на французский перейти, и жидкости в наших ртах и слезных железах, и все это вместе. Спать можно отправится, чтобы опять проснуться и все как всегда. Все равно завтра будем ругаться, наверное, или же нет, кто разберет – разве лишь время рассудит. Но взгляд у нее выходит, конечно, мощный, когда говорю, что сказать мне больше нечего.
Выдавливает:
– Ну, что же. Раз нечего, то нечего. – и вновь на меня ядом слов. Боги, как это утомляет! И перед таким важным (если захотеть) днем.
На минуту все сжимается – и это не литературный прием, там, сзади, я правда сжимаюсь, словно бы в меня пытаются силой проникнуть; хочет войти в меня мнимое и придуманное несовершенство ситуации. Почему – не знаю. Но фраза нравится. Хлопает дверь – пришел Сашок, и я иду его встречать в одних трусах и с глупой улыбкой. Чуть не вприпрыжку. Не с ней же все спорить и спорить, ну. Завтра, как-никак, день тяжелый. На новую работу, как-никак.