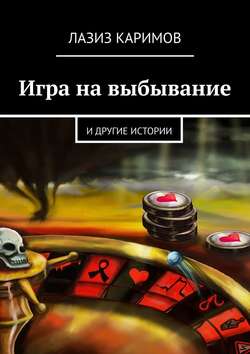Читать книгу Игра на выбывание. и другие истории - Лазиз Каримов - Страница 6
ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ
Повесть
Глава 4. Сашка
ОглавлениеАлександр Лазарев начал терять веру с того самого момента, как обрел ее.
Конечно, никто не смог бы об этом догадаться, когда в начале одиннадцатого класса он явился в школу с Библией в руке и огнем прозелитизма в глазах. Побывав в летнем лагере для подростков, организованном одной из протестантских деноминаций, что росли в те годы как грибы, Саша с головой погрузился в веру евангельскую. Бескомпромиссные доводы Священного Писания из уст ревностных его толкователей в сандалиях на босу ногу, помноженные на юношеский максимализм и подростковый бунт – и вот бывший заводила многих школьных беспорядков превратился в кроткую овечку с мечом огненным в руке.
Первой эту новость разнесла, конечно же, Машка Стрельникова. «Сашка Лазарев стал исусиком» – ходило волнами по школьным коридорам. Никто не верил, пока не увидели своими глазами. Подходили, спрашивали, дивились состриженному «хаеру», трогали черную карманную Библию, разве что пальцы в ребра не вкладывали.
Саша внутренне ликовал. Никогда он сам не смог бы рассказать о чуде своего обращения так быстро такому количеству людей. А тут явно чувствовалась рука Господня. Значит, Божья любовь коснется многих в стенах школы.
Мало кто знал, что дома его ждала непрестанная и жестокая война с родителями, слишком поздно осознавшими, что отпустить Сашку в тот лагерь было фатальной ошибкой. Они были единодушны в запрете посещать собрания «проклятых сектантов», встречая его из школы по часам, чтобы он не успел улизнуть на встречу с «братьями во Христе». Отец даже обещал натравить на «это общество» ФСБ, но Сашка верил, что Бог защитит Своих избранников.
Молиться ему приходилось тайком в ванной комнате, а Библию он мог читать либо с фонариком под одеялом, когда все засыпали, либо на переменах в школе. Шестнадцатилетний мученик за веру вставал и ложился с надеждой, что однажды пелена неверия упадет с глаз его родителей, и, подобно Савлу на пути в Дамаск, они узрят небесный свет и услышат голос Пастыря.1
Пока же единственной отдушиной для него была школа.
Класс воспринял нового Сашку без энтузиазма. Поначалу многим казалось, что без него тусовки и попойки утратили былую лихость и безбашенность. Лазарев всегда отличался своей эксцентричностью и нонконформизмом. Было сложно поверить, что этот заядлый металлюга с длинной светлой гривой, ножом в рюкзаке и ожогами от сигарет на левом запястье мог превратиться в фанатичного религиозника.
Только некоторые взрослые, включая Ника, видели, что это всего лишь другая сторона той же медали.
Несколько раз ребята пытались звать Сашку на вечеринки, но тот отвечал цитатами из Библии, и очень скоро от него отстали. Свято место пустовало недолго, тусовки и попойки пошли своим чередом, а Сашка остался сидеть на первой парте первого ряда со своей неизменной Библией и кучей вопросов к учителю биологии.
Ребята же жили дальше своей подростковой жизнью, кто с недоумением, а кто с усмешкой наблюдая за ним, как за диковинным, но не особо опасным зверьком.
Ник старался не акцентировать внимания на религиозных убеждениях юноши, куда лучше его родителей понимая, что всякое действие рождает противодействие. Он только недовольно поморщился, когда услышал, что после вручения аттестатов Сашка не пойдет с классом в ресторан. Но настаивать не стал. Понимал, что без толку.
Несмотря на обильный посев евангельского семени в школе, в веру так никто и не обратился.
Были долгие беседы с Надей Свиридовой, которая казалась Саше наиболее вероятным кандидатом на спасение. Но все ее вопросы, в конце концов, сводились к тому, возможен ли брак между христианином и неверующей, и если она станет христианкой, то сможет ли потом выйти замуж за неверующего. Он пытался рассказать ей о любви Христа, о Его жертве и о том, что плотские отношения совсем не так важны, как она думает, но его слова падали на каменистую почву, и разговор снова и снова возвращался к больному для нее вопросу.
В общем, обратить Надю не вышло.
Гораздо интереснее были споры с Андреем Кравцовым.
Этот парень был почти готовым христианином: положительный, спокойный, всегда стоявший среди толпы особняком, готовый заступиться за слабого и гонимого – ему оставалось лишь признать Иисуса своим Господом. Но как раз этого он делать ни в какую не хотел. Сколько ни читал ему Сашка отрывков из Послания к Римлянам, сколько ни объяснял необходимость покаяния и веры – Андрей неизменно твердил: «Я верю в высшую силу, но не доверяю организованной религии».
Он даже однажды согласился пойти с Сашкой на собрание. Пришел, исправно отсидел два часа в душном переполненном зале клуба, послушал проповеди, пение, но на призыв выйти вперед и примириться с Господом, к великому разочарованию своего одноклассника, не откликнулся.
После Андрей сказал: «Саша, ты веришь, и это очень хорошо. Ты стал другим, лучше, чем был. Это здорово. Но пойми, это не для меня. Пожалуйста, не навязывай мне больше свою веру».
На этом их дискуссии прекратились.
После школы была альтернативная служба, женитьба в церкви, рождение сына, ранние похороны родителей, так и не принявших Христа, а в промежутках – постоянные поездки по церковным делам, бесчисленные собрания, проповеди, беседы, молитвы. Жизнь верующего полна событий, кажущихся яркими и значимыми человеку, живущему под невидимым колпаком религиозной догмы, сторонящемуся большого и непонятного мира с его пугающим разнообразием путей и мнений.
Единоверцы считали Александра «духовным», «особенным», «помазанником». Он был харизматичен, начитан, имел хорошую память, мог говорить горячо и убедительно, а некоторый опыт «страданий за Христа», полученный в юности, придавал ему ореол святости в глазах тех, кому не выпала сия «честь».
На него равнялись, к его советам прислушивались, его общества искали, ему прочили большое будущее в церковной иерархии.
И, конечно же, все обожали слушать историю его обращения, скрашенную разными «смачными» деталями – как ни странно, в кругах верующих особенно ценятся истории всяких асоциальных личностей. Видимо, чем дальше человек был от веры, тем большую победу ощущают при его обращении «ловцы человеков».
Однако сейчас, на столь символичном тридцать третьем году жизни, постулаты веры, ранее казавшиеся Александру незыблемыми, перестали удовлетворять его интеллектуальный голод.
Книги, которые он жадно читал, духовные и светские, порождали больше вопросов, чем ответов, заставляя смотреть на Слово Божье под разными углами, часто идущими вразрез с учением братства. Он понимал, что этим усложняет себе жизнь, но не читать не мог, как ни старались убедить его братья, что «много читать утомительно для тела»2 и нужно «надеяться на Господа всем сердцем своим и не полагаться на разум свой»3.
После очередного бурного обсуждения какого-нибудь пункта учения, вызывающего у него сомнения, вновь услышав от старейшин совет на все случаи жизни: «Нужно больше молиться, поститься и читать Библию», Александр с горечью ощущал, что все дальше уходит от стада.
Да, он продолжал посещать собрания, изучать Писание, молиться (правда, уже не так истово, как в былые годы), но за всем этим зияла огромная пустота. Он сотни раз слышал и употреблял расхожую фразу о том, что в душе любого неверующего имеется «дыра в форме Бога», но теперь неожиданно обнаружил этот вакуум внутри себя.
То место, которое раньше занимал в его жизни Друг грешников, вдруг оказалось свободно.
Более того, он начал понимать, что с самого начала своей жизни «во Христе» был не настолько убежден, как того хотелось ему и другим.
Он вспомнил, как в первые месяцы после обращения «надевал» на себя по утрам свою «новую природу», напоминая себе, что он теперь христианин, а не язычник. Как часто ловил себя в середине дня на том, что забыл о вере, о Христе, о жизни вечной, погрузившись в поток повседневных дел. Как порой стеснялся своей веры, как чего-то постыдного, предпочитая умолчать о ней, если было возможно.
Наверное, если бы не Машка Стрельникова, растрезвонившая о его обращении по всей школе в первые же дни, его проповеди услышало бы куда меньшее число людей. И если бы не активное противление родителей, возможно, он не остался бы таким твердым в следовании избранному пути.
Александр также помнил, как годами загонял на задворки сознания неудобные вопросы: например, о справедливости и любви Бога, создавшего геенну огненную и отправляющего туда всех, кто не уверует; или о страданиях и гибели сотен тысяч невинных по всей земле. Как довольствовался отговорками вроде: «А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: зачем ты меня так сделал?»4, как сам отвечал сомневающимся и скептикам заученными фразами и цитатами, как «веровал, ибо абсурдно»5.
Такое подавление, как способ выхода из когнитивного диссонанса, не могло не привести к краху – и крах, наконец, наступил.
Проведя полжизни в церкви и, фактически, не имея близких друзей вне ее круга, Александр был готов признать, что утратил веру. Это неизбежно шокировало бы его жену и членов общины, но он считал, что должен быть честным с собой и с другими – он больше не христианин.
Сейчас он возвращался с собрания старейшин, где открыто сказал братьям о своих сомнениях в боговдохновенности Писания и в существовании Бога вообще. Несмотря на то, что все вело к этому, его признание произвело эффект разорвавшейся бомбы. Александру дали две недели на то, чтобы пересмотреть свои взгляды, в противном случае ему грозило отлучение.
Он шел по припорошенному снегом проспекту, а в голове у него играла песня, случайно услышанная неделю назад в клубе, который их община делила с сайентологами, металлистами, детскими кружками и танцами «кому за пятьдесят». Песня была из его бурного доевангельского прошлого. Кто-то включил ее в подвале, где репетировали местные металхэды, когда Александр поднимался из туалета на второй этаж, готовясь к проповеди. Это была «For Whom The Bell Tolls»6 Металлики.
Из клуба он вышел тогда сам не свой. Он никак не мог отделаться от внезапно нахлынувшей ностальгии. Подростковые годы, небывалая свобода, романтика улиц, лица школьных друзей – все разом навалилось на него, прорвало дамбу запретов и дисциплины, возводимую годами, разбило в пух и прах набившие оскомину аргументы о бренности бытия, о суетности земных исканий и греховности плотских помыслов.
Его «новая природа» отчаянно сигнализировала об опасности оглядываться назад, о хитрых уловках врага душ человеческих, о том, что глупо менять семнадцать лет жизни с Иисусом на миску чечевичной похлебки.
Все напрасно. Воспоминания упали благодатным семенем на почву, глубоко взрыхленную жестокими сомнениями последних лет. Остатки брони его веры стремительно рассыпались под удары колокола Металлики.
И вот он шагает по свежему снежку под оранжевым светом вечерних фонарей, напевая себе под нос:
For whom the bell tolls?
Time marches on.
For whom the bell tolls?7
В этот момент в кармане его куртки зазвонил телефон.
1
Савл из Тарса – гонитель христиан, услышавший на пути в Дамаск голос Христа с неба и ставший впоследствии апостолом Павлом.
2
Екклесиаст, глава 12, стих 12.
3
Притчи Соломона, глава 3, стих 5.
4
Послание к Римлянам, глава 9, стих 20.
5
Credo quia absurdum (лат.) – формула, приписываемая Тертуллиану; выражает иррациональную природу религиозной веры.
6
«По ком звонит колокол» (песня группы «Metallica»)
7
По ком звонит колокол? Время идет вперед. По ком звонит колокол? (англ.)