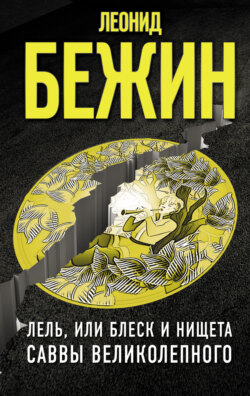Читать книгу Лель, или Блеск и нищета Саввы Великолепного - Леонид Бежин - Страница 25
Папка вторая
Автопортрет на фоне сада
Этюд двенадцатый
Два зверя
ОглавлениеВпоследствии – а мы прожили вместе долгий срок, до той самой поры, когда из-за проказника Леля семья Мамонтова разделилась и Абрамцево осталось за Елизаветой Григорьевной, Савва Иванович же поселился в Москве… – так вот, впоследствии он не раз снаряжал меня в Ахтырку к Трубецким – с гостинцами и подарками. Одаривал он их преимущественно книгами и нотами, что у Трубецких считалось знаком хорошего тона, поэтому такие подарки охотно принимали.
После того как Трубецкие Ахтырку продали, я бывал у них в Москве. Иногда же Савва Иванович посылал меня в Калугу – напомнить о себе и о прежней дружбе, пригласить на домашний спектакль и прочее, прочее. Посылал с корзинками персиков или клубники из моей (нашей) оранжереи. Разумеется, меня сразу назад не отпускали, усаживали за столик под липами, где имели обыкновение теплыми летними вечерами пить чай, отгоняя назойливых комаров дымом из самоварной трубы (и привлекая не менее назойливых ос вареньем в хрустальной вазочке).
Поэтому я и имел возможность наблюдать за жизнью их большого семейства, разного рода событиями, переменами, взрослением сыновей Сергея и Евгения. Я был свидетелем того, как мальчиков отдали в гимназию, они покинули старое гнездо и в Ахтырке стали бывать лишь на каникулах, да и то не всегда. Затем их и вовсе увезли в Калугу, куда по службе перевели Николая Петровича.
Ахтырку же, как мною сказано, в тысяча восемьсот семьдесят девятом году продали…
Братья были не единственными детьми в большой семье и даже более того – отнюдь не единственными. Видя постоянное мелькание передо мной и детворы, и взрослых барышень с молодыми людьми, я пытался подсчитать, загибая пальцы, – сколько же их, и всякий раз сбивался со счета, пока наконец не взмолился: «Николай Петрович, батюшка, простите великодушно, но сколько же у вас детей?!» И он со снисходительной усмешкой, не лишенной самодовольства счастливого отца, назвал цифру: «Двенадцать, мой дорогой. От первого и от второго брака – ровно двенадцать».
Разные они были, эти дети, барышни и молодые люди, – смешливые, шумливые, проказливые или, наоборот, серьезные. Они кричали, галдели, тихонько вышивали или сидели с книгой, но Сергей был среди них особенный. Он и с книгой сидел как-то по-своему, в общих играх почти не участвовал и дружил только с младшим братом Евгением. Да и мало сказать – дружил, поскольку я наблюдал меж братьями страстную влюбленность друг в друга при несомненном, признаваемом старшинстве Сергея, который был для Евгения непререкаемым авторитетом.
Вместе со всеми они лишь ездили в монастыри, находившиеся неподалеку от Ахтырки, – Лавру и Хотьковскую обитель, и так же, как у всех детей, у них висел над кроватью образ святого Сергия.
На моих глазах и Евгений подрастал, мужал, вытягивался, из подростка превращался в юношу, но все так же любил уединение и выходил к чаю, неохотно оставляя книги, – лишь на пятый раз после того, как его позвали. В семье стало привычным веселым обычаем, почти ритуалом: сначала позвать его матери, затем – отцу, а затем дружно, хором, со смехом – всем остальным. Я тоже присоединялся к этому хору и смеялся вместе со всеми, поскольку стал у Трубецких своим человеком – посланником Гермесом, как они меня нарекли.
Так уж у них было заведено: чуть что – вспоминать античную древность и всем примеривать греческие маски. Что ж, Гермес так Гермес: я не возражал, лишь бы угодить их молодости, веселости и беспечному эгоизму. Не возражал, хотя про себя и подумывал, что Гермес-то – помимо прочих его достоинств – проводник душ в подземный Аид, и мне менее всего хотелось быть таким Гермесом…
Однако случалось, что смех надолго умолкал и всеобщая веселость сменялась совсем другим настроением. Помню, как все со скорбными лицами повторяли, что у Сергея и его брата Евгения – опасный кризис. Они увлеклись идеями материалистов, позитивистов и безбожников: Дарвина, Герберта Спенсера, Томаса Бокля, Людвига Бюхнера и их русских продолжателей – Белинского, Добролюбова, Писарева. «А это бог знает к чему приведет!» – ужасались все, не зная, как помочь, уберечь, спасти, вразумить, наставить на путь истинный.
Однако спасать и не пришлось, и излечили братьев не вразумления и наставления близких, а – музыка. Они услышали в Москве Девятую симфонию Бетховена под управлением Антона Рубинштейна, и ее призыв «К радости!» не просто стал для них откровением, но открыл им Бога. Где? В келье? В монастыре? Нет, в концертном зале, и не под чтение Псалтыри, а под взлеты дирижерской палочки, открыл Бога Живаго, Которому, по словам Евгения, «до дна все светло». Тогда же родилась общая для обоих мысль о том, что сердце человеческое есть око, которым познается откровение Духа.
Что ж, и так бывает, и остается только дивиться несказанной тайне Господней. И я старик уж, голову инеем выбелило, а все дивлюсь, обмираю от близости тайны, стоит лишь задуматься, как Господь нас ведет, и каждого своим Путем (Евгений Николаевич Трубецкой в будущем так и назовет свое издательство – «Путь»). Словом, кому дудочка Леля, кому оркестр и хор Бетховена, и пойди попробуй разгадать, где язычество, где христианство (в Бетховене, по словам знающих людей, тоже было всего намешано), а где истинно прекрасная музыка…
Также помню, как за чаем, выбирая из плетеной корзинки клубнику покраснее, все со значительными лицами шептались, что Евгений выпускает свою первую книгу, написанную на основе диссертации (что-то о рабстве в Древней Греции). Книга уже печатается в типографии, и он вскоре будет вручать ее всем с дарственными надписями. Каждого занимало, что он ему напишет, и каждый старался угадать, но никому не удавалось – все попадали впросак со своими натужными стараниями. Надпись все равно оказывалась не та, что они думали, а та, что никто и не думал не гадал, а вот вышло в самую точку.
Мне автор тоже подарил свою книгу и тоже надписал: пожелал мне благорастворения воздухов и обилия плодов земных. Все правильно. Для садовника ничего лучше и не изобрести. Я поблагодарил, унес книгу, прижимая ее к груди, а дома поставил на полку: шрифт для меня мелковат, да и о рабах древнегреческих я все забыл, чему в гимназии когда-то учили.
Впрочем, иногда, признаться, с полки достаю, открываю и кое-что прочитываю. Не рабы для меня важны, а автор – Евгений Николаевич, и в самом мелком шрифте я распознаю таинственную завязь – завязь будущего плода, коим он осчастливит нашу русскую словесность и философию. Вернее, так: словесность-философию, поскольку философия у нас всегда словесность.
Хотя не знаю, к счастью ли такие его строки, попавшиеся мне однажды, когда я, коротая дни в Абрамцеве (вместе с Елизаветой Григорьевной, лишившейся мужа), перелистывал старые журналы из библиотеки Мамонтовых: «При первом внешнем потрясении Россия может оказаться колоссом на глиняных ногах. Класс восстанет против класса, племя против племени, окраины против центра. Первый зверь проснется с новою, нездешней силою и превратит Россию в ад» (из статьи «Два зверя», тысяча девятьсот седьмой год).
Прочитав это, я вздрогнул и перекрестился: не дай Бог, чтобы такое сбылось. Впрочем, строки, похоже, пророческие, а это значит, что Бог как раз и даст – попустит за наши-то грехи («Мне отмщение, и Аз воздам»), и все предсказанное неминуемо осуществится. Слишком красиво живем – посеребрили свой век, искусство возвели в религию. И счастье лишь в том, что жить в эту пору прекрасную – пору торжества зверя – многим уже не придется.
Мне-то, старому, пишущему эти записки, – наверняка не придется. Я и так уж зажился. Многих проводил в последний путь, постоял с поникшей головой у отверстой могилы и теперь жду Гермеса – провожатого для своей собственной души.