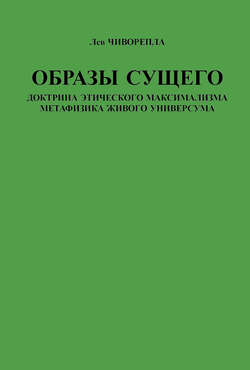Читать книгу Образы сущего. Доктрина этического максимализма, метафизика живого универсума - Лев Чиворепла - Страница 10
Часть первая
Доктрина этического максимализма
Глава 1
Основные посылки
1.2. Бог и свобода
1.2.1. Религия и наука
ОглавлениеВ принципе, религия и наука несопоставимы, поскольку это объекты разной природы: религия – мировоззрение, наука – вид деятельности, в которой участвуют люди разных мировоззрений. Но есть точки соприкосновения этих объектов, где им приходится защищать друг от друга свои позиции.
В наше время всеобщего естественнонаучного образования, когда умы с увлечением и страстью отдались служению математике, физике, биологии и т. д., когда достижения в этих областях позволили избавиться от голода, холода, болезней, невозможно, казалось бы, искренне поверить в нечто, игнорируя авторитет науки. Мешает одно принципиальное расхождение между наукой и религией. Оно касается бытия невидимого мира. Религия предполагает существование невидимого. Но это совершенно не подтверждено наукой. Задача постижения его (невидимого) для образованного человека много сложнее, чем для мало осведомленного. Ему нужно гораздо больше “концов свести друг с другом” для воссоздания цельного мироощущения, – без учета научной аргументации этическое воззрение теряет для него полноту убедительности.
История знает значительный период слитного жития религии и науки. Но с 17–18 веков, с приходом технологической эры произошел раскол. Эпоха просвещения, начав с крушения закостенелых церковных условностей, завершилась трагедией бездуховности 20-го столетия. В новое время религия, сохраняя принципиальные позиции, должна проявить гибкость в интерпретации своих догматов. Тайное ждет иных образов.
Групповое этическое движение начинается и строится на базе корпоративных истин. Ему так легче развиваться, ибо правда его защищается и подтверждается непосредственным сопереживанием. На каком-то этапе развития, в целях консолидации растущего числа последователей, возникает необходимость канонизации движения. Появляются постулаты веры – догматическая опора, а с ней – религиозная идеологическая система, развивающаяся по законам, свойственным ее организму. Она расцветает, будучи затем обреченной на медленное окостенение и смерть. В основании религиозных канонов пребывают Писания, непреходящая, ничем не уменьшаемая ценность которых заключена в этической составляющей. Имеется, однако, и сценическая, рациональная часть, которая отражает познание людьми, принимавшими участие в процессе становления Писаний. Опасной является попытка интерпретации Писаний в узко групповых целях. Происходит подмена истины: цель защиты традиции выходит на передний план.
Наука, несомненно, оказывает воздействие на религию, но она не “уничтожает” ее, а способствует трансформации. Есть два аспекта этого воздействия: рациональный и этический. Первый очевиден: разоблачение невежества всегда способствует культуре и глубине миропонимания (нужно видеть процессы там, где привиделись демоны). Однако один этот факт не способен оказать решающее влияние на религиозное творчество. Ведь в мире неисчерпаемой тайны сфера научного знания всегда остается бесконечно малой, а человек, несмотря на это, прекрасно ориентируется и способен жить счастливо. Нет, главную роль здесь играет второй аспект. Он, в целом, обусловлен тем обстоятельством, что истина невозможна без любви. А любовь рождает религию. Наука, не столько предметом своим, сколько пытливым трудом, дает импульс к нравственному восхождению в познании, тут ее главное содружество с религией. Искренний ученый – максималист, и его максимализм неизбежно проникает в сферу этической реальности. Лишь максималисты двигают прогресс.
Труженик науки знаком с эффектом обживания. Предмет, вначале казавшийся очень сложным, после определенного изучения и освоения становится привычным, простым. Путь в науке содержит бесчисленное множество вдохновенных взлетов и привыкания к новому. Последнее возвращает к обыденному, опустошает душу и накапливает разочарование. Новое становится будничным, чтобы вновь показать цену вечного нравственного. Лишь кичливость гордится малым возвышением ничтожного знания над поверхностью еще более ничтожного. Ищущий созревает до необходимости внимательно осмотреться и прислушаться к жизни. Он постигает религиозную истину через призму структурированного мышления.
Научное мышление воспитывает дерзкое чувство потенциальной разрешимости проблемы. Если, скажем, сложный биохимический процесс изучен лишь качественно, есть уверенность, что рано или поздно он будет досконально понят в деталях. Ясно, что в основе лежат фундаментальные физико-химические законы. Но чем длиннее путь размышлений, прочнее опыт поиска, тем явственнее и категоричнее заявляет о себе иное чувство, далеко не свойственное духу победного шествия разума. Исследователь обнаруживает, что ни на шаг не приблизился к пониманию таких реальностей, как Воля, Страх, Любовь, Совесть, Долг. Более того, он осознает, что никогда и никто научным методом их не постигнет. А между тем, их-то и хотелось бы главным образом постичь. Ученый обретает способность осязать четкую грань между двумя реальностями и силой гнозиса усовершенствовать свое нравственное чувство. Вот главный положительный итог его труда. Ведь, говоря языком математики, система постулатов его оказалась не полной. Открытие это не всегда приводит к Абсолюту. Часто оно разрешается агностицизмом разной формы и содержания. Если двигателем познания не является любовь, то верховодит логика, для которой нет добра и зла. Безопорное, диффузное сознание – одна из форм болезни духа, дисгармонии личности.
Замечание
Безопорность в мышлении – это неспособность индивида опираться на собственные императивы (которые и образуют основу его мировоззрения). Безопорность, таким образом, – это болезнь. Она чаще всего посещает человека с хорошо развитым рациональным логическим мышлением (“человека-робота”). Мышление состоит из чередования двух операций – выбора и вывода (выбор дороги и движение). Выбор осуществляется на основе этической логики. Безопорность – это расхлябанность в выборе пути, в попытке заменить выбор выводом. Это вседозволенность (диффузность) и легковесность суждений, это разрыв между постулатами поведения и постулатами в мышлении, это крайний субъективизм.
Как правило, субъективист не отрицает внешнее (вне его сознания) бытие, но он отрицает значимость для себя этого бытия. Для него значимы его собственные переживания, они-то и представляют собой реальность. А поскольку переживания разных людей разные, то реальность признается разной. Отрицание значимости мира и есть безопорность, сочетающаяся, порой, с агностицизмом. В частности, не существенным оказывается вопрос “есть ли Бог?”
Мышление проникает в область веры. С расширением сферы применения рациональной логики ослабляется вера, но обостряется потребность в этической логике. Выбрать и поверить – разные психологические переживания, но постулаты этического выбора зачастую оказываются близкими постулатам веры. Опора на этическую логику делает мышление этическим.