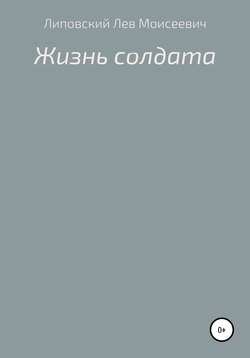Читать книгу Жизнь солдата - Лев Моисеевич Липовский - Страница 3
Книга первая
Часть первая
Вступление
ОглавлениеКогда мне было года два или три, я был твердо убежден, что наш город – это только то, что я вижу: наша улица, днепровская гора и дамба. Все остальное – таинственный мир взрослых, недоступный моему воображению и пониманию. Где-то учились брат и сестра, куда-то каждое утро спешила мама, а мне наказывали не выходить со двора. Получалось, что мир, куда каждый день уходили взрослые, был небезопасен. Однажды, к нам пришел дядя Исаак, один из старших братьев мамы, и в разговоре с ней упрекнул ее, что ни мама, ни ее дети не ходят к нему в гости.
– Ты так далеко построился, – сказала ему мама, – что мне некогда к тебе ходить. И, чтобы брат не сомневался в ее словах, она указала на нас, детей, добавляя: – Сам видишь, куда от них уйдешь!
Но все-таки об упреке брата мама не забыла. Как-то, придя с работы днем, она сказала старшей дочери:
– Сонечка, возьми Левочку и сведи его в гости к дяде Исааку. Ты ведь знаешь, где он живет?
Сестра не стала отказываться. Она взяла меня за руку, и мы пошли в гости к дяде Исааку. Мама оказалась права. Для моих непривычных ног дорога к дому, где жил дядя Исаак, была очень длинной. Никогда я не ходил так далеко. Я страшно утомился, а сестра не хотела меня брать на руки. Тогда-то я и убедился, что город наш очень большой, и что ходить к дяде не так-то легко. Он тогда жил на Пролетарской улице в доме №41. Позади его дома было русское кладбище. Рядом находились еще две постройки и далее – песчаный пустырь, так называемый кладбищенский переулок, по которому покойников носили на кладбище. Как это он вместе с семьей не боялся жить рядом с мертвецами? Ведь говорили, что они часто выходят из могил. Но по мере того, как я подрастал, дядин дом оказывался все ближе и ближе, и не таким уж и страшным становилось место его постройки… В пять лет я доходил по Циммермановской улице (ныне улица Ленина) до новых планов за улицей Буденного (ныне улица Октябрьская), и смотрел издали, через болото, на нашу железнодорожную станцию и на проходящие поезда. Это было как необыкновенное открытие, потому что поезд – это не крестьянская повозка и даже не машина. Размеры поезда и сила паровоза вызывали восторг и опасение. Однажды мы с Борисом Драпкиным, моим соседом, специально побывали на нашей станции. Заодно я увидел, что за железнодорожным полотном тоже стояли дома, и протянулись улицы. Чуть ли не каждый день я открывал новые уголки нашего города и к шести годам побывал везде, за исключением картонной фабрики. Про нее мама говорила, что она далеко за городом… Узнав наш город, я полагал, что это и есть весь белый свет, о котором так часто упоминала мама. Разговоры взрослых о том, что у меня есть дяди и тети в Бобруйске и Быхове, не меняли моего мнения о "белом свете". Только после поездки в Быхов к деду я наконец понял, что земля очень большая, и что на этой земле много разных городов. Но наш городок я, естественно, считал самым лучшим.
Когда я учился в первых классах, я почему-то всегда думал, что все, что я вижу, существует вечно: и город, и дома, и люди, и моя мама, – как будто все когда-то возникло, как в сказке, сразу и неизменно и существует испокон веков. И мне такое представление нравилось. Ведь это было так хорошо: я всегда буду ребенком, а мама – всегда мамой! И надо сказать, что мне очень повезло с этим представлением, потому что я долго был ребенком, а моя мама долго была мамой. И город наш тоже долго жил без особых изменений. Постройка новой бани и новой школы не могли значительно изменить старый облик города. Узнав из книг, что в давние времена здесь, на месте нашего города, ничего не было, кроме болот, топей и непроходимых лесов, я дорисовывал к этой картине разных сказочных существ: леших, водяных и непременно бабу-ягу. Все у меня было как в сказках. Не скоро я узнал истину о месте, где вырос наш город…
* * *
Этот далеко выступающий, конусообразный, высокий мыс между Днепром и Друтью был тогда в два раза шире, чем теперь. В течении столетий воды Днепра и Друти подмывали берега этого земляного рога, сокращая его площадь. Только за последние сто с лишним лет река подмыла целую улицу напротив устья Комаринки. И если бы вовремя не построили дамбу, то Днепр снес бы весь выступ от замковой горы до первомайской улицы. Высокий днепровский берег был тогда покрыт лесом, преимущественно лиственным, в то время как пологий берег со стороны Друти был весь покрыт желтым песком, и росли там сосны. Сосны любят песчаную почву. Наш полуостров был настоящим медвежьим углом, потому что никаких дорог, кроме рек, к нему не было.
Вот такая примерно картина была в начале нашей эры на том месте, где теперь расположен Рогачев. Если бы я в то время посетил этот холм, то не смог бы, как теперь, любоваться заднепровским простором, потому что по обоим берегам Днепра рос лес. Естественно, что здесь было раздолье для зверей, птиц и рыб. Их было тогда неисчислимое множество. Возможно, что на этом берегу жили древние аборигены, далекие наши предки, которые и предвидеть не могли, что на месте их жалких землянок и лачуг когда-нибудь возникнут рубленные избы и даже каменные многоэтажные дома. Сотни лет жили они здесь семьями или общиной, хлопоча около своих очагов, занимаясь земледелием, охотой, рыбной ловлей, скотоводством, выделкой кож для одежды, защищаясь от диких животных и непрошенных гостей.
Они, конечно, не могли себе представить, что когда-нибудь ученые мужи будут изучать их быт по найденным в могилах орудиям их труда и охоты, что их назовут дреговичами и радимичами, что они станут первыми представителями древнеславянских племен, автохтонами русской и белорусской наций. Конечно же, они не могли и думать, что их многочисленные потомки, устояв против неисчислимых испытаний, будут жить в первом социалистическом государстве на земле. Круг их интересов был узок, а познания – незначительны. Но их характер, их облик, их достоинства определились еще в те времена в борьбе с дикой природой и непогодой. Они росли и множились светлоголовыми, спокойными богатырями с добрым сердцем и чистой душой. Они были трудолюбивыми. С утра до вечера трудились все: от глубоких стариков до маленьких детей. Трудолюбие, рассудительность и доброта – вот отличительные черты древних поселенцев нашего края. Лучшие качества характера они пронесли через все невзгоды, сохранив их до настоящего времени.
Во второй половине восьмого века, когда Днепр перешел военно-торговым путем "из варяг в греки", воеводы киевских и черниговских князей не могли не заметить выгодный в тактическом отношении высокий мыс, возвышающийся между Днепром и Друтью, как будто самой природой предназначенный для сторожевого поста. И здесь была построена деревянная крепость. С ее башен хорошо просматривался Днепр и устье Друти. Это произошло в тысячном году во время княжения в Киеве Владимира I, которого во всех былинах называют "красным солнышком". Это он построил на всем побережье Днепра и его притоках десятки крепостей и городов для охраны Руси от неожиданных набегов кочующих восточных племен. Это он впервые на Руси организовал общегосударственную оборону, обязав принимать в ней участие всех русских князей, если даже им ничего не угрожало в связи с их удаленностью от восточных земель.
Гарнизоны для крепостей и городов набирались из "лучших мужей" со всех земель русских. Этими мерами князь Владимир оградил Русь от неожиданных опустошительных набегов кочевников. В крепости, на высоком мысу между Друтью и Днепром, была поселена дружина от князя Святополка города Турова, сына Владимира. К северу от крепости прорыли глубокий ров и заполнили его водой. В результате получилась обособленная высокая гора с деревянной крепостью, окруженная со всех сторон водой. С высокой башни было далеко видно вокруг, и в случае нападения дружинники разжигали на башне большой костер с дымом, давая знать другим крепостям о грозящей опасности.
Не год и не два жили в крепости дружинники. Поэтому, вполне естественно, что они привозили сюда жен и создавали свои семьи. Дома строили за рвом, переходя по подъемному мостику. Для домов валили лес, очищали заодно площадки для дворов и огородов. Таким образом, к северу от крепости вырос посад: маленький поселок, обслуживающий дружинников крепости. Вначале крепости дали название Рогач, так как она была построена на самом рогу полуострова между двумя реками. Но когда рядом с крепостью вырос поселок, то его стали называть Рогачев. Так, примерно в самом начале одиннадцатого века, возник наш город Рогачев, сторожевой пост в киевской Руси на древнем пути "из варяг в греки". В то время это был самый удобный путь в деле развития торговли, ремесел и в деле политических отношений как внутри Руси, так и с другими государствами.
Пройдет почти полтораста лет, прежде чем наш поселок упомянут в летописи Ипатьевского монастыря, из которой мы и узнали, что в 1142 году Рогачев уже считался городом. И еще одну запись о нашем городе внесет в летопись Киевской Руси летописец монах Нестор, когда киевский князь Ярослав Олегович отдаст Рогачев в качестве подарка своему брату князю черниговскому Игорю Олеговичу. Затем, из-за распада единой киевской Руси и бесконечных распрей между русскими князьями, Рогачев присоединят к себе поочередно то Великое княжество литовское, то польское государство, то Пинское княжество, то польский король Сигизмунд. На протяжении четырех веков горожанам пришлось терпеть гнет разных пришельцев. А после набегов восточных татар и монголов город приходилось восстанавливать заново. Неоднократно отстраивалась и сторожевая крепость. И только в 1772 году, после раздела польского государства, Речи Посполитой, восточная Белоруссия, в том числе и наш город Рогачев, была присоединена к России. Через пять лет Рогачев становится уездным городом, а в 1781 году был утвержден и герб города: на фоне золотистой пшеницы – черный бараний рог. Императрицей российской Екатериной II был утвержден план застройки города и дано указание о постройке в городе каменного замка, так как город имел важное стратегическое значение в системе обороны России вдоль Днепра, но теперь уже не от восточных кочевников, а от западных любителей чужого добра.
Став уездным городом, Рогачев стал быстро развиваться. Росли мелкие фабрики и заводы, торговые заведения. Росло и население города. В 1841 году в городе проживало 3224 человека. На восемнадцати улицах стояли 298 деревянных домов и один каменный. В городе было шестнадцать садов, четыре площади, три кладбища за городской чертой. Затем, в течение десятков лет, население города росло очень медленно. В 1888 году в Рогачеве проживало только 4437 человек. Однако, к концу XIX столетия и в начале XX столетия, после постройки железной дороги от Петербурга до Киева и шоссейной дороги от Москвы до Варшавы, население в Рогачеве удвоилось. В то время в Рогачеве уже проживало 9038 человек в 656 деревянных домах и шести каменных. В это время на окраине города вырастают: лесопильный завод, картонная фабрика, кирпичный завод, мельница и другие более мелкие предприятия. В их числе и казначейство. В самом городе были построены: прекрасный театр, реальное училище, учительская семинария, казармы кавалерийского полка.
Примерно в это время, в первые годы двадцатого века, приехали на заработки в Рогачев мои будущие родители: восьмилетняя девочка Роня из Бобруйска и тринадцатилетний паренек Моисей из Быхова. Именно это ничем не примечательное событие в жизни небольшого городка и стало впоследствии одной из главных причин моих воспоминаний. Ведь именно они, полюбив друг друга, ровно через восемь лет основали новую, рогачевскую семью, в которой еще через десять лет появился и я – автор этих строк. Об этом и о многих других событиях, происшедших затем в городе Рогачеве, я и хочу рассказать в последующих главах этой книги.