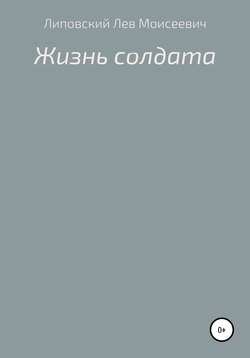Читать книгу Жизнь солдата - Лев Моисеевич Липовский - Страница 6
Книга первая
Часть первая
Глава третья
Дом
ОглавлениеНаш дом ничем не отличался от других домов на нашей улице. Разве только тем, что он был длиннее других домов и имел, как все говорили, несчастливый номер. По улице Либкнехта – тринадцать, а по Первомайскому переулку – один. Рядом с нашим домом, как я уже рассказывал, был удобный спуск с днепровской горы к нашему поильцу и кормильцу Днепру. Наш дом – и не произведение древнего зодчества, которое нужно сохранить для потомства. Но тем не менее, как творение человеческих рук и как полезная вещь для человека, дом постепенно приобретает вместе с его хозяевами определенную историю своего существования. В отличие от других домов нашей улицы, этот дом иногда посещали председатели горисполкома города Рогачева. Но об этом поговорим после.
Особенный интерес к нашему дому вызывает у меня то обстоятельство, что здесь до революции была пекарня, в которой начала свою трудовую жизнь восьмилетняя девочка – моя будущая мама. Разве вы сможете припомнить такое стечение обстоятельств? Здесь мама научилась мастерству пекаря и достигла в этом деле довольно высокого совершенства. А после Октябрьской революции, когда дела пекарни расстроились, и пекарня закрылась, мама купила половину этого помещения, чтобы жить здесь всей семьей. Маме тогда пришлось продать всю свою обстановку: мебель, вещи, картины и даже папины музыкальные инструменты: мандолину и две скрипки. О проданных скрипках я впоследствии вспоминал с сожалением.
Вот как мама рассказывала о покупке этой половины дома. "Денег у меня Ривкины брать не хотели. Деньги были тогда неустойчивые и обесцененные. В стране после двух продолжительных войн, первой империалистической и гражданской, был голод. Главным богатством тогда был хлеб. Вот хозяева дома и предложили мне наполнить зерном вот эту маленькую спальню, – мама указывает на спальню с окном во двор, с видом на днепровский простор. – Ох, сколько я тогда набегалась в поисках этого зерна, с каким трудом я его находила и покупала, даже пересказать трудно. Вожу и ссыпаю, а уровень зерна в спальне как будто и не увеличивается. Сколько я намучилась тогда и вспомнить страшно. У меня уже и продавать нечего было, а спальня только наполовину наполнилась зерном. Тут хозяева и сжалились надо мной, сказали «хватит». У меня как гора с плеч свалилась. Все-таки свои люди, старые знакомые. И хоть вошла я сюда с одной кроватью, столом и скамейкой, но я была очень рада, что, наконец, обрела свои собственные стены, свой собственный угол. Сколько я мытарилась по чужим углам? Заиметь собственный дом было мечтой и твоего отца, а получил он его на том свете". При этих словах мама замолкает и долго глядит раскрытыми глазами куда-то вдаль. Она, наверно, вспоминает моего отца и тот самый разговор, в котором отец говорил о необходимости собственного дома. Не век же жить под чужими крышами. Мама приходит в себя и договаривает с тяжелым вздохом: "А всем необходимым мы обзавелись постепенно". Вот и вся история покупки нашей половины дома. И так получилось, что мама провела здесь и детство, и юность, и всю остальную жизнь. Разве это не удивительно?
Наш дом находился в одной из трех седловин города, тем не менее, он стоял на довольно бойком месте. С одной стороны мимо нашего двора шел спуск к реке, по которому шло движение людей и днем и ночью. Люди ходили здесь за водой, на рыбалку, покататься на лодке, на пляж и, наконец, на нашу знаменитую дамбу. С другой стороны, мимо дома протекал после дождя бурный ручей, который стекал со всех прилегающих улиц. Во время сильных и длительных дождей он превращался в настоящую бурную речку, занимая всю ширину улицы от дома до дома.
Вот этот-то ручей и доставлял нам, а также горисполкому Рогачева, постоянные хлопоты. Дело в том, что этот ручей постепенно промыл на нашем дворе глубокий овраг и грозил снести в Днепр и наш дом. Естественно, и Ривкины, и мама обращались в горисполком за помощью. К нам во двор приходили все председатели местного Совета. Дело было не только в нашем доме, угол которого уже повис над оврагом. Этот овраг, увеличиваясь, мог перерезать улицу и постепенно дойти до главного шоссе – дороги государственного значения.
Председатели горисполкома приходили не по одному, а с целой группой. И каждый раз предлагали свои планы пропуска ручья и засыпки оврага. Один раз овраг засыпали песком и от двора до самой пяты горы вымостили камнем ложе для ручья. Все было красиво и хорошо. Но все это продержалось до первого сильного дождя. Все вымощенные камни вместе с насыпью снесло в Днепр, как какую-нибудь песчинку. А овраг стал еще шире и глубже. Уже не только угол дома висел над ним, но и видна стала вся кирпичная стенка нашего погреба. Нам, детям всей улицы, и мне особенно, эта канитель с оврагом доставляла величайшее удовольствие, а взрослые переживали и опять бегали за помощью в исполком. И опять засыпали овраг песком и опять мостили каменный желоб до берега Днепра. И опять это все держалось до осенних дождей.
И чего только ни делали, чтобы спасти наш дом и засыпать овраг. По указанию горисполкома каждый год свозили весь мусор города в наш овраг. За зиму он заполнялся до края, и мы получали возможность ходить в сарай не вокруг дома через улицу, а ближайшим путем – по двору. Но приходила весна и обильная дождевая вода смывала этот мусор, и опять зияла яма на всю глубину, и опять угол дома повисал в воздухе. Почти каждый год к нам приходили смотреть наш овраг во дворе все новые и новые начальники города. Предлагали поставить заградительный забор у выхода из оврага, посадить деревья и кустарники, заполнить овраг одними камнями и многое другое. Но ничего этого не делали. Только одна работа продолжалась: круглый год возили к нам мусор. Наш овраг превратился в мусорную свалку города. За зиму и лето он заполнялся мусором, а весной и осенью весь мусор вымывало в Днепр, как будто его и не было. Овраг становился все шире и шире. Он занял треть нашего двора и дошел до сарая. Сарай пришлось убрать. Его разобрали и из этого же материала построили два небольших сарая, прилепив их к задним, глухим стенам дома.
Однажды к нам пришел в окружении своих помощников очередной новый председатель горсовета. Он был очень маленький, точь-в-точь как лилипут. Я его однажды видел у дома дяди Исаака и, конечно же, не мог и подумать, что этот маленький человек – хозяин нашего города. Лилипутов я уже видел. Они приезжали в наш город и выступали в нашем кинотеатре. Денег на билет у меня не было, но я бегал вечером к кинотеатру и смотрел на них, когда они приходили туда на представление.
Вот примерно такой же или чуть-чуть больше был наш новый председатель. Он был одет как все начальники в то время: блестящие сапоги, брюки полугалифе, Китель военного покроя с четырьмя накладными карманами, фуражка с высокой тульей. Но вся эта одежда была миниатюрная, совсем маленького размера. Весть о его появлении моментально обошла все дома нашей улицы. Теперь не только дети, но и все взрослые сбежались на наш двор. Всем вновь приходящим старались тут же сообщить: "Сам Шулькин приехал! Сам Шулькин приехал!" Почему он у всех соседей вызывал такой интерес, я тогда еще не знал. Меня только удивляло, что на такого крохотного человечка с маленьким морщинистым лицом все смотрели с таким большим уважением. А он был меньше меня!
Шулькин походил по краю нашего оврага, заглянул в его глубину, осмотрелся вокруг и стал давать указания своим рослым – а по отношению к нему, можно сказать, великанам – помощникам. Он предложил построить на устоях деревянный желоб от нашего двора до пяты горы и опять заполнить овраг мусором и песком.
Когда Шулькин ушел, и все разошлись, несколько соседок продолжали удивляться и судачить по поводу его роста.
– Это же надо, голова меньше, чем у младенца, а соображает лучше, чем нормальные головы!
– Светлая голова!
– Бывает и тупиц выбирают туда!
Одна женщина со смешком сказала:
– Я слышала, что он предложение сделал одной женщине, а она отказала ему, хотя давно ходит в старых девах.
– Да что там говорить, у него наверно нет ничего!
Дальнейший разговор стал мне неинтересен, и я убежал на дамбу. Деревянный желоб из толстых досок нам построили за два дня. Он был метров тридцать длиной. Перед желобом русло ручья вымостили гладкими камнями. Первый дождевой поток стекал к реке, как по маслу. Все соседи были рады этому. Овраг постепенно наполнился песком и мусором. Вскоре насыпь закрыла красные кирпичи нашего погреба и выровнялась с нашим двором. Устои желоба тоже утонули в мусорной насыпи, и желоб, казалось, лежал прямо на земле. Мы, дети, стали по нему сбегать к речке.
Так благодаря этому желобу, наш двор стал опять нормальным. Мусорщиков мы попросили больше не возить к нам ничего. Овраг был переполнен. Мы отдыхали от него целых два года, и не раз возносили дифирамбы маленькому председателю городского Совета.
Но силы природы неизмеримы. Человек, к сожалению, пока бессилен против них. В конце второй годовщины нашего желоба, после затяжных осенних дождей, когда ручей разбух, как в половодье река, бурный и стремительный поток воды не уместился в желобе и пошел гулять по насыпи. Больше того, сильный напор воды разрушил каменный козырек перед желобом и устремился в заполненный овраг, сметая все на своем пути. Через несколько часов все, что здесь было уложено за два года, исчезло в пучине днепровских вод, как будто корова языком слизнула. Дядя Симон только руками развел, не зная, что и сказать. Все начиналось сначала.
Конечно, взрослым этот овраг доставлял много хлопот и беспокойства, но для детей нашей улицы события с этим оврагом, с бурными потоками дождевой воды казались необыкновенными приключениями, и мы бегали и прыгали через этот поток воды с восторгом и весельем. В это время мы тратили тетради на бумажные кораблики, которые уплывали вместе с ручьем в Днепр, а может быть и в Черное море. Я был горд, что вся эта круговерть происходит у нашего дома, на нашем дворе. Я был уверен, что все дети нашей улицы завидовали мне.
Откуда у этого ручья было столько сил? Ведь он не только у нас безобразничал. На главном шоссе, спускаясь в наш переулок, он выворачивал и разбрасывал большие тяжелые камни на край шоссе. Нам только оставалось удивляться его силе. Каждый раз дорожные рабочие ремонтировали разрушенные участки шоссе. Иначе образовались бы глубокие рытвины, и невозможно было бы ездить по шоссе.
Только наш переулок Первомайский держался молодцом против дождевого потока. Вдоль домов здесь росли могучие тополя и клены. Ручей только обнажил их верхние корни и этим ограничился…
Как я уже рассказывал, мама купила половину дома. Но эта половина была почти в два раза больше другой половины. От бывшей здесь когда-то пекарни нам в наследство осталась большая печь. На печи была целая комната, загороженная от остальной кухни кирпичной стенкой до потолка. Каменные ступени позади печи вели наверх. На такой печи тепло держалось долго, и в сильные холода мы спали здесь всей семьей. Если бы в это время кто-нибудь зашел в наш дом, то был бы очень удивлен, не обнаружив никого, потому что входа на печь сразу не увидишь, а со стороны казалось, что печь занимает все пространство от пола до потолка. Я там иногда прятался в небольшой нише за трубой. Там меня мама никогда не находила. Она осмотрит весь дом, поднимется по ступеням и глянет за печь – нигде никого – и решает, что я куда-то убежал, а я из-за трубы выберусь и лежу себе спокойно на печке. Умный человек придумал эту печь.
Кухня тоже была большая. С двумя окнами. Одно окно выходило на улицу, а другое, напротив печи, в коридор, это было большое итальянское окно. Зал был длинный, просторный. Ведь когда-то здесь был целый цех, где готовили тесто, а за длинным столом из этого теста подготавливали для выпечки булки и баранки. В зале было четыре двери. Одна дверь вела во вторую половину дома к Ривкиным. Она, за редким исключением, никогда не запиралась. Дело в том, что бывшая хозяйка дома, тетя Сарра, в отсутствие мамы, все время приходила на нашу половину, чтобы смотреть, чем мы занимаемся. (Папина сестра, неизменная помощница мамы, к тому времени вышла замуж за вдовца в Быхове и уехала туда жить.) Тетя Сарра боялась, что мы устроим пожар. Надо сказать, что боязнь ее была оправдана. В наших играх иногда имел место и огонь. Две другие двери вели в спальни.
Одна спальня была с окном и с видом на Днепр, а вторая – темная, без окон. Четвертая дверь вела на кухню. Из кухни был выход в коридор, а в коридоре одна дверь вела на улицу, а другая – во двор, третья – в чулан, где по углам накапливались всякие ненужные вещи и разбитая мебель. Там же был вход в большой погреб.
Как видите, дом у нас был больше, чем просторный. Недаром, все соседи приходили к нам отдохнуть. Они говорили, что в нашем доме легко дышится. Когда мама бывала дома, она ставила наш большой самовар и всех угощала чаем со своим печеньем. К чаю выходили и Ривкины – дядя Симон и тетя Сарра. Стол у нас большой, возможно он тоже остался от бывшей пекарни, и вокруг него часто сидели по двенадцать-четырнадцать человек. Эти чаепития запомнились на всю жизнь. Они проходили очень весело, с рассказами и шутками.
Так вот, пока мама не потеряла профсоюзные деньги, мы жили одни в этом большом доме. Мама не хотела пускать квартирантов. Она говорила, что никак не может насладиться своей мечтой – пожить в собственном доме. Но после несчастного случая с потерей денег поневоле пришлось впустить квартирантов в дом.
Первыми квартирантами были у нас, как вы помните, два парня, прибывшие учиться на курсы бухгалтеров. Затем несколько раз занимали нашу спальню артисты, гастролирующие в нашем городе. Потом там надолго поселились сестры Кац: Рахиль, Анна и Шура. Три интересные женщины, по каким-то причинам не вышедшие замуж. Правда, младшая Шура была еще совсем молодая, хотя и имела вид взрослой женщины. Работала она пионервожатой. И хотя она была девушка красивая и очень серьезная, но и с ней произошла довольно банальная история, какие случаются с не очень серьезными девушками. Будучи в пионерском лагере, она влюбилась в учителя, который был более чем в два раза старше ее, а тот не совсем честно воспользовался ее любовью. Вернувшись домой, она рассказала старшим сестрам, что учитель, работавший вместе с ней в пионерском лагере, хочет жениться на ней. Но сестры, узнав сколько ему лет, просто ужаснулись такому положению и отговорили ее от этого шага. А она не призналась им, что была уже беременна. Она тщательно скрывала это до самого последнего момента, хотя и спала на одной кровати со старшей сестрой. Она стягивала живот простыней, чтобы никто не заметил его рост. А в результате – мертвый, вернее задушенный ребенок.
Самым интересным, конечно, был рассказ старшей сестры о том, как она проснулась и увидела в кровати мертвого младенца. Нет, она не осуждала сестру, она только удивлялась, как это сестра сумела скрыть свое положение до самых родов. Да, это был необыкновенный случай. Слух об этом распространился по всему городу с быстротой молнии. Приехал из района его виновник. Он оказался высокий, интересный мужчина с чуть поседевшей шевелюрой на голове. Он всем понравился и все забыли, что он вдвое старше ее, и тут же договорились о свадьбе.
А ведь это могло произойти и раньше, и все было бы нормально. Поспешные решения чаще бывают неверными. Была ли у них свадьба или нет, я не знаю. Дело в том, что как раз в это время сестрам Кац пришлось уйти от нас. Моя старшая сестра выходила замуж, и спальня переходила в ее пользование. Но об этом мне опять придется рассказывать все с начала, чтобы все было ясно и понятно.
Старшей сестре Соне не пришлось окончить школу. Финансовые затруднения в нашей семье вынудили маму забрать Соню из шестого класса и определить ее в типографию. Там она стала ученицей наборщика. Если вы внимательно следили за моим рассказом, то должны были заметить тяготение нашей семьи к типографии. Помните: сначала отец работал в типографии, затем его младший брат Володя, потом мама, и вот теперь Соня.
Как только ее определили на работу, она сразу же преобразилась, как будто стала взрослой. Уход из школы ее обрадовал. Училась она трудновато, и это связывало ее поведение. Она была тихой, скромной и застенчивой. А как пошла на работу, так даже играть с нами перестала. Каждый день, как только она приходила с работы, так сразу переодевалась и бегом к подругам. Она хоть и всех их моложе, но теперь работала и тоже считалась взрослой. А подруг на нашей улице было много: у Гольдбергов – две, у Рубинчиков – две, у Окуневых – две, у Драпкиных – одна, у Нафтолиных – две. Представляете, какая компания! Все работают, все молодые, одна лучше другой, красивые, скромные, веселые. Веселье через край расплескивается. Когда они собирались вместе, даже самые обыкновенные слова вызывали у них смех. Как будто они обладали особым даром находить в каждом слове какой-то внутренний смешливый смысл.
В хорошую погоду они все вместе ходили гулять на Циммермановскую, вдоль кинотеатра и стадиона. На этом отрезке улицы было главное гулянье по вечерам. В саду, где был похоронен Циммерман, размещался летний театр – крутая сцена, скамьи под открытым небом и кинобудка. Здесь молодежь показывала свою самодеятельность. Нам, мальчишкам, нравилось шнырять между ног у взрослых, а когда в саду крутили кино и у входа продавали билеты, мы залезали в сад через штакетник со стороны улицы Советской. Сюда-то и ходила гулять с подругами моя сестра в тихие летние вечера. Когда погода была плохая, они собирались у Гольдбергов или у нас и перебирали со смехом все косточки у своих ухажеров. У моей сестры ухажера еще не было. Она была совсем молодой. Но мама всегда сомневалась в том, что у нее будут ухажеры. Уж очень она была неуравновешенная.
Я уже упоминал, что когда мама была вечером дома, у нас организовывалось чаепитие. Самовар у нас был большой, медный, со знаком качества – шесть круглых печатей, шесть медалей. Целое ведро воды нужно было, чтобы заполнить его. Правда, разжигать его было трудно, особенно без углей. Эту работу поручали обычно мне. Щепок наколешь, набросаешь в трубу, зажжешь березовую кору и бросаешь к щепкам. Если щепки сухие, то все идет нормально. Если же сырые, то кора сгорит, а щепки копотью покроются, а гореть не хотят. В таких случаях я шел на запретный прием. Пользоваться керосином запрещалось, однако, когда никто не смотрел, я обливал щепки керосином, бросал в трубу зажженную спичку и быстро ставил верхнюю трубу в дымоход. Щепки тогда горели с гуденьем. Вода закипала быстро. Дядя Симон заваривал чай в чайнике, а чайник ставил на горячую трубу самовара, и только через несколько минут он разрешал пользоваться чаем. Сахар тогда у нас был в большом почете, потому что его не хватало. Нам разрешалось положить в стакан чая только одну чайную ложку сахара.
Однажды я заметил, что Соня бросила в стакан три ложечки сахара.
– Мама, – закричал я, – Соня три ложечки сахара положила в свой стакан!
И хорошо, что я тут же нагнулся под стол. Сонин стакан с чаем пролетел над моей головой и разбился, ударившись о стену. Соня стоит вся красная, как варенный рак, а я улыбаюсь и приговариваю: "Не попала! не попала!" – так мы обычно кричали на улице, когда играли в мяч.
– Перестань! – строго говорит мама мне, а Соне выговаривает: – И что это у тебя за сумасшедший характер. Не иначе, как в бабушку. Как ты будешь жить с мужем, я не представляю.
Всегда мы у мамы на кого-то похожи.
– У меня не будет мужа, – отвечает раздраженно Соня.
– Ну-ну, посмотрим, – говорит мама.
Вот такая вспыльчивая бывает у нас Соня. Когда она моет пол, то в дом входить опасно: в лучшем случае накричит, а то может и мокрую тряпку бросить в лицо.
Прошло уже немало лет, как Соня начала работать в типографии. Она стала хорошей наборщицей, а сама стала похожа на настоящую невесту. В это время в Рогачев приехал новый редактор районной газеты «Коммунар» Макар Усовик. Очевидно, что наша Соня ему приглянулась, ибо он стал все чаще и чаще провожать ее домой. Мама забеспокоилась. Русских ухажеров она опасалась. До полуночи она не давала спать Соне, уговаривая ее не ходить с Макаром.
– Разве ты не видишь, как они живут, – говорила мама, – что ни день – напиваются, потом буянят на всю улицу, дерутся и бьют своих жен. Ты не представляешь, какая у тебя будет жизнь!
– Макар, мама, совсем не такой, он же образованный и добрый.
Соне, наверно, Макар нравится, раз она его защищает.
– Это он добренький, пока ухаживает за тобой, – возражает мама, – а потом станет такой же, как наши соседи.
– Ну, я не знаю, что мне делать, – говорит Соня, – не могу же я его прогнать, он все-таки наш начальник.
Против этого довода мама не знает, что ей сказать.
– Что делать? Что делать? – повторяет мама, – надо посоветоваться с тетей Саррой.
Тетя Сарра – мудрая женщина, ее советы всегда благоразумны. Некоторое время они молчат. Кажется, что они уснули. Но вот опять заговорила мама:
– Смотри только, – просит она Соню, – ни в коем случае никому не говори о том, что я тебя отговариваю от русского, а то мне может попасть по партийной линии. Никто ведь не станет разбираться, почему я против. Злым языкам дай только волю! Так смотри, – просит она Соню, – никому ни слова о нашем разговоре, хорошо?
– Хорошо, – отвечает Соня.
Про меня мама, конечно, не думает – она уверена, что я давно сплю. Но я, вдруг услышав их тихий разговор в темноте, очень заинтересовался. Ведь за Соней ухаживает не кто-нибудь, а сам редактор нашей газеты! Почему мама против? Наверно, Соне все ее подруги завидуют!
Теперь, когда мама вечером не занята, я стараюсь не уснуть. Накроюсь с головой простыней и делаю вид, что сплю. Иногда я незаметно засыпаю, а утром очень недоволен собой, потому что не знаю, то ли был разговор, то ли нет. Зато очень радуюсь под своей простыней, дождавшись этого разговора. Мама приводит Соне все больше и больше примеров «страшной» жизни русских. Были даже случаи, когда пьяный муж забивает жену до смерти. Соня уже не возражает маме. Она слушает молча. Иногда мама думает, что она спит и тормошит ее: "Ты слушаешь меня?". Соня отвечает: «Слушаю», – и опять молчит.
Но однажды Соню прорвало, и она дала достойную отповедь маминым уговорам:
– Ну сколько раз надо тебе говорить, что Макар не такой! Неужели ты ничего не хочешь понять? Он же не простой неграмотный рабочий, не возчик мусора и не Терешка-пьяница (это она о нашем соседе). Макар – образованный человек! Неужели ты этого не понимаешь? Вот Ася Гольдберг рассказывает, как за ней русские парни ухаживают. Они лезут сразу обниматься. Она от одного насилу убежала. А Макар столько времени провожает и ни разу меня пальцем не тронул. Идет рядом и рассказывает про свою деревню, про родителей, про брата, как учился. Он, мама, совсем другой, он – хороший. Вот увидишь, – заканчивает она уверенно.
– Ну, смотри сама, – говорит мама, – потом пеняй на себя!
Через несколько дней Соня привела Макара в наш дом. Мы впервые увидели ее постоянного поклонника. Красивым, конечно, его не назовешь. Обыкновенный крестьянский парень, светловолосый и белобрысый, как и все белорусские парни, которые все детство и юность проводят в поле под жгучими лучами солнца. Глаза и тоненькие брови выражали какую-то внутреннюю обиду, а губы и подбородок – твердую волю и решимость. Высокий лоб и короткий чуб ежиком. Вот и весь его портрет. Одет он был в светло-серый костюм. Под пиджаком – белая рубашка и коричневый галстук.
Вначале я даже разочаровался в таком женихе. По моим представлениям он и на редактора-то не был похож. Редактор – это ведь тот же писатель. Я видел его однажды в школе: высокий, красивый, с большим, нависающим на лоб, черным чубом. Ничего похожего Макар не представлял. Все было в нем до обидного просто и обыкновенно. Однако, когда он улыбнулся, лицо его сразу преобразилось: оно стало добрым и благожелательным. Из своей половины дома вышли дядя Симон и тетя Сарра. Все стали знакомиться с Макаром.
Потом они меня и младшую сестру Сашу попросили выйти на кухню, а сами стали рассаживаться вокруг стола. О чем они там говорили, я не знаю, но утром уже всем стало известно, что скоро у Сони будет свадьба. И пошли приготовления к свадьбе. Макар дал маме много денег, и не обходилось ни одного дня без покупок. Спальню с видом на Днепр обставили всем новым: и новой кроватью, и новым шкафом, и новым столиком, и новыми стульями. В доме царило предпраздничное настроение. Ничего подобного у нас никогда не было. Все соседки, Сонины подруги каждый день забегали на минутку посмотреть новые покупки и желали Соне долгих лет счастья и благополучия.
А что творилось во время свадьбы, вообще невозможно описать. Дом наш превратился в проходной двор. Беспрерывным потоком приходили и уходили люди, большинство из которых я никогда в глаза не видел. Никогда бы не подумал, что так много людей в городе знают нашу семью.
Свадьба затянулась до полуночи. Наверно, ничего подобного наш дом не испытывал за всю свою историю. Даже когда здесь была свадьба у моей мамы. Правда, тогда ее мало кто знал.
С приходом Макара Усовика в наш дом, жизнь наша изменилась к лучшему. Соня стала домохозяйкой. Она аккуратно готовила завтраки, обеды и ужины. Хотя я не придавал значения еде, но все же жить стало веселее. Быть домохозяйкой Соне очень понравилось. Она с удовольствием бегала по магазинам и на базар и покупала все, что ей хотелось. Затем стряпала, убирала в доме и в свободное от хлопот время примеряла свои обновы перед зеркалом.
Удивительно, как женщины быстро перевоплощаются в домохозяек! Вместе с Макаром у нас в доме появились две вещи, о которых мы и мечтать не могли. Это были велосипед и телефон. Велосипедом я пользовался, как говорится, на всю катушку, с утра до вечера. А телефон оказался ненужным. Ни у кого из моих друзей и товарищей телефона не было. Было жалко, что стоит без толку такая хорошая вещь.
А Макар целыми днями не бывал дома. Даже Соня стала жаловаться тете Сарре: что это за муж, мол, рано утром уходит и в полночь возвращается, а она целый день одна. Нас она уже не считала. Дело доходило до ее знаменитых вспышек. Но на Макара они не действовали. Он ее успокаивал:
– Ладно, ладно, не сердись, – говорил он ей с добродушной улыбкой, – я же тебе много раз рассказывал, какая у меня работа. Зачем же сердиться?
– А когда ты ухаживал за мной, – говорит обиженно Соня, – ты же находил время гулять со мной. Мы в кино ходили, и в театр, а теперь совсем никуда не ходим.
– Зато я тогда ночами не спал, а теперь сплю ночью. Не сердись, выберемся как-нибудь и в кино, и в театр.
Соня успокаивалась. Что делать, если у него действительно такая «сумасшедшая» работа. Макар уходил на работу в восемь часов утра, а возвращался в полночь, а то и позже. Но на обед он приходил каждый день в одно и то же время. Быстро пообедав, он выходил во двор, ложился спиной на зеленую траву и читал учебник "История ВКП(б)". Но жара оказывала на него усыпляющее действие, и через десять минут он уже спал, накрыв лицо книгой. Усталость все-таки давала о себе знать. К концу обеденного перерыва ему кто-то звонил из редакции, и он уходил или уезжал на велосипеде в свою редакцию до полуночи.
Иногда он приносил домой центральные белорусские газеты «Звезда» и "Советская Белорусь", в которых были напечатаны его маленькие статейки, и говорил с улыбкой, что его заметки страшно урезают там, т. е. в Минске, в редакциях этих газет. Но мама, да и соседи по дому, гордились им и за эти маленькие статейки. У мамы теперь сложилось абсолютно противоположное мнение о Макаре.
Теперь мама только и знала, что хвалила Макара.
– Вы знаете мою Соню, – говорила она собеседнице, – это же нервный клубок, вспыхнувшая спичка, как рассердится, так такое наговорит, что потом сама не рада, а он ей все прощает и успокаивает. Такого мужа ей не найти бы среди всех евреев города, – помолчит и добавляет, – и кто бы мог подумать, что среди русских есть такие трезвые и хорошие парни!
Некоторые соседи, которые раньше осуждали маму за то, что она разрешила Соне выйти замуж за русского, теперь разочарованно приумолкли. Факты были против них.
Оставим на время Соню и вспомним о моем старшем брате Лазаре, третьем обитателе по старшинству нашей половины дома. Удивительно, но о нем у меня самые короткие воспоминания. У меня до сих пор такое впечатление, что он крайне редко бывал дома. Только что приходил ночевать.
Был он крепким, красивым парнем с прямым острым носом и выдающимся вперед подбородком. Серые глаза и высокий лоб делали его не по летам серьезным и взрослым. У него был густой чуб, аккуратно зачесанный на затылок. Ростом он был ниже среднего, но зато широкоплечий. Был он вечно занят: то в школе, то по комсомольским делам, то пропадал в библиотеке, то у товарищей. Дома он задерживался за редким исключением, а со мной играл и того меньше. Наверно характером он пошел весь в маму. Как и мама, он был очень активным общественником, вечно выполнял какие-то комсомольские поручения. Учился он не так, как я. Он входил в группу из четырнадцати человек, мальчишек и девчонок. Они собирались на дому, чтобы готовить уроки, по очереди у каждого члена группы.
Я хорошо помню, как они рассаживались у нас вокруг большого стола и делали домашние задания. Кто-то один решал вслух задачу и диктовал решение. Кто-то другой читал историю или географию, и все тихо и внимательно слушали. Когда домашние уроки были сделаны, брат тут же объявлял об открытии комсомольского собрания. И тут начинался шум невероятный. Речь шла о комсомольцах, которые плохо учатся. Но никто не мог дослушать товарища до конца. Все перебивали друг друга. Сколько не просил их брат вести себя тише и спокойнее, никто не слушался. Шум принимал такие размеры, что выходила из своей половины дома тетя Сарра и спрашивала:
– Почему такой шум? Вы же друг друга не слышите! Разве так занимаются?
Воспользовавшись заминкой, брат подводил итог этой дискуссии: нерадивым ученикам объявляется предупреждение. После этого переходили к вопросу о международном положении. Какой-то Борис докладывал о том, что вычитал из газеты. Он говорил, что в Германии к власти пришли фашисты, что там идет суд над болгарским революционером Димитровым. Потом он рассказывал о забастовках в капиталистических странах, о нашей солидарности и т. д. Расходились по домам, когда на улице начинало темнеть. Брат уходил вместе с ними. Ему еще надо было побывать в библиотеке.
Через много лет, вспоминая эти групповые занятия брата, я каждый раз удивлялся, что у этих пятиклассников были какие-то взрослые интересы. Например, в нашем пятом классе международным положением интересовался один только Яша Гуревич и то, наверно, потому что брат у него был лектором. Может быть такое происходило оттого, что они занимались группами и все были комсомольцами. Или общественная зрелость наступала быстрее у ровесников Октября?
Однажды брат забыл на столе свою заветную толстую тетрадь. Он ее ото всех прятал. Мне говорили, что брат в школе читает свои стихи со сцены. Но мы учились в разных школах, и я ни разу его не слышал. Заглянув в его тетрадь, я был просто поражен. Никогда не думал, что у него так много стихотворений. И все только на политические темы: об Октябрьской революции, о Ленине, о гражданской войне, о трагедии трипольских комсомольцев, о Парижской коммуне… Это было для меня настоящим открытием. Стихи брата мне очень понравились. Они захватывали революционной романтикой. Я читал их с большим интересом и не услышал, как в зал вошел брат.
– Кто разрешил тебе трогать мою тетрадь? – спросил он строго.
– Она здесь лежала, – ответил я виновато, – я и посмотрел.
– Больше не трогай эту тетрадь, все равно ничего не поймешь.
Удивительно, он был в пятом классе и уже считал себя взрослым и все понимающим человеком. Нам теперь это трудно понять. Правда, ему уже четырнадцать лет было. Дело в том, что брат начал учебу еще в хейдере у ребе. Была такая форма учебы на дому у учителя. Брат успел испытать все ее прелести, хотя это было уже при Советской власти. Этот ребе за каждую провинность нещадно сек учеников розгами. Среди взрослых этот метод считался правильным.
– Кто не прошел через розги ребе, тот человеком не будет! – говорили они.
Брат мой прошел через эти розги и поэтому с опозданием начал учиться в советской школе. Но это тогда не имело значения, так как все его ровесники были в таком же положении. После пятого класса брат поступил в зооветеринарный техникум где-то под Минском. Учиться там было очень трудно. С продуктами было очень плохо. Мама хоть и посылала ему посылки, но это бала капля в море. На каникулы он приезжал бледный и худой, вечно недовольный нашей едой. Мама очень переживала, но что она могла сделать, если другой еды у нас не было. Так он и уезжал опять на учебу, толком не поправившись.
Но два года прошли, и он стал зоотехником. Направили его на работу в какой-то южный район Минской области. В письмах он писал, что обслуживает 32 колхоза, что постоянно мотается по дорогам, еле успевает из одного колхоза в другой. Весь дом переживал за неудачно выбранную им профессию. Но брату жизнь вообще не улыбалась, наверно. Однажды он прислал письмо, в котором сообщал, что дом, где он снимал квартиру, полностью сгорел, когда он был в очередной командировке. Все его вещи сгорели. Но не вещей, писал он, ему жалко, а двух тетрадей со стихами. Конечно, он не показывал своих переживаний, но я-то хорошо знал, как он дорожил этими тетрадями…
Осенью тридцать седьмого года его призвали в армию. Попал он в артиллерийский гаубичный полк, который базировался в Краснодаре. Месяца через три он попросил маму прислать ему две рекомендации для вступления в партию большевиков. Такие рекомендации мама взяла на работе у своих знакомых Шеера и Плоткина. Еще через полгода он уже писал, что стал членом ВКП(б), а спустя еще некоторое время, что его выбрали членом полкового комитета. Он прислал нам фотографию, на которой он выглядел внушительным командиром орудия. "Служба идет хорошо", – сообщал он и просил, чтобы мы не беспокоились, если он некоторое время не будет писать писем. Как потом выяснилось, их перебросили в Днепропетровскую область на Южную Украину.
Вместе со своим полком он принимал участие в освобождении Западной Украины, когда фашистская Германия вероломно напала на Польшу. Там его чуть не женили. Он писал, что местные евреи, узнав, что он еврей, сватали ему необыкновенных красавиц, но он благополучно от них отбился. Здесь, в Рогачеве, его ждала Сарра Рубинчик, соседка с нашей улицы.
Когда я уже был в армии, весной сорок первого, он прислал мне письмо, в котором писал, что через три месяца демобилизуется и поедет домой. Это было его последнее письмо…
Теперь немного о пятом обитателе нашей половины дома, о младшей сестре Саше. Она появилась у нас после неудачного повторного замужества мамы. Отец Саши, дядя Григорий, после развода стал жить в доме младшего маминого брата Ефрема по нашей же улице. Он часто навещал дочь, принося ей всякую вкусную еду. Поэтому сестра росла крепкой и полной девочкой. Первые мои неприятности из-за младшей сестры были в том, что меня всегда заставляли ее укачивать. Это было не так просто, потому что, насколько я помню, она никогда не хотела спать и при этом плакала в голос.
Надо учесть, что я тоже был маленьким, всего на три года старше Саши. Я с трудом дотягивался рукой до верхнего края детской кроватки. К ножкам кроватки были прикреплены полудуги, благодаря которым кроватка и качалась. Однажды, когда мне особенно хотелось быть на улице, а сестра никак не засыпала, я, рассердившись, сильно раскачал кроватку и выпустил ее из рук. Кроватка упала на бок, и плачущая сестричка выкатилась на пол. От неожиданности она и плакать перестала, но затем подняла такой крик, что сбежались все, кто был дома. Я не на шутку испугался. Мама набросилась на меня с криком, хотела наказать, но ее удержала тетя Сарра. Она сказала, что я случайно выпустил из рук кроватку.
– Что вы хотите от него, – сказала она маме, – он же еще сам ребенок. Его самого еще надо укачивать.
И все сразу успокоились. Удивительная женщина была наша соседка тетя Сарра. Она всегда находила нужные слова, которые держали наш дом в постоянном мире и спокойствии.
Сестричка постепенно подрастала, и выяснилось, что у нее предобрая душа. Я уже говорил, что ее отец часто приносил ей сладости. Иногда он сидел и ждал, пока она их съест. Но чаще он уходил, и тогда Саша всем делилась со мной.
Когда ей было годика четыре, мы решили с ней попробовать курить. Нам тогда казалось, что папиросы можно сделать просто из бумаги. Мы так и сделали. Я скрутил тоненькую папироску, а сестричка – потолще. Мы вставили папиросы в рот, я зажег спичку и поджег папиросу себе и ей. Мы даже не знали, что надо втягивать дым в рот. Мы просто держали эти папиросы во рту и смотрели, как они постепенно сгорают. У меня горел маленький огонек, а у сестры – большой. Я даже позавидовал ей. Огонь у моей папиросы медленно продвигался ко рту, а сестры – быстро. Вот он уже у самого рта, и тут она закричала от боли: огонь обжег ей нос. Хорошо, что в соседних комнатах были взрослые. Даже ее отец был у Ривкиных. Горящая папироса упала под стол, из носа у сестры пошла кровь, а я не знал, что делать. Тетя Сарра схватила Сашу и положила на диван, а дядя Григорий затоптал папиросу, схватил со стола стакан и приставил его под нос Саше. Стакан стал наполняться кровью. Я перепуганный убежал в сарай и там спрятался.
А через несколько дней Саша заболела. Наверно, потеря крови не прошла бесследно. Пришел врач, осмотрел Сашу и объявил всем, что у нее скарлатина. Наша соседка, ни слова не говоря, схватила меня за руку и потащила на свою половину дома, тщательно закрыв за собой дверь, заперла ее на ключ и заткнула щели тряпками.
– Теперь ты будешь жить у нас, – предупредила она меня, – смотри, чтоб туда, – она указала на нашу половину дома, – не ходил ни в коем случае, у твоей сестры заразная и опасная болезнь.
– А как же моя мама, – говорю я ей, – как же я буду без мамы жить?
– Мама будет здесь же, в нашем доме, – объясняет тетя Сарра, – только она будет на вашей половине дома, а мы – на нашей половине. Маме, Соне и Лазарю эта болезнь неопасна, а тебе – опасна. Поэтому ты будешь пока у нас жить. Как только Саша выздоровеет, ты опять вернешься к себе, на вашу половину дома. А пока, – повторяет она, – туда ни шага, а то тебе плохо будет.
Я понял ее, но без мамы все-таки плохо. Прибежала мама с работы и через дверь заверила меня, что она всегда будет рядом со мной, только за дверью. Насчет мамы я успокоился, но у тети Сарры стало сразу скучно: не с кем играть, не с кем говорить, негде бегать. У нее везде идеальная чистота и порядок. Мебель вся блестит, пол блестит, скатерть на столе как новая, на окнах – новенькие занавески, на комоде и тумбочках – белые салфетки, постель на кроватях в спальне сияет белизной. Ни у кого на нашей улице я не видел такой чистоты в доме. Разве что у Рубинчиков, но все-таки не до такой степени. Даже на кухне у тети Сарры чисто прибрано. Конечно, и семьи такой тоже на нашей улице не было: ведь они жили вдвоем. Притом тетя Сарра нигде не работала. Она была домохозяйка.
Вот эта чистота меня как раз и угнетала. Ко всему я боялся притронуться: как бы не запачкать. Даже на стул я боялся сесть, а вдруг после меня пропадет блеск. И по такому блестящему полу тоже не разбежишься: скользко. Одним словом, у тети Сарры мне стало скучно и одиноко. Вечером пришел с работы дядя Симон и очень обрадовался решению тети Сарры взять меня на время к себе.
– Наконец-то и у нас появился сыночек, – сказал он, поглядывая на меня веселыми глазами, – хочешь быть нашим сыном?
– Я мамин сын, – ответил я и посмотрел на него с подозрением. "А вдруг, – подумал я, – воспользуются тем, что сестра заболела, и заберут меня к себе. Соседи ведь говорили, что бог их обидел – не дал им детей". И как мне было не подозревать их в этом, если меня с первых лет жизни предупреждали, чтоб я от дома никуда не отходил, ибо кто-нибудь может меня украсть. Я же тогда не понимал, что это делается для того, чтобы я не потерялся. Мама меня пугала цыганами, а тетя Сарра при мне рассказывала маме страшные случаи, когда бандиты крали детей и делали из них лучшее в мире мыло. И я действительно в отсутствие взрослых боялся выходить на улицу и целыми днями играл во дворе при запертой калитке, время от времени заглядывая в дырочки забора, образовавшиеся от вылетевших сучков, чтобы увидеть цыгана или бандита с мешком.
Однажды я увидел в Первомайском переулке человека, похожего на бандита. Он был высокий, темнолицый, с небритым лицом, с насупленными густыми бровями. Он держал в одной руке мешок и шел прямо на наш забор. С замиранием сердца я ждал, когда он толкнет запертую калитку, чтобы убежать в дом. Но он дошел до нашего забора и вдруг повернул направо вдоль улицы, мимо нашего двора. Потом я опасался нищих, которые ходили из дома в дом с мешком за спиной. Конечно, взрослым моя боязнь была выгодна. Они знали, что далеко от дома я не убегу, но мне они нанесли большой вред, вселив в мою душу ненужный страх на всю жизнь.
Вот поэтому-то я встретил вопрос дяди Симона с подозрением и опаской. Но когда они на мой ответ вместе рассмеялись, я понял, что они просто шутят. Вскоре мы поужинали. Каша была рассыпчатая, вкусная. У нас дома такую не варили. Когда я ее быстро проглотил, тетя Сарра спросила:
– Наелся? Или еще дать?
Если бы так спросила мама, я бы, конечно, попросил еще каши. Но это была тетя Сарра, и я отрицательно помахал головой, хотя с удовольствием поел бы еще такой вкусной каши.
После ужина, когда тетя Сарра убрала со стола посуду и накрыла стол чистой скатертью, дядя Симон достал из книжного шкафа толстую книгу и углубился в чтение. Так у них проходил каждый вечер: тетя Сарра хлопочет на кухне, а дядя Симон читает книгу, и мешать ему нельзя. Стало тихо как в мертвом доме. Я сидел на стуле, скучая, и смотрел на полосатые обои на стене. Когда тетя Сарра управилась на кухне, она вошла в зал, посмотрела на меня и сказала:
– Ребенок уже хочет спать.
На что дядя Симон, не отрываясь от книги, согласно кивнул головой. И тетя Сарра стала стелить мне на тахте, которая стояла в зале. Раньше на ней спал дедушка, отец дяди Симона. Это был седой, маленький старичок с небольшой лопатообразный бородой. Он всегда был чем-то недоволен, и я ни разу не видел его улыбающимся. Однажды утром он оказался мертвым. Ни дядя Симон, ни тетя Сарра не плакали по нему и не горевали, как это обычно бывает, когда кто-нибудь умирает. Его тихо отвезли на кладбище и похоронили. Целое лето тахта у них стола без пользы. Никто на нее даже не садился. Теперь она пригодилась для меня.
Тетя Сарра постелила на тахту белые простыни, а я с тоской подумал, что тут же испачкаю их. Ведь я еще бегал по улице босиком. У себя дома я спал на дощатом топчане, на котором лежал серый соломенный тюфяк. Там я никогда не задумывался о том, что я его запачкаю. А здесь, увидев эти чистые белые простыни, я просто ужаснулся своих грязных ног. Но тетя Сарра все предусмотрела. Она повела меня на кухню, где уже стоял таз с теплой водой. Раздела догола, поставила в таз и помыла меня с мылом с ног до головы. Потом вытерла полотенцем и отнесла на тахту, сказав дяде Симону:
– Посмотри, каким он красавчиком стал! Дядя Симон оторвался от книги, подошел и, пощекотав меня по голому животу, улыбнулся и сказал:
– Молодец!
И не известно было, к кому это относится: то ли ко мне, то ли к тете Сарре. Так я стал жить на второй половине дома. Но все тут было в гораздо меньших размерах, чем у нас. В спальне тоже было окно с видом на Днепр. Но Днепр хозяев, наверно, не интересовал, потому что это окно было наполовину заставлено высоким комодом, и из-за него ничего не было видно. Меня это всегда удивляло. Почему они лишали себя такого приятного вида? Ведь смотреть на Днепр, на скользящие по нему лодки, на проходящие пароходы – одно удовольствие. Может им все это надоело на старости лет? Но разве Днепр может надоесть? В зале было два окна на улицу, а в маленькой кухне – окно во двор.
Жить здесь было очень скучно, но деваться было некуда, надо было потерпеть, пока Саша выздоровеет. Зато тетя Сарра готовила вкусную пищу. Питались они в строго установленное время три раза в день. И удивительное дело: дома я прикладывался к пище каждые два часа, хватая по мелочам, и целый день ходил вроде голодный. А у тети Сарры я ел три раза в день и никогда не чувствовал голода.
В пятницу утром у тети Сарры было больше всего работы. Она варила пищу на два дня. Они считались набожными людьми, и в субботу они не имели права заниматься делами. Даже если тете Сарре приносили в субботу денежный долг, она его в руки не брала, а просила положить деньги на подоконник, где они лежали до воскресенья. Дядя Симон был шапочником и работал в артели на углу улиц Советской и Базарной (ныне улица Фрунзе). Выходные дни были тогда по воскресеньям, но дяде Симону разрешали делать выходной день в субботу, а в воскресенье он работал.
К Ривкиным был отдельный вход со двора, и каждый день мама заходила и останавливалась на пороге. Трогать меня она опасалась и только спрашивала, как я здесь живу. Чтобы не обидеть тетю Сарру, я отвечал, что живу хорошо, хотя мне хотелось домой. Но мама меня и так понимала и каждый раз говорила, что скоро можно будет вернуться домой. Однажды вечером тетя Сарра сказала дяде Симону:
– Ребенок все время скучает, почему ты не займешь его чем-нибудь?
– А чем его занять? У меня уже не те годы, чтобы играть с ним в прятки.
– Научил бы его читать твои книжки. Все равно ему скоро идти учиться в школу.
– Это, пожалуй, можно, – говорит дядя Симон, – подойди-ка сюда, Левочка, – подзывает он меня к себе, – ты читать еще не умеешь?
– Нет, – говорю я ему, – я только знаю буквы.
– Тем лучше, – говорит он и, указывая на букву в книге, спрашивает, – это какая буква?
Я отвечал. Все буквы, какие он спрашивал, я знал.
– Молодец! Сарра, – говорит он жене, – подумай только, он и вправду знает все буквы! Почему же ты не читаешь, – обращается он ко мне, – это же легко.
Он читает строчку, но мне ничего не понятно. Какая-то белиберда.
– Фу, – смеется он и хлопает себя по лбу, – какой я осел. Я совсем забыл, что читаю по-древнееврейски. Жаль, – продолжает он, – но у меня в шкафу нет ни одной книги на еврейском языке. А древнееврейский слишком труден для тебя. Может попробуем?
Он объясняет мне, что в древнееврейском языке печатаются не все буквы, которые мы слышим, и чтобы читать все буквы, надо смотреть на точки и тире, которые стоят под буквами. Но все его объяснения не шли мне в голову. Ну как я мог читать слова, которые я никогда в жизни не слышал и, естественно, совершенно не понимал их значения. Это была для меня китайская грамота. Тетя Сарра поддержала меня.
– Не мучь его, Симон, он еще слишком мал для такого старого языка.
Так неудачно окончилась для меня попытка познать древнееврейский язык.
Проходили дни, прошли недели. Саша уже выздоравливала. Ее беготня в нашей половине дома была уже слышна мне, но врач еще не разрешал мне вернуться.
Однажды, когда дядя Симон был на работе, а тетя Сарра ушла на базар, я нарушил запрет и, сняв замок, чуть-чуть открыл дверь и высунул голову в нашу половину дома. Старший брат Лазарь сидел на полу и играл с Сашей. На полу лежали игрушки, которых раньше у нас не было. Первой меня увидела Саша. Она вскочила и запрыгала от радости около меня. Потом она стала показывать мне все игрушки, что ей купили, пока она болела. Больше всего мне понравились кубики. Брат переворачивал их на полу в разные стороны, и каждый раз получались все новые и новые звери. Вдруг кто-то схватил меня за ухо, втащил меня в зал и захлопнул дверь. Я не услышал, как вернулась тетя Сарра.
– Ну что ты за мальчишка, – выговаривала она мне беззлобно, – ты же знаешь, что открывать дверь пока нельзя, зачем же ты это делаешь?
Я стоял с опущенной головой, не зная, как оправдаться. Вечером пришел дядя Симон и тоже пожурил меня.
– Сам подумай, – говорил он, – мы берегли тебя почти целый месяц, и в самом конце ты можешь все равно заболеть, понимаешь, и получится, что мы напрасно берегли тебя. Я чувствовал себя виноватым со всех сторон, но тоска по родной половине дома была, наверно, сильнее меня.
Наконец, настал день, когда торжественно открыли дверь, и тетя Сарра сказала:
– Теперь ты можешь идти на вашу половину дома.
Я переступил порог и увидел всех наших: маму, Соню, Лазаря, Сашу и даже соседских девчат. Все стали обнимать, прижимать и хвалить меня, как будто я был невесть где, а не за дверью. Все пришли к выводу, что я здорово поправился и даже подрос. Мама сказала:
– Что же ты не благодаришь дядю Симона и тетю Сарру?
Я повернулся к ним и почему-то очень тихо произнес: "Спасибо вам". Они стояли оба улыбающиеся, довольные собой, как будто вернули меня с того света и вдобавок сделали из меня, по меньшей мере, принца. На этом закончилось мое недолгое «изгнание» из нашей половины дома во имя благополучия нашей семьи ко всеобщему удовольствию всего нашего дома. Жизнь в доме опять вошла в нормальное русло.
Я уже говорил, что наш просторный зал мог вместить многих соседей и знакомых без всякой тесноты. Это обстоятельство привлекало к нам постоянных гостей. Всем нравилось у нас посидеть и поговорить. Дело в том, что мама любила разводить цветы, и в зале у нас было много зелени. Цветами были заняты все подоконники. Цветы стояли на табуретках и скамейках, а один клен с обширной кроной стоял прямо на полу и верхушкой упирался в потолок. Мама очень гордилась им. Кроме того, мама обладала умением занимать всех разговорами. Со всеми она находила тему для беседы. Поэтому всех соседей тянуло к нам на посиделки. В зале у нас было просторно и в то же время уютно. Дом наш был вроде клуба на нашей улице. Чуть ли не каждый день, с утра до вечера, собирались компании. То приходили мои друзья, то – друзья брата, то – Сонины подруги, то – соседи.
Часто приходили к нам и мамины братья: Ефрем и Исаак. Под Исааком, как говорила мама, земля горела под ногами. Это значит, что он вел очень активную жизнь. А Ефрем, наоборот, был спокойным и медлительным. Исаак самостоятельно научился грамоте и постоянно стремился быть в начальниках, а Ефрем не умел даже расписаться и не спеша выполнял свою работу, – он был печником. Научил его этому делу мой дед со стороны отца. У дяди Исаака было трое детей, а у дяди Ефрема – пятеро. Оба хорошо зарабатывали и имели свои дома. Дядя Ефрем купил дом на нашей улице, на углу улиц Либкнехта и Социалистической, а дядя Исаак построил дом на улице Пролетарской, 41, между русским кладбищем и садиком им. Ворошилова. В этом садике стоял памятник Ленину.
Все мамины братья: и в Рогачеве, и в Бобруйске, – имели рабочие профессии: каменщики, печники, штукатуры и маляры. Только один Исаак в конце двадцатых годов был директором рогачевского ресторана. Исаак был ниже среднего роста, толстенький, с круглым лицом. Лицо у него было всегда красное, будто он только что вышел из парилки. Мама говорила, что он слишком часто пьет. Когда она ругала его за это, он всегда отшучивался: "Ну и что, я же никогда не бываю пьяным". Каждый раз, когда он заходил к нам, он приглашал меня зайти к нему в ресторан. Однако мама запретила мне ходить к нему в ресторан. Она говорила, что он скоро пропьет весь ресторан. Но мое любопытство взяло верх над маминым запретом.
И однажды я сам отправился к дяде в ресторан. Точно, где он находился, я не знал. Но дядя как-то объяснял, что надо идти по улице Циммермановской мимо городского сада, а потом смотреть на окна. Как увижу большие, широкие окна, так это и будет ресторан. Я так и сделал. Прошел мимо городского сада, мимо большого деревянного дома поликлиники, мимо больших ворот пожарной команды и следом увидел большие окна ресторана. Долго я стоял у дверей, не решаясь войти, но, в конце концов, все же вошел.
Первое, что меня поразило, это множество квадратных столов, накрытых скатертями. Почти все столы были свободны. Ко мне подошла красивая официантка в белом переднике и сказала мне, что сюда заходить нельзя. Я сказал ей, что здесь работает мой дядя Исаак Ронкин. Она молча ушла в глубь зала и скрылась за какой-то дверью. И тут я увидел выходящего оттуда дядю Исаака. Он шел ко мне и улыбался.
– Вот молодец, что пришел, – сказал он и, взяв меня за руку, подвел к одному из столиков, – садись, сейчас я тебя накормлю вкусным обедом. Маруся, – позвал он официантку, – накорми моего племянника, да повкусней!
Вскоре она принесла мне обед: суп, котлеты с кашей и компот. Но так много еды я даже у тети Сарры не ел. Дядя сидел напротив и подбадривал меня.
– Ешь, ешь, если не хватит, еще попросим.
Подошла официантка и спросила:
– И откуда у вас, Исаак Лазаревич, такой прелестный племянник?
Дядя сунул ей деньги в руку за обед и, улыбнувшись, ответил:
– Это сын моей младшей сестры.
Я в это время с трудом доедал вторую котлету. Все было вкусно, и оставлять не хотелось. Компот я выпил через силу.
– Наелся? – спросил дядя.
Я только кивнул головой. Говорить уже не было духа.
– Теперь беги домой и передай привет маме.
Я вышел на улицу со страшно тяжелым животом, перешел улицу и тихо побрел домой. Меня мучила какая-то неприятная тяжесть в животе. Как будто там не только что съеденный обед лежал, а тяжелые камни. Мысли мои были так заняты своим болезненным животом, что я уже ничего вокруг не замечал, и дорога к дому показалась мне очень длинной. Но вот и наш дом. Я вхожу на кухню и вдруг судорога сжимает мне горло, а изо рта выскочил фонтан из всего того, что я с трудом проглотил в ресторане. Мама всполошилась. Прибежала тетя Сарра. И обе в один голос спрашивают: "Что ты ел?" Но меня продолжали давить спазмы, и я не мог ничего сказать. Мама дает мне стакан с водой и просит попить воды. А я стою на коленях и не могу взять стакан, потому что руки стали какими-то непослушными, а в глазах – слезы.
– Может врача позвать, – говорит тетя Сарра.
– Боже мой, что же это с ним случилось, – причитает мама, она сует мне стакан в рот, я с трудом делаю глоток, и мучительные спазмы меня отпускают. Мне становится легче, и я тут же признаюсь, что был у дяди в ресторане. Мама взрывается потоком возмущения.
– Пусть он только появится теперь у меня! Я ему покажу, как перекармливать ребенка! Зачем ты туда ходил? – говорит она строго, – я же запретила тебе ходить в ресторан! Вот, – обращается она к тете Сарре, – я как будто чувствовала, что ресторан до добра не доведет.
– Слава богу, – говорит тетя Сарра, – что все хорошо обошлось.
Но мама не может сразу успокоиться. Она вообще сердита на своего брата. Вместо того, чтобы помогать ей, он все пропивает. Мама считает, что на пропитые деньги она могла бы прилично одеть своих детей. Она была очень недовольна им.
И мамины опасения все-таки сбылись. С дядей Исааком произошел из ряда вон выходящий по нашим понятиям случай. Он бросил жену и детей и стал жить с одной из официанток ресторана. Когда я услышал об этом, то мне почему-то подумалось, что он ушел к той самой официантке, которая встретила меня в ресторане и хотела повернуть меня на улицу. Уж очень она красивая была. Как к такой не убежать? Мама дядю Исаака ругала по-страшному.
– Вот она, водка, что делает, – говорила она тете Сарре с возмущением.
Ровно через месяц дядя Исаак прибежал к нам похудевший и бледный. Он ругал свою любовницу на чем свет стоит: она оказалась совсем не такой, как он думал. Он ругал свое начальство за то, что они сняли его с работы. От любовницы он ушел, и теперь он остался один и без работы. Дядя Исаак пришел к маме, чтобы она простила его за нечестный поступок. Он почему-то был уверен, что жена его простит, но ему очень нужно было, чтобы его простила моя мама. Но мама не хотела ничего ему прощать. Она сказала, что так ему и надо, что она его много раз предупреждала, что водка до добра не доведет, но он не хотел ее слушаться, и что теперь она его ни капельки не жалеет.
– Если бы я была твоей женой, – говорила она ему, – я бы тебя на порог дома не пустила. Глаза бы мои на тебя не смотрели, – добавила она и указала ему на дверь, – уходи и больше ко мне не ходи!
И он ушел, опустив голову, как провинившийся мальчишка. Если бы мама тогда могла предугадать, что она действительно больше никогда его не увидит, она не обошлась бы с ним так сурово. Всю жизнь она будет переживать свое суровое напутствие брату. Ходили слухи, что дела у дяди Исаака пошли совсем плохо. В начальники его больше никуда не брали, а от физического труда он отвык. Везде по городу его сопровождала плохая слава, и жить в Рогачеве ему было уже невозможно. Он продал свой дом и переехал в Жлобин. Больше ни его, ни его жены, тетю Нехаму, ни его детей: Лену, Лазаря и Исаака, мы не видели.
Младший мамин брат Ефрем бывал в нашем доме гораздо чаще, чем Исаак. Как я уже упоминал, он жил рядом на нашей улице: Либкнехта, 6. Жили они хорошо до 1931 года. Но вот пришел этот голодный год и подорвал все их благополучие. Был дядя Ефрем высок и худощав, весел и добродушен. С работы он всегда ходил мимо нашего дома, и мне всегда хотелось его встречать, потому что он, грязный и утомленный, приятно улыбался мне и говорил:
– А, Левочка, ну как жизнь?
– Хорошо, – отвечал я и тоже улыбался.
А все дело было в том, что дядя Ефрем мне очень нравился. Он был совершенно безграмотным и в то же время необыкновенным рассказчиком. Сказки он рассказывал самые невероятные, причем, сюжет одной только сказки мог растянуть на несколько недель, каждый вечер по два-три часа. Когда я говорил, что у нас по вечерам любили собираться соседи и знакомые, я забыл сказать, что одной из причин их стремления в наш дом была надежда послушать дядю Ефрема. Он рассказывал нам невероятные сказочные истории, и все сидели, затаив дыхание, готовые слушать его рассказ хоть всю ночь. Особенно нам везло на его сказки тогда, когда в магазинах исчезали папиросы и махорка. Дядя Ефрем был заядлый курильщик, и мама это учитывала. Она заготовляла впрок махорку и, когда махорка исчезала в магазинах, она приглашала младшего брата зайти вечерком покурить. Она знала, что без махорки его надолго в гости не заманишь. И дядя Ефрем приходил к нам курить. Как только он приходил и садился за стол, мама клала перед ним пачку махорки, папиросную бумагу, спички и ставила свое условие: пока он курит, он должен рассказывать сказки. Против этого он никогда не возражал, как будто у него этих сказок было бесчисленное множество.
Курить он любил обстоятельно, как и все, что он делал, не спеша и со вкусом. Закончив одну закрутку, он тут же заворачивал другую. И так весь вечер. Рассказывал он тоже не спеша, но без остановок. Он постепенно нанизывал своим героям такие удивительные и запутанные приключения, что все слушатели только диву давались. Содержание выдуманных историй так захватывало всех, что минутная остановка для сворачивания новой закрутки вызывала у самых нетерпеливых досаду и подталкивающий вопрос:
– Ну, дальше, дальше что было?
Дяде Ефрему нравилась заинтересованность слушателей, но спешить он не собирался. Довольный, он улыбался и неторопливо прикуривал новую закрутку от тлеющего окурка, а потом опять же неторопливо продолжал рассказывать о дальнейших приключениях своих героев. Мы не замечали, как пробегали два-три часа. И каждый раз нам казалось полной неожиданностью, когда он вставал и объявлял:
– На сегодня хватит! Поздно уже!
В первое мгновенье все молчат. Не доходит до сознания, почему в такой критический момент он вдруг прервал свой рассказ? Ведь корабль, на котором его герои отправились в далекое путешествие, терпит крушение. Люди тонут среди океана, моля о помощи. Почему дядя Ефрем остановил свой рассказ в такой опасный для героев момент? А что будет с ними? Неужели они погибнут? Все упрашивают дядю Ефрема хоть немного, хоть чуть-чуть продолжить рассказ.
– Не упрашивайте, – говорит им дядя Ефрем, – если я вам расскажу, как они спаслись, то завтра вы не придете дослушать мою сказку.
Все разноголосо уверяют его в обратном, но дядя Ефрем неумолим. Ведь завтра ему идти на работу – надо отдохнуть. Тогда все благодарят его за сказку и наказывают ему завтра непременно опять прийти. Дядя, улыбаясь, благодарит за махорку и, попрощавшись, уходит домой.
Прямо с утра и весь день я нахожусь под впечатлением вчерашней сказки. Пробую даже записать ее на подобие книги "Витязь в тигровой шкуре" Шота Руставели. Я ее прочел недавно. Даже у Пушкина не так складно написано, как у Шота Руставели. Целое утро я мусолил карандаш, но ничего хорошего так и не получилось. А вначале мне казалось, что все очень просто. Следует, конечно, учесть, что Шота Руставели – старик, а я учусь в третьем классе. Однако содержание сказки записываю, чтоб не забыть. Потом напишу ее в стихах. У меня уже шесть тетрадей со сказками дяди Ефрема. А перевести их на стихи я не могу. Не хватает нужных слов. От затруднений опускаются руки…
Целый день я с нетерпением жду вечера. Сижу на крыльце. Боюсь упустить момент, когда дядя Ефрем будет возвращаться с работы. Ко мне подходит Борис Драпкин, мой ближайший сосед и напарник. Он, оказывается, тоже ждет не дождется вечера. Я же говорил, что все ждут дядиных сказок. Только дети признаются в этом, а взрослые делают вид, что им все нипочем. Борис спрашивает:
– А придет вечером твой дядя?
– Должен прийти, если обещал, – отвечаю я, хотя меня самого гложет сомнение.
Но вот, наконец, показывается дядя Ефрем. Я бегу ему навстречу.
– А, Левочка, как живешь? – спрашивает он, как обычно.
– А ты придешь досказать сказку? – отвечаю я ему вопросом на вопрос.
– Конечно приду, – успокаивает он меня улыбаясь, – можешь не сомневаться.
И мне сразу становится легче. Я бегу домой и еще с порога кричу на весь дом:
– Он сказал, что придет!
И все прекрасно понимают, о ком я кричу. И дядя Ефрем приходит. И мама опять кладет ему махорку на стол. И он, сворачивая закрутку, с хитринкой в глазах, спрашивает, на каком месте он вчера остановился, хотя и сам хорошо помнит об этом. И когда несколько человек напоминают ему вчерашнюю концовку, он говорит:
– Теперь слушайте, что было дальше.
И опять течет его неторопливая речь, и опять приключения наслаиваются одно на другое, и опять все сидят с раскрытыми ртами, переживая и радуясь изменчивой судьбе героев сказочного рассказа. И каждый раз он заканчивает сказку счастливым исходом. И все, успокоенные и довольные, восхищаются умением дяди Ефрема рассказывать сказки.
Мама, как и я, любила своего младшего брата и обращалась с ним тепло и нежно. Каждый раз, когда дядя кончал сказку, она с любовью и удивлением спрашивала его:
– Ефремушка, откуда все это у тебя берется? Ведь ты совсем не умеешь читать?
На что дядя отвечал с неизменной мягкой улыбкой:
– Я и сам не знаю, плетется и плетется само собой.
Однажды, два года спустя, когда я уже учился в пятом классе, Ефим Фрумин, самый старательный ученик в нашем классе, рассказал товарищам про печника, который перекладывал у них в доме печь и одновременно рассказывал удивительные сказки. Я сразу догадался, о ком идет речь, ведь другого печника-сказочника во всем Рогачеве нет. А Ефим так и нахваливает его, так и нахваливает. Я не выдержал и с гордостью крикнул ему:
– Это мой дядя!
Ефим недоверчиво посмотрел на меня и сказал:
– Нет, у него другая фамилия, но я не могу вспомнить.
– Ронкин! – опережаю я его.
– Точно! – подтверждает радостно Ефим, Ефрем Ронкин. А почему же у него другая фамилия?
– Это младший брат моей мамы, – говорю я ему с гордостью, – а дядя Ефрем рассказывает нам длинные-предлинные сказки, иногда в течение двух недель подряд.
– Эх, – говорит с сожалением Ефим, – вот бы мне их послушать.
Так я узнал, что дядя Ефрем рассказывает сказки не только нам одним…
Дядя Ефрем был, как говорится, кустарь-одиночка. Время для кустарей кончилось, а он никак не хотел идти в ногу со временем, и это его погубило. Если бы он вступил в артель, все было бы совсем иначе, и не было бы никаких трагедий. Надеясь на свое мастерство, он продолжал работать в одиночку. У него все шло хорошо, пока люди жили хорошо, но вот в стране случилась беда: неурожай и, как следствие, голод. И у дяди Ефрема резко упали заработки. Когда продукты стоят дорого, людям не до красоты и удобств. Они сразу же забыли о том, что надо ставить новую печь, что нужно переложить или отремонтировать старую. Все мысли были о хлебе насущном. И дядя Ефрем стал почти безработным. И даже будучи в таком трудном положении, он все равно отказывался вступить в артель. До сих пор не могу понять почему. И началась у него полоса неудач. Подавленный этими неудачами и не найдя выхода из создавшегося положения, он стал все чаще и чаще прикладываться к сорокаградусной бутылке. Мама при каждой встрече говорила ему, что водка до добра не доведет. Но он ее слушал также, как и старший брат Исаак.
Дело могло кончиться плохо, если бы не постановление партии и правительства "Об образовании Еврейской автономной области". Профсоюзы бросили клич всем евреям страны, призывая их ехать обживать богатый дальневосточный край. И дядя Ефрем, как и многие другие евреи, решил попытать свое счастье в этом далеком крае нашей страны. Надо заметить, что дядя Ефрем был мужчина добродушный и добросовестный, но слабохарактерный и безвольный. Трудности, которые обычно выпадают на первых переселенцев, он до конца не смог выдержать и, проработав там только полгода, вернулся домой. Он говорил, что непривычному к тем условиям человеку там очень трудно жить, что там тучами летают какие-то гнусы, вроде наших комаров, но такие же большие, как мухи. Их укусы иногда доводят человека до какой-то болезни, когда у человека перестает двигаться рука или нога. И все же не это было главной причиной его возвращения, как говорил сам дядя. Просто там нет ни родных, ни близких (семью он оставил здесь), и ему там было одиноко.
Итак, поездка ничего не изменила. Целыми днями он ходил в поисках работы, но она редко попадалась. Семья его бедствовала. И его братья, и моя мама помогали ему, чем могли, но нужда от его семьи не отступила. Он приходил к нам уже не сказки рассказывать, а жаловаться на свою неудачную жизнь маме. Мама его корила за уныние и советовала вступить в артель. Но он не соглашался, ссылаясь на то, что в артели каменщики тоже плохо зарабатывают. Так мама и не смогла уговорить его переменить свой образ жизни. А у себя дома он все чаще стал говорить, что ему осталась одна дорога – в омут головой. Жена его, тетя Фрума, опасаясь его мыслей, посылала вместе с ним старших сыновей, когда он ходил на Днепр купаться. Но дядя Ефрем все больше катился по наклонной плоскости в этот самый омут. Редкие заработки он стал пропивать, совершенно не заботясь о семье. Мысль о самоубийстве не выходила из его головы. Слабая воля не смогла его образумить. Однажды, возвращаясь домой в пьяном состоянии, он, не дойдя до дома, свернул на наш пляж. Там он выбрал безлюдное место, разделся и вошел в воду.
Как потом рассказывали парни, которые катались на лодках недалеко от него, дядя Ефрем вошел в воду, пополоскался немного, нырнул и слишком долго не появлялся на поверхности воды. Почуяв что-то недоброе, парни направили свои лодки к тому месту, где нырнул мой дядя. Но он вдруг вынырнул и, увидев близко лодки с парнями, заулыбался им. А когда они отъехали, дядя опять нырнул. Парни уже не придали значения его долгому отсутствию, думая, что он просто хороший ныряльщик и, наверно, просто дразнит их. А дядя из воды так и не вылез. Рыбаки искали его до вечера, но так и не нашли.
Его обнаружили только на третий день, когда он всплыл в конце нашей дамбы, почти под мостом. Мальчишки рассказывали, что он лежал весь синий. Я не пошел смотреть, чтобы не испортить память о живом дяде. Проводить его до кладбища приехали из Бобруйска все братья и сестры. После похорон все они собрались у нас в зале. И здесь я услышал странные вещи. Оказывается какие-то евреи не разрешали хоронить дядю на кладбище. Хоть бросай его опять в воду. По их правилам выходит, что человек, который наложил на себя руки, теряет право лежать в земле рядом с теми, кто стойко прожил свою жизнь до конца. Ох, как дяди ругали тех евреев с их дурацкими правилами. Ведь мертвые сраму не имут! Только после того, как получили взятку, они разрешили похоронить дядю Ефрема за кладбищенской оградой, у самого обрыва.
Когда дяди изрядно выпили, они опять меня удивили. Женщины тихо плакали, а дяди как-то странно похохатывали. На кухне я спросил у мамы:
– Почему они хохочут?
– Дурачок, – ответила мама, – это они так плачут.
Первый раз в жизни я слышал такой плач.
Так, в силу неблагоприятных обстоятельств, безвременно ушел из жизни мой дядя Ефрем – добрый, талантливый сказочник. Семью он оставил в очень трудном положении. Его жена тетя Фрума – домохозяйка, а у нее на руках – пятеро маленьких детей. Положение – хуже некуда.
Поначалу они продали полдома. Потом им помогали многочисленные родственники. Затем государство определило им помощь на детей. И семья, хотя и с большими трудностями, выжила.
А теперь я хотел бы рассказать о моем деде со стороны отца Исааке Яковлевиче Липовском. Он никогда не жил у нас дома. Но тем не менее, я хотел бы именно в этой главе рассказать о его многотрудной и удивительной жизни. Все-таки он – старейший предок из рода Липовских, которого я видел и помню. И потом, самый интересный момент из своей жизни дед рассказал именно в нашем доме.
Итак, с моим дедом, Исааком Яковлевичем, я впервые познакомился, когда мне было лет пять, а деду – около семидесяти. Он жил в Быхове. Там же жила его дочь, сестра моего отца, Сарра, о которой я уже рассказывал. Она помогла маме вынянчить всех ее детей, пока отец воевал на полях империалистической, а затем и гражданской войн. Помните, эту тетю Сарру сосватали за вдовца в Быхове, и она уехала от нас. Вот к ней-то мама и решила послать меня погостить. Тетя Сарра, папина сестра, просила об этом маму в каждом письме. А тут подвернулся удобный случай: в Быхов ехала знакомая женщина, которая согласилась взять меня с собой.
Это была моя первая поездка на поезде. Наша железнодорожная станция находится на самой окраине городка. Станция хоть и маленькая, но красивая, сложенная из красных кирпичей, между которыми проложены ровные черные швы. По бокам станции – маленькие садики со скамьями для ожидающих. Если на нее посмотреть издалека, то она покажется вам красивым игрушечным домиком из кирпича. Вокруг станции – пустырь, а впереди за железнодорожным полотном – непроходимое болото, заросшее тиной и осокой. На некотором удалении от станции находится поселок рабочих лесопильного завода и картонной фабрики. К станции можно идти двумя путями: через специальный проход под железнодорожным полотном и мимо больницы, по краю болота. Все, конечно, выбирали первый путь, опасаясь топкого болота.
Провожая меня, мама все время напоминала этой своей знакомой, где находится в Быхове дом ее золовки, а женщина, ни капли не сердясь, каждый раз успокаивала маму: "Хорошо, хорошо, я уже запомнила". Наконец подошел поезд, и мы вошли в вагон. Все скамейки были заняты. Мы прошли вдоль всего вагона, и моя провожатая нашла себе свободное место, а я остался стоять около нее. Женщина напротив, рассмотрев меня, сказала ей:
– Какой у вас хороший мальчик, – и обращаясь ко мне, – иди садись рядом со мной, – она чуть-чуть подвинулась, уступая мне край скамьи. Я посмотрел на мамину знакомую, чтоб она разрешила мне сесть.
– Садись, садись, – сказала она, – ехать еще долго.
И хотя Быхов от Рогачева совсем недалеко, но мне действительно показалось, что мы едем очень долго. Ужасно утомительно сидеть на одном месте среди незнакомых людей, которые все время смотрят на тебя. Я не мог предположить, что в поезде так неудобно и трудно ехать. Хорошо, что все имеет конец. Кончилась и моя езда в вагоне поезда.
Мы вышли на перрон, и я увидел станцию, совсем не похожую на нашу. Вход на станцию был со двора. Со стороны железной дороги была только стена со множеством высоких окон. Кто это построил такую неудобную станцию? Мы обошли ее и двинулись по пыльной грунтовой дороге. Был уже полдень, и было очень жарко. По обеим сторонам дороги росла низкорослая рожь, огороженная от дороги только жердями, наверно, от скотины. Вдали виднелись деревянные дома. Мне почему-то показалось, что мы долго идем к этим домам. Это, наверно, от усталости. Когда мы поравнялись с первым домом справа от дороги, мамина знакомая остановилась и сказала:
– Вот дом твоей тети.
Я очень удивился такому совпадению: первый дом и вдруг дом моей тети. Я стоял в нерешительности, думая, что мамина знакомая хочет надо мной пошутить. Зачем же мама ей так подробно объясняла, где находится тетин дом?
– Ну, что ты стоишь? – спросила она с досадой, – это дом твоей тети Сарры, заходи!
А сама повернулась и пошла дальше. Чувство жалости к себе тронуло мое сердце: мне показалось, что эта женщина просто бросила меня на произвол судьбы. А я-то думал, что она меня передаст из рук в руки, а она почему-то ушла, оставив меня одного. А вдруг здесь не будет моей тети Сарры? И потом, я ее совсем не помню. Она ведь уехала от нас, когда мне и двух лет не было. И дом этот мне не понравился. Старый длинный дом, сложенный из толстых бревен и стоящий узким торцом на улицу. Со стороны двора на всю его длину – ни одного окна. Одна только входная дверь в середине. В торце на улицу – только одно окно. Не дом, а сарай какой-то. А вокруг двора кривые стойки и прибитые к ним жерди напоминают о том, что когда-то здесь была ограда. Я пожалел, что согласился сюда приехать. Что это за двор без забора? Это все равно, что нет двора. У нас в Рогачеве у всех есть заборы. Правда, у кузнеца Славина нет забора. Они говорили, что забор мешает крестьянам подъезжать к кузнице. Тут уж ничего не возразишь. Ведь жизнь их держалась на кузнице, она их кормила.
Однако, делать было нечего. Женщина, которая меня сюда привела, завернула куда-то за угол улицы и исчезла, и я, хочешь или не хочешь, пошел к дому. Двери дома были широко открыты. Я вошел в маленький коридорчик, а потом на кухню. Прямо на полу сидела женщина и две маленькие девочки. Все чистили картошку.
– Здравствуйте, – сказал я тихо.
– Здравствуй, мальчик, – ответила женщина, – ты зачем пришел? Я что-то не помню таких мальчиков у наших соседей.
– Я из Рогачева.
– Из Рогачева, – повторила она, удивляясь, – а к кому же ты приехал?
– К тете Сарре, – ответил я, начиная сомневаться, туда ли я попал. Ведь тетя никак меня не признавала. Если бы она меня нянчила, она бы давно меня узнала.
– Я – тетя Сарра, – сказала она, – но чей же ты, мальчик?
– Я – Лева, Ронин сын, – ответил я уже без всякой надежды и стал мучительно думать, как же я теперь один вернусь домой? Но услышав, что я Ронин Сын, тетя неожиданно легко вскочила и закричала на весь дом, всплеснув руками:
– Левочка! Дорогой мой! И как это я сразу не догадалась?
Она подбежала ко мне, легко подняла и поцеловала меня в обе щеки. Моя тревога сразу улетучилась. Наконец-то я почувствовал, что попал по назначению. А тетя Сарра продолжает удивляться.
– Я тебя совершенно не узнала, – говорит она, – ты стал такой большой. Боже мой, – продолжает она, – я тебя оставила вот таким маленьким, – она показала это ладонью, держа ее над полом на пятьдесят сантиметров. Какой ты стал большой! Ну, как там мама? Дети? Рассказывай. Дети, – обратилась она к своим девочкам, не ожидая моего рассказа о маме, – это мой племянник из Рогачева, помните, я вам рассказывала, как я жила в Рогачеве? Вот, Левочку я тоже нянчила. Смотрите, дети, не обижайте его. А картошку ты чистить умеешь? – спросила она меня.
– Умею, – сказал я, удивляясь ее разговорчивости.
– Раечка, – обратилась она к одной из девочек, – принеси ножик для Левочки.
Рая принесла мне ножик. И мы все стали чистить картошку, бросая ее в большой чугун.
– Молодец, Левочка, – сказала тетя Сарра, увидев, как я аккуратно чищу картошку, и обратилась к девочкам, – смотрите и учитесь, хоть он – мальчик, а вы – девочки.
Девочки засмеялись. Они, наверно, были очень смешливые. А тетя Сарра не переставала говорить:
– Сейчас придет мой муж, и мы будем обедать, – сказала она, – а потом надо обязательно показать тебя моему отцу и твоему деду. Ведь он тебя еще ни разу не видел. А пока, девочки, приглашайте Левочку во двор и погуляйте там.
Девочки повели меня во двор. Двор был совершенно пустой, заросший бурьяном, и делать на нем было нечего. Тогда Рая, она была, наверно, постарше и посмелее, позвала меня в кузницу. Она оказалась совсем рядом, по другую сторону дороги. Оттуда был слышен перестук молотка. Кузница представляла собой деревянный сарай с воротами почти на всю высоту стен. Войдя в эти ворота, девочки закричали:
– Папа! К нам приехал мамин племянник! Вот он!
Их папа был большой мужчина, весь закопченный, похожий на трубочиста. Он отложил молоток, которым работал, подошел ко мне и протянул большую бугристую руку, как мужчина мужчине.
– Здравствуй, сынок! – прогудел он басом, – когда же ты приехал?
– Только что, – ответил я.
– Ну, погуляйте немного, сейчас я закончу работу, и пойдем обедать.
Он взял щипцами какую-то железную деталь и сунул ее в тлеющие угли, а мы вышли на улицу. Сразу же за кузницей, огороженной жердями, чуть-чуть раскачивалась высокая пшеница. Смотреть на эту полоску было приятно. Среди желтой пшеницы радовали глаз голубые васильки. Я еще никогда не видел, как растет пшеница, из которой мама печет в пекарне белые булки и баранки. Это, действительно, красивое зрелище. Видя, что я засмотрелся на пшеницу, девочки похвастались:
– Это наша пшеница! Каждый год папа сеет ее здесь. Он сеет для красоты. Он говорит, что когда он выходит из кузницы и смотрит на пшеницу, то просто отдыхает.
В это время из кузницы вышел их отец, закрыл ворота и позвал нас на обед. На улице он показался мне еще больше, чем в кузнице. У нас в Рогачеве таких кузнецов нет. Настоящий богатырь!
Обедали молча. После обеда, когда дядя Павел ушел в кузницу, тетя Сарра поручила Рае и Оле мыть посуду, а меня посадила на диван, села рядом и стала расспрашивать про маму, про брата, про сестер и про наших соседей. Все, что я знал, я ей, конечно, рассказал. А потом тетя Сарра сказала:
– Завтра с утра девочки отведут тебя к дедушке, а вечером заберут опять к нам.
Я согласился. Потом девочки играли своими самодельными тряпичными куклами. Тетя Сарра возилась на кухне, а я рассматривал их дом. Оказывается, этот длинный дом делится на две половины. Одна половина, где они живут, а вторая половина – сарай. Причем, вход в сарай есть и с кухни, и со двора. Вход со двора я заметил не сразу. У тети Сарры было большое хозяйство: корова, куры, утки и свинья, которая без конца хрюкала в сарае так, что и на кухне было слышно. Все окна были у них с восточной стороны, где по утрам всходит солнце. И в кухне, и в зале, и в спальне стояла старая мебель. Ее, наверно, лет сто не меняли: такая же старая как и весь дом. Наверно, здесь жили не только родители дяди Павла, но и его дедушка с бабушкой. Из дивана выглядывали наружу несколько пружин. От всей обстановки веяло глубокой стариной. Такой же старой оказалась и корова со сломанным рогом.
Дядя Павел пришел домой, когда уже начинало темнеть. Мы попили молока с черным хлебом и легли спать. Мне постелили как раз на этом старом диване. Утром я проснулся, когда солнце вовсю освещало зал. Девочки стояли напротив и улыбались. Никогда раньше я так поздно не вставал. Вошла тетя Сарра и сказала:
– Быстрей одевайся. Надо спешить к деду, а то не застанете его дома.
После завтрака, который состоял из картошки с кислым молоком, девочки повели меня к деду.
Улицы Быхова ни в какое сравнение не шли с рогачевскими: все какие-то кривые, с ветхими домами, переулки такие узкие, что и телега не проедет. Девочки вели меня по какому-то запутанному лабиринту улиц. Но они шли так уверенно, что я не сомневался в том, что дорогу к деду они знают. Наверно, много раз туда ходили. Я бы давно уже запутался. За всю дорогу я не встретил ни одного кирпичного дома. Да, Быхов – не чета Рогачеву!
Наконец, мы остановились около довольно большого дома, из которого несся стук молотка, бьющего по жести. Наверно, это – здесь. Девочки с трудом открыли калитку, за которой сразу же вниз вели ступеньки. В небольшом дворике казалось, что мы находимся в яме. Через узенькую дверь мы вошли в подвальное помещение. Маленькое окошко настолько запылилось, что свет с трудом пробивался в подвал.
Когда мы вошли, я увидел около старика с бородой не совсем старую женщину. Одна кровать, небольшой шкаф и два стула у стола – вот и вся обстановка. Удары молотка по жести здесь были слышны еще больше, чем на улице. Похоже было, что прямо под потолком работал жестянщик. Сразу с дороги девочки закричали наперебой:
– Дедушка, мы привели к тебе Левочку из Рогачева!
– Неужели? – радостным, но слабым голосом воскликнул дедушка. – Подойди ко мне, внучек, дай-ка я посмотрю на тебя у окна, – позвал он меня.
Я подошел к нему. Стук молотка о жесть прекратился, и стало приятно тихо. Дедушка положил на мои плечи свои худые руки, повернул меня к единственному окошку и стал всматриваться в меня улыбчивыми глазами. Лицо у него почти все заросло рыжевато-седой бородой и все было испещрено тонкими морщинами. На голове у него был старый потертый картуз, а лацканы пиджака были запачканы жировыми пятнами.
– Смотри, Соня, – обратился он к своей жене, – он похож на Моисея, видишь?
Но тетя Соня безучастно стояла в стороне и смотрела на меня с каким-то безразличием, совершенно не разделяя радости деда. Дедушка отвел ее в сторону и стал о чем-то шептаться с ней. До меня только долетали отдельные слова: «одолжи», "он же ребенок", "сколько ему надо". Дедушка попросил меня выйти во двор погулять. Я вышел во двор и опять очутился, как будто в яме. Вокруг дворика – сарайчики, закрытые на замки, а улица, как будто на горе. Опять застучал жестянщик. Девочки, наверно, убежали домой, и я не знал, что мне делать. Было такое ощущение, что я напрасно сюда пришел, что я здесь лишний, что никто особенно мне не рад и никто не хочет уделить мне внимания. Я бы ушел назад к тете Сарре, но я боялся, что заплутаюсь в этих кривых улицах и узеньких переулках. Теперь придется ждать до вечера, когда за мной придут девочки.
Во двор вышел дедушка, маленький, худенький, но с очень доброй улыбкой. Он сказал, чтоб я погулял здесь, и что он скоро вернется. Удары молотка по жести разносились по всему двору и глушили все мои мысли. Как тут живет дедушка – было непонятно. Я здесь только полчаса, а уже не знаю, куда деваться от такой шумной работы жестянщика. Я не слышал, как ко мне подошел мальчик лет восьми, весь костюм которого был покрыт заплатами, а с картуза свисал надорванный козырек.
– Бабка сказала погулять с тобой, – сказал он с таким независимым видом, – тебя как зовут?
– Лева, – ответил я, радуясь, что нашелся человек, который готов помочь мне в моем одиночестве.
– А меня – Борис, – сказал он дружелюбно, – пошли за яблоками в церковный сад.
Удивительное явление: наверно, во всех городах мальчишки лезут в церковные сады за яблоками.
– А далеко? – спросил я, боясь все-таки затеряться в этом беспорядочном городке.
– Рядом, за углом нашего дома, – сказал он охотно, – пошли?
– Мне нельзя, – сказал я, думая о том, что испачкаю чистую матроску, но, увидев его грязный, заплатанный костюмчик, добавил, – я в гостях.
– Ладно, – сказал он, быстро соглашаясь, – раз тебе нельзя, то в сад залезу я, а ты постоишь на улице и свистнешь, если кто-то будет идти.
Мне ничего не оставалось, как согласиться. Церковь, действительно, оказалась рядом за углом дома, где жил дедушка. Удивительно то, что эта деревянная церковь была, как две капли воды, похожа на деревянную церковь в Рогачеве. Наверно, одни и те же люди строили. Даже ограды были одинаковые. Борис остановился у определенного места в ограде, где ему был известен лаз.
– Ты тут смотри и, в случае чего, дай мне знать, – сказал он мне, а сам подошел вплотную к ограде, сдвинул дощечку в заборе и пролез в сад.
Его долго не было. Хорошо, что в это время никто не прошел по улице, ибо я не знал, как предупредить его. Свистеть-то я еще не научился. Наконец, он вылез на улицу такой же спокойный, как и прежде, во дворе.
– Все в порядке, – сказал он и дал мне яблоко, – пошли теперь на речку.
Надкусил я яблоко и тут же выплюнул. Таких кислых яблок я еще не пробовал. В нашем церковном саду яблоки гораздо вкуснее. А Борис ест эти кислые яблоки и даже виду не показывает, что их есть невозможно. Привык он к ним, что ли? До речки было недалеко, но последние триста метров пришлось идти по сыпучему желтому песку. Ноги вязли в нем, как будто в грязи, в башмаки набился песок, и я их снял, но тут же опять их одел: песок обжигал ступни. А Борис шел босой и никаких неудобств не испытывал. С трудом я добрался до воды. Борис стал купаться, а я стоял и смотрел на него, на речку, на поле за рекой. Борис говорит, что это Днепр, а мне что-то не верится. Ничего похожего на Днепр у Рогачева. Нет высоких берегов, на которых расположен Рогачев, нет кустарников лозы вдоль берега, и сама река в два раза уже, чем у нас. В Рогачеве Днепр выглядит веселей, особенно у дамбы. А здесь какой-то пустынный, необжитой. Может этот желтый песок сузил его до крайности?
Почти весь день мы просидели у реки. Приятно в жаркий день побыть у реки. А когда мы вернулись, бабушка сильно отругала Бориса за то, что увел меня со двора на целый день. Девочки уже ждали меня. Так как у дедушки негде было ночевать, мы сразу же пошли к моей тете Сарре.
Когда тетя Сарра узнала, что я целый день ничего не ел, она возмутилась поведением бабы Сони.
– Ты только подумай, – говорила она дяде Паше, – какая она скаредная женщина. Впервые в жизни вижу такую скупую еврейку. Ни разу за целый день не покормить ребенка! Подумать только!
– Ну, что ты волнуешься, – успокаивал ее дядя Павел, – может быть, у них самих нечего поесть. Чтобы обвинять их, надо сначала узнать, в чем дело. И потом, что ты раскричалась, лучше покорми детей ужином.
Тетя Сарра спохватывается:
– Ну что у меня за язык такой? Пойдемте, дети, ужинать…
Вот такая неудачная встреча произошла у меня с дедом Исааком в первый раз. Я гостил у тети Сарры еще два дня, а он почему-то не приходил. Тетя Сарра говорила, что ему некогда, что он целый день занят в синагоге, где он работает за какие-то копейки служкой и сторожем.
– А что делать, – говорит тетя Сарра, – у него пенсии нет, а жить как-то надо.
У дедушки, если не считать моего отца, осталось два сына и дочь. Но они, наверно, плохо ему помогают. Тетя Сарра сама призналась, что она редко помогает отцу. Муж запретил ей раздавать его заработок.
В воскресенье девочки повели меня к каким-то дальним родственникам. Если я не ошибаюсь, то это была семья двоюродного брата дедушки, тоже Липовские. У них было много молодых девчат, разговорчивых и веселых. Я им всем очень понравился. Они все меня целовали, надавали конфет и очень жалели, что мне еще нет двадцати лет. При этом все хохотали и шутили. Они жили рядом с кинотеатром. Вскоре сестры решили показать нам кино и повели меня, Раю и Олю в кинотеатр.
Кинотеатр был у них деревянный, покрашенный зеленой краской. Внутри стояли грубо сколоченные длинные скамьи, как в плохом клубе. Кино оказалось настолько скучным, что я задремал и чуть не свалился на пол. Когда мы вышли на улицу, сестры во весь голос смеялись надо мной, но я не обиделся. Мне нравилась их веселость. Когда я тете Сарре рассказал, как я гостил у этих Липовских, она сказала:
– Им хорошо. Все устроены. Все работают. Живут хорошо, помочь двоюродному дяде не считают нужным.
После этого я понял, что нашему дедушке живется плохо. А в понедельник тетя Сарра и девочки провожали меня домой в Рогачев. Тетя Сарра купила мне билет, а когда подошел поезд, посадила меня в вагон и попросила проводницу высадить меня в Рогачеве. А там я уже знал, куда идти. Улицы в Рогачеве прямые, и любой дом можно легко найти.
Когда я благополучно вернулся домой, мама, увидев меня, очень удивилась.
– Почему ты так быстро вернулся домой? Что там случилось? Не заболел ли ты? – забросала она меня вопросами.
Я ей сказал, что там очень скучно, что мне не с кем там играть. Но постепенно, в течение последующих дней, я рассказал ей про бедность дедушки, про жадность его жены Сони, про веселых девчат Липовских, про крученный, некрасивый город, про пустынную речку и про многое другое…
Вторая и последняя моя встреча с дедом Исааком произошла ровно через шесть лет и имела довольно неприятное для меня начало. Дело в том, что во время голодных годов на нашей улице развелось много нищих. Если раньше ходили две женщины, то теперь их стало больше дюжины. Причем, многие из них были еще молоды и, скорее всего, как утверждала мама, притворялись больными, а на самом деле, они – просто лодыри. Мама им не доверяла и наказывала нам, детям, ничего нищим не давать и неизменно отвечать, что дома никого нет, и что у нас ничего нет. Сама мама им что-нибудь всегда выносила, а нам запретила.
Одним словом, как мама наказывала, так я всегда и делал. Всех нищих по нашей улице я знал в лицо и, как только они открывали дверь на кухню, я им сразу выпаливал: "Дома никого нет! У нас ничего нет!" Они поворачивались недовольные, а иногда даже сильно хлопали дверью. Наверно, сердились. Но меня это не беспокоило. Я точно выполнял наказ мамы.
И вот однажды, в наш дом вошел новый нищий, старый дедушка с седой бородой и палкой в руке. Руки и голова у него мелко тряслись, и у меня мелькнула мысль, что ему-то обязательно надо что-нибудь подать, но заведенная привычка взяла вверх, и я по обыкновению сразу отчеканил:
– Дома никого нет! У нас ничего нет!
Однако, дедушка не уходил, как это делали нищие. Он оперся дрожащими руками на палку и молча смотрел на меня улыбчивыми глазами. Я подумал, что он, наверно, плохо слышит, и уже громче повторил:
– Дома никого нет! У нас ничего нет!
На кухню прибежала младшая сестра Саша и посмотрела с любопытством на дедушку: какой-то странный дедушка, не хочет выходить из дома. А дедушка, продолжая улыбаться, спросил тихо:
– Где же ваша мама?
– Мама на работе, – ответил я.
– А где Лазарь и Соня?
– Их тоже нет дома, – ответил я и удивился: "Откуда он их знает?"
– А ты меня не помнишь? – спрашивает дедушка.
Я нерешительно покачал головой. В это время, услышав наш разговор, подошла наша соседка тетя Сарра. Она всегда прислушивалась к тому, что происходит на нашей половине дома: все-таки дети здесь почти всегда одни. Увидев дедушку, она поздоровалась с ним, как со старым знакомым. А дедушка, усмехаясь, шутливо пожаловался ей, что я никак его не узнаю.
– Чего с него взять, – сказала ему тетя Сарра, – несмышленыш еще, – и повернувшись ко мне строго продолжала, – это же твой дедушка приехал в гости, а ты его не узнаешь! Эх, ты!
Мне стало стыдно, и я покраснел до ушей. Теперь-то я тоже вижу, что это мой дедушка Исаак. Конечно, я когда-то был у него. Но разве я мог его надолго запомнить после той мимолетной встречи? Да еще в темной подвальной каморке. И был я тогда совсем маленьким. Но дедушка, видно, не обиделся на меня, потому что продолжал дружелюбно смотреть на меня и Сашу.
– Проходите, проходите, – пригласила его тетя Сарра к моему топчану, – садитесь и отдыхайте, Роня скоро придет с работы.
Она помогла ему сесть, забрала у него палку и картуз и, толкая меня к дедушке, сказала мне:
– Поздоровайся с дедушкой! Что ты вдруг набрал воды в рот! Сумел не узнать дедушку – теперь и узнать сумей!
К дедушке я подошел, но поздороваться после того, что произошло, не решился. Неудобно как-то было. Дед привлек меня к себе, прижал мою голову к своей седой бороде и стал гладить мои кудри.
– А это кто? – спросил он у тети Сарры, посмотрев на Сашу.
– Это дочь от Григория, второго мужа Рони, – сказала тетя Сарра.
Дедушка согласно закивал головой. В это время и вошла моя мама. Приезд деда ее и обрадовал, и встревожил. Дедушка все-таки был стар и слаб.
– Как это вы решились ехать в такую жару? – спросила она дедушку.
– Я на пароходе приехал, а около воды не бывает жарко, – ответил дедушка.
Тетя Сарра ушла к себе, а мама, разговаривая с дедушкой, начала собирать ему на стол что-нибудь перекусить. Она поставила ему тарелку с супом, усадила его за стол и предложил поесть с дороги, а сама стала рассказывать ему, как она работает иногда по две смены подряд, чтобы как-то прокормить детей. А дедушка с трудом подносил ложку с супом ко рту. Его рука дрожала, и суп расплескивался обратно в тарелку или на стол. Он ел и смотрел на нас веселыми и счастливыми глазами, как будто исполнилась его самая заветная мечта. Бесчисленное количество морщин, как будто лучи, расходились от радостных глаз. Глядя на него, можно было подумать, что дедушка прожил долгую и хорошую жизнь, хотя в действительности жизнь его была такая же тяжелая, как и у большинства людей-труженников, а в некоторых случаях и того хуже. За всю свою жизнь он не сумел нажить себе дома и вечно жил по чужим углам.
Родился он в бедной семье, в тот год, когда царское правительство под напором крестьянских волнений вынуждено было отменить крепостное право. Рано лишившись родителей, он прошел через все тяготы сиротства, трудясь на хозяев с утра до ночи за кусок хлеба. И никто не позаботился оформить ему документы на право жительства. Паспорта у него не было до пятидесяти лет, и он не был нигде прописан. Научившись ремеслу маляра и печника, он ходил по деревням и местечкам, нанимаясь на работу к местным жителям. Там где работал, там он и жил и питался. Много ли одинокому человеку нужно. Зимой снимал угол в Быхове и тратил деньги, нажитые за лето. Работа у него была в основном сезонная. За несколько лет он исходил Могилевскую и Минскую губернии вдоль и поперек. Все его знали, и никто никогда не спрашивал у него паспорт.
Но однажды он нанялся на работу к одному богатому хозяину в местечке Гревск Минской губернии. В большом доме жили только два человека – отец и дочь. Ее звали Света. Работы хватило на целый месяц, и за это время он и дочь хозяина полюбили друг друга. Хозяин, узнав об этом, метал громы и молнии.
– Никогда моя дочь не выйдет замуж за голодранца, да еще беспаспортного! – кричал он на всю округу. Он не дал Исааку закончить работу и выгнал его из дома, требуя, чтобы Исаак убрался из местечка, а не то он заявит в полицию, что у него нет документа на право жительства. А дочери он запретил встречаться с Исааком. Но любовь сильнее всех запретов. Исаак не ушел из этого местечка, и Света в отсутствие отца продолжала встречаться со своим любимым. Они решили пожениться против воли отца, но прежде Исаак должен был собрать необходимые средства, чтобы увезти Свету отсюда и создать свое гнездо в другом месте.
Исаак ушел на заработки. Он договорился со Светой, что вернется на следующее лето, но больше им увидеться не пришлось. Когда мой дедушка, тогда еще молодой парень, вернулся в это местечко с намерением тайно увезти Свету, он в корчме узнал, что Светы уже нет дома и, следовательно, ходить туда Исааку незачем. Больше того, хозяин корчмы ему рассказал, что отец Светы, религиозный фанатик, отправил дочь в Америку, а сам после этого не долго пожил – умер. Так, Исаак ушел восвояси.
Прошли годы. Раны этой любви затянулись, дедушка женился в Быхове, и у него появились девочка Сарра и мальчик Моисей. Вскоре жена дедушки умерла, и он ради маленьких детей женился во второй раз. Вторая жена родила ему двух мальчиков: Иссера и Володю – мои будущие дяди.
Когда дедушке было уже пятьдесят лет, ему при помощи знакомых, за взятку, удалось получить документ на право жительства. Пятьдесят лет он жил без паспорта. Пятьдесят лет он жил "без права на жизнь". Сказать кому – не поверят. Но при царизме бывало еще и не такое. А что стоит подписанный царем указ о "черте оседлости" евреев, по которому евреям разрешалось жить только на южной окраине Российской империи. Так что нет ничего необыкновенного в том, что мой дедушка жил столько времени без паспорта.
О первой романтической и возвышенной любви нашего дедушки, окончившейся так трагично, никто из нас не знал и не подозревал. И вот дедушка неожиданно приезжает к нам в гости. Говорит с мамой о том, о сем и кушает дрожащей рукой суп. Не доев еще и половины супа, дедушка вдруг заторопился, засуетился, встал из-за стола. Ему, оказывается, надо было успеть на пароход до Быхова.
– Зачем вы так торопитесь, – говорит ему мама, – побудьте у нас пару дней. Отдохнете, а потом поедете.
– Спасибо, – отвечает ей дедушка, – но мне обязательно надо сегодня же вернуться.
– Ну что за спешка, – говорит мама, – можно же до завтра побыть у нас, ведь вы еще не видели Лазаря и Соню.
– Нет, никак не могу, – настаивает на своем дедушка, – мне нельзя задерживаться. Где мой картуз и палка? Я подал ему палку, а мама – картуз.
– Я бы только попросил тебя, Роня, проводить меня до пристани, а то мне одному трудно ходить, – говорит он.
– Конечно, я вас провожу, – говорит мама, – но почему вы не хотите остаться – никак не пойму.
Но дедушка уже идет к дверям. Я тоже готов проводить его до пристани, но дедушка говорит маме, чтобы я не ходил с ними.
– У нас будет разговор по дороге, – говорит он маме, – не для детских ушей.
Ослушаться деда нельзя. Он слишком слаб, чтобы с ним спорить. Я нехотя остаюсь дома.
Вернулась мама домой очень возбужденная и сразу позвала тетю Сарру, чтобы поделиться с ней необыкновенной новостью. А новость действительно была, как говорят, сногсшибательная: у нашего деда нашелся сын, о котором он ничего не знал целых пятьдесят лет, полвека!
– Подумать только, – говорит с восторгом мама тете Сарре, – через пятьдесят лет найти сына, которого он никогда в глаза не видел!
По дороге на пристань дедушка рассказал ей историю своей первой любви и о том, как плачевно она закончилась. И вдруг эта первая любовь напомнила ему о себе через пятьдесят лет, когда дедушке было уже семьдесят четыре года.
Однажды, к дедушкиным знакомым пришло письмо из Америки от их родственницы, которая еще до революции уехала туда. Родственница писала им, что случайно встретилась в Америке со старушкой, которая когда-то тоже жила в Белоруссии. Встретились землячки и, естественно, разговорились, вспоминая свою далекую родину и все, что было с ней связано. Та старушка и рассказала ей, что в молодости очень любила одного человека, но отец выгнал его из дома, а ее силой отправил в Америку. При этом старушка раскрыла ей тайну, что от того любимого человека у нее родился сын, которого ее отец отнял грудным и куда-то отнес, и она до сих пор ничего не знает о судьбе своего ребенка. Старушка ей сказала, что тот молодой человек назывался Исааком Липовским. Вот родственница и спрашивает у них, не тот ли это Исаак Липовский, что проживает в Быхове.
Письмо показали дедушке, и он подтвердил догадку. Пошла переписка с Америкой. Дедушкина любовь Света просила дедушку узнать судьбу их ребенка. Она сообщила, что если дедушка Исаак будет искать своего сына, то пусть имеет в виду, что сын его родился со щербинкой на носу. И наш дедушка, будучи в преклонном возрасте, решился поехать в тот злополучный Гревск, чтобы проверить, не живет ли там его сын. А вдруг он живет там же?
И дедушка отправился в дорогу. Он приехал в районный центр и пошел на базар, чтобы поискать подводу до местечка, где он когда-то работал, жил и любил. Пешком идти, как он это делал в молодости, теперь ему было уже не по силам. Подвода не сразу нашлась, и он сел отдохнуть рядом с какой-то лавкой. Было еще рано, но базарная площадь постепенно заполнялась людьми.
К торговой лавке, у которой отдыхал дедушка, подошла женщина, очевидно лавочница, и стала открывать двери этой лавочки. Увидев старика, совсем незнакомого, она поинтересовалась:
– Откуда вы, дедушка? Кого ждете?
Дедушка объяснил ей, что ищет подводу на Гревск – ему очень нужно там побывать.
– Вам кто там нужен? – заинтересовалась женщина.
Интерес женщины воодушевил дедушку, и он с готовностью рассказал ей, что ищет сына, которого потерял пятьдесят лет назад. Рассказал он и о письмах из Америки, и о том, что ему необходимо проверить, живет ли такой человек в Гревске или нет.
Женщина почему-то заволновалась и стала запирать только что открытую лавку.
– Я, дедушка, тоже из Гревска, – сказала она ему, – сейчас я найду подводу и вместе с вами поеду туда.
Она ушла, а дедушка был рад, что эта женщина решила ему помочь. Вскоре она приехала с подводой, усадила поудобней дедушку, сама села рядом, и они поехали в Гревск. В Гревске женщина попросила остановить лошадь у высокого дома с крыльцом. На звук подъехавшей подводы на крыльцо вышел крепкий мужчина с небритым лицом и спросил:
– Хана, что случилось? Почему ты вернулась?
Дедушка, рассматривая мужчину, вдруг заметил, что на носу у него щербинка, и он сразу понял, что перед ним – его сын. А женщина, которая привезла дедушку, сказала:
– Отец, принимай гостя! Я привезла тебе твоего отца!
Она, оказывается, еще в райцентре догадалась, что этот старик – ее настоящий дедушка.
– Откуда ты знаешь, что это мой отец? – спросил он у нее, крайне удивленный.
– Можешь не сомневаться, – ответила дочь, – все сходится. Помоги дедушке слезть с подводы.
– Да, да, – подтвердил, волнуясь, дедушка, – щербинка на носу, – самая верная примета, что ты – мой сын!
Они обнялись и расцеловались. И слезы радости у обоих потекли по щекам. Ефим (так звали его сына) разволновался и вдруг закричал на всю улицу во весь голос:
– Люди, у меня нашелся отец! Вы слышите, у меня нашелся отец!
На крик сбежались все соседи и с изумлением смотрели на эту трогательную встречу отца и сына, которые нашли друг друга через пятьдесят лет. Тут же нашлись старики и старушки, которые вспомнили давнишнюю историю любви между бродячим печником и дочерью гревского богача. Дедушку пригласили в дом и здесь отметили эту удивительную встречу.
В разговорах за столом выяснилась вся жизнь дедушкиного первого сына Ефима. Ефим не помнил, кто его выкормил и вынянчил. Он помнил себя уже семилетним мальцом, которого все почему-то называли «подкидышем». Ни отца, ни матери он не знал и никто ему не говорил о них. Он жил у кузнеца и помогал хозяину в кузне. Когда он подрос, ему всем обществом определили фамилию по названию местечка. Так он стал Ефимом Гревским. В этом местечке он женился, вырастил детей и сам стал дедушкой. Сейчас он работал кузнецом в колхозе. Весь день и все последующие дни, пока дедушка гостил у нашедшегося сына, в дом приходили люди, чтобы посмотреть на дедушку и подивиться превратностям судеб человеческих. Через неделю дедушку проводили домой.
Вот такую историю рассказал дедушка моей маме, когда она его провожала на пристань. Через несколько лет дедушка скончался в Быхове на семьдесят седьмом году жизни. А историю первой любви дедушки мама много раз рассказывала соседям нашей улицы и своим знакомым. И все удивлялись необыкновенной дедушкиной судьбе. Шутка ли, через пятьдесят лет найти сына, внуков и правнуков, о которых он ничего не знал…
Когда маму приняли в члены Коммунистической партии, она с радостью и энтузиазмом устремилась навстречу новой жизни. О работе и говорить нечего – она считалась лучшим мастером по выпечке баранок и булок, а потом и хлеба. Все-таки она работала в пекарне чуть ли не с детства. Но и дома она делала все, что было в ее силах. Она самой первой по нашей улице провела в наш дом электричество. Правда, "лампочку Ильича" повесили только в зале, а на кухне и в спальне мы продолжали пользоваться керосиновыми лампами. Лампочка Ильича привлекла всех соседей. В частных домах она была тогда редкостью. По вечерам все заходили к нам и подолгу смотрели на эту тусклую лампочку и удивлялись:
– Как это она горит и светит без керосина? Неужели по черным проводам, которые протянули к нам от Циммермановской улицы, бежит огонь и свет?
Они хоть и завидовали нам – все-таки экономия керосина, – но сами пока не хотели расставаться с керосиновыми лампами. Они просто побаивались этого новшества. Им, конечно, было привычней возиться каждый день с керосиновыми лампами.
Потом мама провела в наш дом радио. Когда у нас в доме заговорил репродуктор, к нам в дом зачастили даже и те соседи, которые к нам почти никогда не заходили. В зале негде было сесть, и нашей соседке по дому, тете Сарре, приходилось выносить стулья из своей половины дома: неудобно держать соседей на ногах. Каждый вечер у нас собирались, как на праздник. Слушали и удивлялись:
– Как это слова из Москвы прилетают в наш зал? Даже в сказках ничего подобного не рассказывалось.
И каких только суждений тут не было. Сколько людей – столько мнений. Никто в этом радио ничего не понимал, и поэтому нам ничего не оставалось, как удивляться. Я, конечно, тоже места не находил из-за этого радио. Спал я на кухне на топчане, а черный репродуктор повесили в зале над диваном. Стал я просить маму, чтобы она разрешила мне спать на диване рядом с репродуктором. Мама возражала, говорила, что диван предназначен для гостей. Но я каждый день надоедал ей своей просьбой, и она в конце концов разрешила мне спать на диване бок о бок с репродуктором. Я был на седьмом небе от счастья.
Теперь радио говорило и пело мне прямо в ухо. И так каждый день до двенадцати часов ночи. А так как песни и музыку часто повторяли, то я в скором времени уже знал наизусть десятки песен и арий из опер и оперетт. Они стали сопровождать меня везде, куда бы я ни ходил. Вся душа моя была переполнена музыкой и песнями. Я постоянно жил в мире музыки. Я восторгался и турецким маршем Моцарта, и танцем маленьких лебедей Чайковского, и полонезом Огинского, и польками Шопена. Если на улице я про себя воссоздавал музыку и песни, то дома я их пел во весь голос, изо всех сил. И никто меня не ругал. А мама, смеясь, говорила соседям:
– Кто знает, может из него выйдет знаменитый певец, и он будет петь в театре, как герой романа Шелом-Алейхума "Блуждающие звезды".
Мама говорила, что она когда-то читала этот роман и обливалась слезами от жалости к героям. "Почему у певцов такая трагическая жизнь? – думал я, – ведь петь так приятно?" Мне очень нравилось пение Федора Шаляпина. Как я жалел, что у меня нет такого баса, как у него. Я бы тогда так же хорошо смог спеть и «Блоху» Мусоргского, и арию Фауста из оперы Гуно. Но зато у меня хорошо получались те песни и арии, которые пели артисты с более высокими голосами.
Так или иначе, но радио доставляло мне большое удовольствие. Я часто испытывал необыкновенное блаженство от его присутствия. Но прошли месяцы и годы, и я постепенно привык к нему, как привыкают ко всему новому, и вечером стал засыпать раньше, чем кончались передачи. Самым интересным было то, что репродуктор наш никогда не выключался. Как начинались радиопередачи рано утром, так и продолжались они до двенадцати, а то и до часу ночи. И никому они не мешали. Наоборот, когда бывали перерывы, то все спрашивали, почему радио молчит, не испортилось ли оно. Именно благодаря радио я был в курсе всех событий, которые происходили в нашей стране и за рубежом.
Вот каким был наш дом, в котором я жил и учился до призыва в Красную Армию.