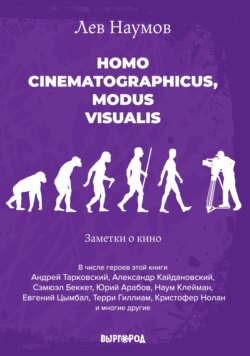Читать книгу Homo cinematographicus, modus visualis - Лев Наумов - Страница 2
«Время Луны» или Артодоксальный взгляд на кино[1]
Оглавление«Чем тщательнее скрыты взгляды автора, тем лучше это для произведения искусства», – сказал как-то Фридрих Энгельс. Двадцатый век воспринял как руководство к действию многие мысли этого немецкого философа, и данный тезис не стал исключением, тем паче, что, будучи вырванным из контекста, он допускает множество трактовок.
Вряд ли Энгельс мог предположить, сколь благодатным окажется проецирование этой мысли на неведомый ему тогда вид искусства – кино. Многие режиссеры – и работники идеологической сферы «важнейшего из искусств», и высоколобые творцы арт-хауса, и создатели ширпотреба – могли бы объединиться под сенью этих слов.
Интересно, что в своих выступлениях упомянутое высказывание неоднократно приводил Андрей Тарковский. Более того, в лекции о сценарном ремесле он трактовал его: «В моем понимании… речь идет о необходимости спрятать идею, авторский замысел, настолько глубоко, чтобы произведение приобрело живую, человеческую, образную форму, художественный смысл, в котором преобладает художественный образ, маскирующий смысловой тезис».
Как возникает кинообраз? Какова его природа? Многие теоретики и практики кино задавались и задаются этим вопросом, солидаризируясь разве в том, что генезис кинообраза иррационален, вероятно, непознаваем и не формализуем. Большинство такой ответ вполне устраивает.
При том, что попытки объяснения природы всего сущего умещаются между Сциллой креационистского взгляда и Харибдой эволюционного, казалось бы, создание кинореальности – сугубо креационистский процесс. Традиционное, классическое (или ортодоксальное, в свете названия настоящей статьи) воззрение на него состоит в том, что кино почитается композитным творчеством, союзом иных видов искусства. Под «союзом» имеется в виду, скорее всего, триумвират визуального, звукового и литературного начал.
Принято считать, что кино, в первую очередь, – искусство визуальное. Его предтечи, живопись и фотография, внесли посильный как эстетический, так и технологический вклад в формирование кинематографа еще в момент его зачатия.
В период «совершеннолетия» на авансцену вышел второй компонент – звук, как правило, – музыкальное сопровождение фильма. Впрочем, сопровождение ли? «Бедствием немого кино были ненужные надписи, бедствием нынешнего – ненужные диалоги», – заявил как-то создатель жанра музыкального фильма французский режиссер Рене Клер.
Однако, с точки зрения генезиса, первейшим «союзником» кино, казалось бы, является все-таки литература. Кинокартина берет свое начало в сценарии, то есть в тексте, в литературном произведении. По крайней мере, фильм начинается с идеи, с задумки, которая даже в голове автора, как правило, формируется и предстает в виде высказывания на неком языке. «Язык так же древен, как и сознание», – писал все тот же Энгельс, правда, на этот раз вместе с Марксом.
Однако соль в том, что эти родственные связи между разными видами искусства не просто условны, а скорее даже эфемерны. Критерии качества литературы или музыки не стоит проецировать на литературные и музыкальные составляющие кинокартины.
«Полет Валькирий», прослушиваемый в концертном зале или дома, создает совершенно иную эстетическую картину, чем он же в качестве сопровождения летящей эскадрильи подполковника Килгора из «Апокалипсиса сегодня». Этот совершенный кинообраз слился в такой монолит, что уже давно существует отдельно от фамилии Вагнер. Кроме того, нередко фильмы требуют музыкального оформления, которое, будучи воспринимаемым без визуального ряда, сошло бы скорее за казус или какофонию.
Что до литературной компоненты, то еще в 1940 году великий Орсон Уэллс чуть было не пустил под нож один из самых удивительных кинообразов в истории кино – «розовый бутон», таинственный гештальт гражданина Кейна. Прочтя сценарий, предложенный его соавтором, Германом Манкевичем, Уэллс категорично отреагировал на эту помесь пошлости и фрейдизма. На бумаге, возможно, так бутон и выглядел, особенно если принять во внимание, что Уильям Рэндольф Херст, прототип Кейна, именовал так прелести своей любовницы, дивы немого кино Мэрион Дэвис. Однако представьте, что было бы с картиной, многократно признававшейся лучшим фильмом всех времен и народов, если бы здравый литературный взгляд взял верх?
Другой пример. Флобер так заканчивает «Искушение святого Антония»: «…День, наконец, настает, и, как подъемлемые завесы шатра, золотые облака, свиваясь широкими складками, открывают небо. В самой его середине, в солнечном диске, сияет лучами лик Иисуса Христа. Антоний осеняет себя крестным знамением и становится на молитву». Достаточно конкретный и представимый финал, все понятно.
Нужно сказать, что Андрей Тарковский собирался поставить одноименный фильм. Этому проекту (как, к несчастью, и многим другим задумкам Андрея Арсеньевича) не суждено было осуществиться, однако в его дневнике остались наброски: «Финал – неудержимые рыдания (от невозможности гармонии внутри себя) Антония, которые постепенно переходят лишь в судорожные вздохи, всхлипывания, постепенное успокоение, в то время как взгляд его впитывает секунда за секундой расцветающую красоту мира: рассвет, замершая природа, вздрагивающие деревья, гаснущие звезды и свет с Востока, освещающий эту красоту жизни».
Попытка формализовать кинообраз на языке литературы выливается в стенограмму комплексного переходного процесса с казуальными связями, подчас ведомыми лишь автору. Вы могли бы представить и главное – показать неудержимые рыдания от невозможности гармонии, переходящие в судорожные вздохи и успокоение, а также расцветающую красоту мира, которую при этом секунда за секундой впитывает взгляд?
Такой текст допускает бессчетное множество не только трактовок, но и представлений порождаемых в сознании образов. И только автор прочтет здесь между строк довольно банальные, казалось бы, вещи: какой должен быть свет, какой план, какие декорации и кто мог бы сыграть святого Антония. В этом смысле «читатель» литературного сценария находится в вызывающем сочувствие положении слепца, которого ведет по музею торопливый, чрезвычайно занятый своими мыслями экскурсовод, лишь походя упоминающий остающиеся позади картины.
У кино свой собственный язык. Киноязык, как средство выражения определенной художественной реальности, – это язык кинообразов. Он довольно молод и очень стремительно развивался. Те преобразования, которые претерпели его словарь, грамматика и синтаксис за 116 лет существования, происходили с вербальными языками за многие века и даже тысячелетия. Французский мыслитель Жак-Анри Бернарден де Сен-Пьер был, бесспорно, прав, утверждая, что «языки обогащались необходимыми словами лишь настолько, насколько обогащались они идеями». Очевидно, что в «важнейшем из искусств» приток идей когда-то был неимоверен.
История киноязыка знала периоды расцвета, словоблудия, упадка и косноязычия. Формировались диалекты, аналитики пытались систематизировать уже сделанные высказывания, спрогнозировать те, которые напрашивались… История кино уже подошла к удивительному, таинственному, впервые возникшему моменту, когда багаж созданных образов и освоенных жанров стал таким грандиозным, что молодое искусство может себе позволить долго вариться в собственном соку. За любым «новым» киновысказыванием силами авторов, критиков или зрителей нетрудно выстроить шлейф предтеч. А киноведы и историки уже сейчас не могут справиться с созданием некой антологической системы, претендующей на полноту. То ли еще будет.
Что уж говорить о вызывающих извечные споры для всех видов искусства критериях качества? Герой книги Роберта Пирсига «Дзен и искусство ухода за мотоциклом» Федр сломал множество копий, пытаясь понять, что такое «качество» само по себе. Хотя, абстрагируясь от этого вопроса, и мы, и он можем легко сравнивать два близких по назначению и воплощению объекта, после чего выбрать более «качественный». Тем не менее принято считать (и снова – ортодоксальный взгляд), что дуалистическая, техническая «качественность» объективна, в то время как творческая – субъективна, хотя, например, для классической живописи консенсус, казалось бы, достигнут.
Киновед Сергей Филиппов резюмирует в своем труде «Два аспекта киноязыка и два направления развития кинематографа»: «Невозможность объяснить, почему очевидно великий фильм является великим – далеко не единственная методологическая трудность, возникающая у историков… Не менее серьезная проблема состоит, например, в невозможности отделить фильмы хорошие, но не имеющие значения для развития кино, от принципиально важных для последнего фильмов. Все эти осложнения имеют не только историко-теоретический характер, но также распространяются и на прикладную сферу: отсутствие единой концепции истории кино приводит к тому, что в среде кинематографистов и в обществе в целом практически отсутствует культурная иерархия различных видов кинематографа».
Да и какое может быть согласие в эпоху, когда все, казалось бы, изменилось и происходит не так, как раньше. Один из самых «классических» с точки зрения драматургии фильмов последнего времени – картина Ларса фон Триера «Меланхолия» – воспринимается зрителями очень неоднозначно. Создается впечатление, будто типовые приемы перестают работать. «Большое кино» погрязло в сиквелах и ремейках, предпочитая иметь дело с историями, проверенными временем (впрочем, тут причины довольно очевидны). Виртуозные сценарные идеи и сюжеты возникают нынче в сериалах, жанре, который еще двадцать лет назад считался низшим. Колоссальным оплотом оригинальной мысли является незаслуженно малоизвестная на Западе японская анимация.
Отсутствует единый взгляд почти на все. До сих пор нет согласия, например, в том, фильм какой длительности следует считать короткометражным, а какой – полнометражным. «Среднеметражную» категорию выделяют только в отдельных странах.
Что же остается неизменным? Говоря о ядре сюжета, инвариантные свойства сформулировал режиссер-новатор Сесиль Блаунт Де Милль: «Людям нужны секс, кровь и Библия». Впрочем, особой оригинальности в этой мысли нет, на две трети, в части «первичных влечений» к Эросу и Танатосу, она принадлежит Зигмунду Фрейду и имеет существенно более общий смысл. Но, что касается кино, так было всегда и, скорее всего, так и будет, несмотря ни на какие внутривидовые или межжанровые перипетии.
Нельзя сказать, что в наши дни наблюдается период застоя. Вовсе нет. Напротив, кино идет в разные стороны одновременно, правда, к сожалению, в основном – по уже давно проторенным дорожкам. И, да, несомненно, самая поверхностная, видимая его часть вприпрыжку скачет по шоссе сугубо развлекательного жанра, но сейчас речь не о том, хотя именно в данном факте многие находят признаки «нового времени» в истории обсуждаемого искусства. Новое время, несомненно, наступило, причем уже довольно давно. Новое время требует новых действий, о которых речь пойдет далее. А его приход обусловлен двумя следующими обстоятельствами.
Во-первых, акт творческого созидания – действие, в котором Автор создает мир или универсум сообразно своим замыслам. Факт «богоподобия» Автора в этом процессе нередко обсуждался философами, а также теоретиками и практиками искусства. Однако из всех разновидностей творческой деятельности именно литература и кино наиболее близки к тому, чтобы создавать полноценную реальность. И если возможности литературы на этом поприще не менялись с момента ее возникновения, то кино за последние десятилетия сделало огромный скачок в сторону расширения и совершенствования своих средств. Более того, современное кино (в отличие от того, которое было, скажем, полвека назад) способно демонстрировать миры, сколь угодно отстоящие от действительности, населять их произвольными существами, давая Автору практически безграничные возможности Создателя.
Кроме того, литература полагается во многом на изобразительные свойства фантазии читателя, делая его сотворцом художественной вселенной, по крайней мере, в деталях. Кино же – цельный мир, создаваемый исключительно по воле и представлениям Автора. Иными словами, прочтя книгу, каждый «увидит» свое. При просмотре фильма все видят одно и то же, что, конечно, не исключает возможной разности трактовок.
Второй признак «нового времени», который необходимо отметить, заключается в том, что еще недавно кино было недоступным «волшебным миром», вход в который осуществлялся строго по пропускам. Однако технический прогресс практически аннулировал этот ценз. Еще в 1995 году Ларс фон Триер и Томас Винтерберг опубликовали манифест «Догма 95». Эстетика этого проекта может вызывать вопросы и неприятие, как и многие принципы. Однако иные тезисы неоспоримы: «Сегодняшнее буйство технологического натиска приведет к экстремальной демократизации кино. Впервые кино может делать любой». Этот манифест – один маленький шаг для двух европейских режиссеров и гигантский прыжок для большого искусства в сторону независимых фильммейкеров.
В 2000 году Джордж Лукас, представитель кардинально другой эстетики, выступил с заявлением, что готов снимать вторую часть «Звездных войн» на цифровую камеру высокой четкости, если она будет способна запечатлеть 24 кадра в секунду в прогрессивной развертке. Для его нужд незамедлительно сделали аппарат Sony HDW-F90 °CineAlta. Разумеется, он стоил и стоит на порядки дороже бытовых «мыльниц», однако это было начало. На подобные камеры потом снимали Фрэнсис Форд Коппола, Джеймс Кэмерон, Квентин Тарантино, Роберт Родригес и многие другие.
В свете этого вернемся к разговору о киноязыке и языке вообще. Трудно спорить с Блезом Паскалем: «Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают». Тютчев формулировал еще категоричнее: «Мысль изреченная есть ложь». Несмотря на то, что это утверждение отказывает в истинности и себе, понятно, что именно автор имел в виду. Возникает вопрос: большое ли благо в том, что богатство технических возможностей дает шанс «изречь свою мысль» всем подряд?
При взгляде из настоящего времени на технологию кинопроизводства прошлого века становится не по себе: вопреки всем сложностям, проблемам, рискам, трудоемкости и необходимости огромных временных затрат, в свет выходило множество шедевров. Как известно, например, на фильм «Сталкер» существенно повлияли технологические проблемы с первым негативом, снятым оператором Георгием Рербергом. Однако то, что раньше требовало нескольких недель работы целой лаборатории, сейчас можно сделать в цифровой студии за минуты.
Но почему же тогда количество картин такого уровня в наши дни не просто не увеличилось, а скорее наоборот? И это во времена, когда технология, казалось бы, аннулировала столь многие препятствия для их создания… Зачастую причины находят в мощном потоке вторичных произведений, мешающих рассмотреть стоящие.
Американская писательница Сьюзан Зонтаг сказала, что «кинокамера всех нас превращает в туристов, глазеющих на чужую жизнь или на свою собственную». Теперь в этом тезисе «кино-» можно заменить на «видео-», что увеличивает множество туристов и сложность их маршрутов в разы.
Андрей Тарковский: «Если бы мы могли совершенно не принимать в расчет все правила и общепринятые способы, которыми делаются фильмы, книги и прочее, какие бы замечательные вещи можно было бы создавать! Мы совершенно разучились наблюдать. Наблюдение мы заменили деланием по шаблону…» С годами это утверждение только набирает актуальность. И если ортодоксия – «правильное учение», то нам бы хотелось ввести термин «артодоксия» – учение (если к подобной конструкции применим данный термин), в котором, как пел Борис Гребенщиков в песне «Время Луны», нет правил. Главным мерилом может быть разве сила производимого картиной впечатления, но, хвала небесам, для точного измерения этой силы динамометра пока не придумали.
Антон Павлович Чехов 25 ноября 1892 года писал Алексею Сергеевичу Суворину: «…Писатели, которых мы называем вечными или просто хорошими и которые пьянят нас, имеют один общий и весьма важный признак: они куда-то идут и Вас зовут туда же, и Вы чувствуете не умом, а всем своим существом, что у них есть какая-то цель, как у тени отца Гамлета, которая недаром приходила и тревожила воображение. У одних, смотря по калибру, цели ближайшие – крепостное право, освобождение родины, политика, красота…, у других цели отдаленные – бог, загробная жизнь, счастье человечества и тому подобное. Лучшие из них реальны и пишут жизнь такою, какая она есть, но оттого, что каждая строчка пропитана, как соком, сознанием цели, Вы, кроме жизни, какая есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть, и это пленяет Вас». Это актуально вовсе не только для писательского ремесла. От жизни, какая она есть, от документальной ее составляющей, до жизни, какой она должна быть, осмысленной художественно, от «док» до «арт» или от «арт» до «док» – вот диапазон при артодоксальном взгляде на произведение искусства.