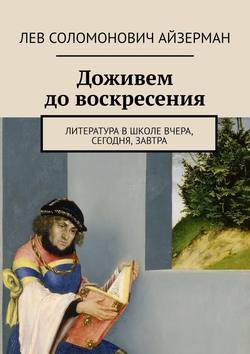Читать книгу Доживем до воскресения. Литература в школе вчера, сегодня, завтра - Лев Соломонович Айзерман - Страница 5
Часть первая
Прессинг экзаменов
ОглавлениеНиколай Иванович Пирогов, великий хирург и великий организатор народного образования, в своих замечаниях на отчеты морских учебных заведений в 1856 году написал: «Я почти ежегодно убеждаюсь, что экзаменационное направление в наших училищах вредно, оно возбуждает наклонность учащихся учиться для экзаменов, а не для науки».
Другой выдающийся деятель русской школы, Владимир Яковлевич Стоюнин, в статье, посвященной памяти Пирогова, особо отметил, что Пирогов считал необходимым «истинное знание науки отделить от официально-школьного знания, которое он называл экзаменационными и классно-переводными».
А в статье самого Стоюнина о русской школе, перечитывая сейчас его однотомник, я встретил слово, от которого аж вздрогнул: баллопромышленничество. Это не Стоюнин изобрел такое слово. Он взял его из статьи педагога Роббера, напечатанной в «Русском вестнике», во втором номере за 1859 год.
О том же печалился и Василий Иванович Водовозов: «Но тщедушное руководство лежит по-прежнему на столе, и его непременно следует вызубрить. Таким образом, экзамен почти никогда не соответствует тому, чем занимается мыслящий преподаватель в классе».
Много раз обращался к этой теме на рубеже веков и Василий Васильевич Розанов. «Учитель прежде всего готовит учеников к экзамену, за успешность которых он формально отвечает перед начальством, да и ответственен перед учениками». И получается, что «мотив испытания зрелости – ревизионный, а не педагогический». А посему «центр тяжести преподавания переносится на сплошное, компактное, торопливое усвоение фактов, фактов и фактов: фактов географических, фактов исторических, даже фактов Божественных, но всегда и везде непременно факты, без всякого около них размышления».
С болью говорил о том, что даже Божественное приносится в жертву вызубренному, выученному отец Иоанн Кронштадтский: «Закон Божий не есть предмет преподавания. К евангельскому слову нельзя подходить с позиции исполнения программы, выставления оценок и ответов на экзамене. Результаты такой постановки учения – поистине чудовищны. Есть учебники, в коих по пунктам означено, что требуется для спасения души человеческой, и экзаменатор сбавляет цифру балла тому, кто не может припомнить всех этих пунктов… Где, наконец, и прежде всего – вера, о коей мы лицемерно заботимся» (Цитирую по книге Натальи Петровой «Повседневная жизнь русской школы от монастырского учения до ЕГЭ». М., 2016.)
Не знаю, как вы, но я, читая Иоанна Кронштадтского, думал о преподавании литературы и ЕГЭ по литературе.
В последнее десятилетие экзамен в школе стал играть такую роль, которую он никогда в ней не играл. Ибо впервые в истории русской школы от результатов этого экзамена зависит поступление в высшее учебное заведение. Больше того, не просто поступление, а поступление на бюджетное отделение, ибо для части поступающих платное отделение не по карману.
Отсюда массовое репетиторство, платные занятия, которые определяют готовность к экзаменам, огромное количество книг по подготовке к экзаменам, сборники готовых сочинений, сборники произведений классики в кратком изложении, лавина интернет-шпаргалок. А в школах сплошь и рядом методика преподавания заменяется методикой сдавания.
Давным-давно огромным успехом пользовалась книга Натальи Долининой «Прочитаем „Онегина“ вместе». Теперь – серия «Сдадим литературу на 100 баллов». От «прочитаем вместе» к «сдадим» – тот путь, который мы стремительно прошли.
Но вот чем все это еще обернулось. Оказалось, что при таком раскладе можно вообще этого самого «Онегина» и не читать.
Вот некоторые директора школ и предложили своим учителям в 11-х классах сократить уроки литературы, и даже вообще оставить их только на страницах журнала, а все часы перебросить на русский язык: литературу сдают 5% выпускников, она не плодоносна, а русский язык сдают все, и, главное, у всех этот результат учитывается при поступлении в вуз. Получил такое предложение и я. Но думал, что это все так, издержки, крайности. А потом прочел в выступлении тогдашнего (с 21 мая 2012 года по 19 августа 2016 года) министра образования и науки Дмитрия Ливанова, что это явление массовое. И вот что характерно: никто из родителей не возразил. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Поистине, сатана там правит балл.
Меня потрясло сообщение Минобрнауки, которое я прочел в «Независимой газете» от 27 сентября 2016 года: «Результаты ЕГЭ не могут служить поводом для наказания муниципалитета, школы или отдельного педагога. Они должны корректно анализироваться и использоваться исключительно для повышения качества образования». Все так, все верно. Но что же делать при неудачах, не лучших результатах? «Учитывать разработанные Рособрнадзором методические рекомендации для подготовки к ЕГЭ по всем предметам и демоверсии экзаменационных материалов».
Итак, чтобы лучше сдавали экзамены, нужно, выходит, лучше готовиться к экзаменам. Работая городским методистом Москвы, я за 10 лет посетил около тысячи уроков. И хорошо знаю, что именно на уроках и формируется знание, и именно в них истоки незнания. И причины тут разные: плохая подготовка самого учителя, неинтересные и скучные уроки, а сегодня и ученики, для которых русский язык неродной и которые плохо понимают учителя. Вот на урок-то и нужно прежде всего идти. А лучше всего – задолго до экзаменов.
Вы видели, как бежит на соревнованиях спортсмен к прыжковой яме? Тут дело во многом в разбеге. А мы все толчемся – бортики у самой ямы. А разбег – это культура, начитанность, креативность, умение понимать прочитанное и умение излагать свои собственные мысли.
Итак, выходит, что главное – это результат, тот результат, к которому приводят экзаменационные баллы. Отсюда бесконечные мониторинги, репетиции экзаменов, бесчисленные тренировки на уровне натаскивания.
Но вот в чем самый главный вопрос. А какова содержательная полнота, научная выверенность, педагогическая правильность тех заданий, которые и приводят к баллам на экзамене? До этого качественность заданий и ответов учеников на эти задания проверялась довольно просто. В центре подготовки к экзаменам (не бесплатно, конечно же) проверяли, как, насколько готов выпускник к предстоящим экзаменам. Потом экзамен. А затем в ряде вузов дали задания такого же типа, как было на экзамене. И если все сходилось, то есть три было равно трем, а потом вновь тем же трем, то считалось, что мы получили выверенную истину.
А я вспоминаю такой случай из моей жизни. Врача что-то смутило в моей флюорографии. Конечно, проще всего было повторить снимок. Но он пошел другим путем. Сделали рентгеновский снимок. Потом ряд анализов крови. И после всего этого доктор тщательно выслушал меня, проверяя легкие. То есть он подходил со всех сторон. А в школе, что на уроках, что у репетитора, что в Интернете, что на курсах, за редким исключением, долбят одно и то же. Посмотрите сборник с материалами для подготовки к ЕГЭ: в них по 30 и даже 60 абсолютно однотипных заданий. Вот их и делают одно за другим до остервенения. Когда при подготовке к экзаменам я принципиально уходил от самой экзаменационной модели, скажем, предлагал сравнить описание Полтавского сражения в поэме Пушкина со стихотворением Лермонтова «Бородино», а «Бородино» с другим стихотворением того же поэта – «Валерик», или стихотворение Блока «Незнакомка» со стихотворением Маяковского «Нате!», мне порой ученики говорили: «А зачем? Этого же на экзамене не будет».
Наивно думать, что шахматисты, готовясь к соревнованиям, только и делают, что с утра до вечера играют в шахматы. Они и бегают, и плавают, и играют в теннис, и музыку слушают, и книги читают, укрепляя свою и общефизическую, и общедуховную подготовку, и свой творческий потенциал.
И так получилось, что именно в Год литературы жизнь устроила вот такую всестороннюю проверку на прочность и глубину ЕГЭ по литературе. Проведя этот экзамен через четыре испытания, очень серьезные испытания.
В 2014, 2015 и 2016 годах впервые все экзамены были проведены строго, требовательно, честно. В этой связи стали говорить о том, что теперь-то мы получили объективные данные, узнали, каковы реальные знания учащихся. Думаю, что это не так. Все дело не только в том, КАК проведен экзамен, хотя и это очень важно, но прежде всего в том, ЧТО именно он проверял. Объективность экзамена – это понятие не только процедурное, хотя, конечно, и процедурное, но прежде всего сущностное. Что же показал Год литературы? Итак, четыре экзамена для ЕГЭ по литературе.
Первый. В №12 журнала «Новый мир» за 2014 год и в №3 за 2015 год были опубликованы две статьи о ЕГЭ по литературе, которые, на мой взгляд, имеют знаковое, принципиальное для школы значение. Поскольку обе статьи легко найти в Интернете, я могу быть краток. Впервые ЕГЭ по литературе, а может быть, и вообще ЕГЭ, был подвергнут строго научному и публичному анализу, в данном случае – с точки зрения литературоведения, способов разработки заданий и процесса проверки.
Доктор филологических наук Лия Бушканец привела нас к печальному выводу: для того, чтобы успешно сдать этот экзамен, не нужно владеть даже элементарными навыками анализа текста, не нужно любить литературу, понимать произведение, не нужно уметь видеть художественность смыслов. Для этого нужно только одно: быть подготовленным к выполнению экзаменационных заданий. Это приговор ЕГЭ по литературе. А поскольку у нас сегодня сплошь и рядом на уроках учат прежде всего тому, что потом будет на экзаменах, то это и приговор преподаванию литературы. Вы скажете, что литературу сдают лишь 5% учеников школы. Неважно. Экзамен показывает, что именно от нас хотят получить на уроках литературы. Другое дело, что еще с XIX века у нас учитель литературы может учить тому, что надо, а перед экзаменами давать советы, как писать экзаменационное сочинение. Ведь экзамены имели значение только для школьной аттестации и не влияли на поступление в институт. Сам я был именно таким учителем. А поскольку Бог меня миловал, и ни один мой ученик не сдавал ЕГЭ по литературе, то я этот период в истории нашей школы пережил легко.