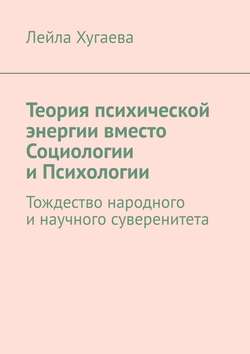Читать книгу Теория психической энергии вместо Социологии и Психологии. Тождество народного и научного суверенитета - Лейла Хугаева - Страница 5
Часть первая.
Дух
Глава 3. Кант и его коперников переворот в философии духа
Оглавление1. Коперниковый переворот Канта
2. Абсолютная свобода практического разума
1. КОПЕРНИКОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ КАНТА
«Рассудок не черпает свои законы из природы, а предписывает ей».
И. Кант
«Идея разума, для которой может быть нет никакого примера в опыте!»
И. Кант
Рационализм формулировал силу сознания, духа в его способности к познанию объективных закономерностей. Существуют законы природы, независимые от воли людей. Познание этих законов развивает и накапливает силу разума, путем накопления знаний и возможностей контроля действительности. Сила как и раз и состояла в наличии этих неизменных объективных закономерностей, так как их объективность гарантировала доступ к внешней силе, а их неизменность накапливание знаний и силы в контроле природы.
Немецкая классическая философия, отцом которой считается Кант (а последним творческим представителем Маркс) изменила все это.
«Рассудок не черпает свои законы из природы, а предписывает ей». Фраза Канта нуждается в комментариях. Неправильно истолковав ее, мы можем не понять главного в гносеологии Канта – идеи активности сознания. Именно в ней философ видел свою основную заслугу. Он даже сравнивал себя с Коперником, считая, что перевернул положение дел в философии не менее кардинальным образом: раньше считалось, что наши знания должны сообразовываться с предметами. Кант исходит из того, что предметы должны сообразовываться с нашим познанием»
А. Гулыга Кант
Кант заявил, что сознание способно воспринимать только явления мира, а сущность этого мира, которая составляет его реальность, ему недоступна. По сути, это четко артикулированная теория агностицизма, но теоретическое иезуитство Канта, которое будет свойственно всей немецкой классической философии (особенно диалектической) заставляет его утверждать, что он только открыл новую критическую философию, очистив теорию познания от догматического сна. На самом деле, он доказал непознаваемость мира, параллельность феноменального (явления) и ноуменального (сущность) миров.
«Когда Кант говорит „предмет познания“ (и даже „природа“), он имеет в виду не вещи сами по себе, а явления, то есть ту часть действительности, которая вступает во взаимодействие с нашим познанием. И эта часть действительности – тут уж никуда не денешься – сообразуется с действиями, которые мы осуществляем в меру нашего разумения, включена в систему нашего разумно организованного опыта. Маркс ценил немецкую классическую философию (родоначальником которой был Кант) за акцентирование деятельной стороны познания. Сознание не только отражает мир, но и творит его – для материалиста-диалектика это аксиома. Истоки ее у Канта»
А. Гулыга Кант
Кант, разрушив доктрину рационалистов о существовании объективных закономерностей, познание которых составляет существо процесса познания и определение истины – начал развивать идею, которая окончательно оформиться у Гегеля и Маркса. Идею о том, что разум не постигает законы природы, а творит их сам (для Гегеля во всем, для Маркса в социальной действительности). В этом состоял его коперниковый переворот, который впрочем он только начнет. Завершит его несомненно Гегель доктриной о разуме субъекте, который творит сам себя, материю и просыпается в человеческом сознании. Но начало этому всесильному абсолюту, который сам создает законы природы и имеет непосредственное воплощение в сознании человека, положит философия Канта, в которой впервые было сформулировано, что рассудок не черпает законы из природы, а предписывает ей. Для Канта это следствие субъективности интеллекта, который содержит все знание априори. Заявив, что мир «вещей в себе» есть мир сущности, мир реальности, который недоступен человеку, он продолжает утверждать, что его теория не есть агностицизм, и что научное знание возможно. Но сущности – это и есть истина, и если истина недоступна и восприятие человека субъективно, то о какой науке, о каком «знании» может идти речь? Такое «знание», обладая лишь искаженными образами кривого зеркала своего субъективного восприятия, не позволит осуществить никакой обратной связи с реальным миром. Это фантазии оторванные от реальности, выставляющие человека бессильным дураком, наслаждающимся самообманом.
Гегель постарается устранить это противоречие и заявит, что разум творит реальные законы природы, а не фантазирует какие то априори; он видит именно сущности, а не какие то явления. Однако, если у рационалистов законы существуют от века, и наш разум только постигает и открывает их, у Гегеля разум именно сам творит, выдумывает эти законы, так что проверить их истинность становится также невозможно, как постичь законы природы в философии Канта.
Гегеля страшно раздражала субъективистская импотенция кантовского разума, смотрящего на мир сущностей сквозь глупые очки-априори и знающего об этом. Он считал, что если он заявит о том, что разум творит эти законы по настоящему, а не приписывает просто свои фантазии природе, истинная сущность которой ему недоступна, то он избавит разум от этой постыдной беспомощности. Однако, субъективизм Канта сохранился, так как если у Канта разум постигает сам себя и потому ничего не знает о реальном внешнем мире, то у Гегеля разум продолжает постигать сам себя, но уже не потому что не может познать внешний мир, а потому что внешний мир у Гегеля предстает творением разума.
Поэтому получилось наоборот, он только усилил субъективизм позиции Канта и беспомощность разума: с введение всесильного субъекта-абсолюта, находящегося в становлении, созидающего и отменяющего законы вселенной абсурдность «коперникова переворота» Канта становилась еще более очевидной. Делалась заявка на существование какой-то надчеловеческой субстанции, которая всесильна творить законы для себя и для природы, постоянно меняя их. При этом сила сознания реального человека полностью уничтожалась, поскольку человек не чувствовал в себе сил творить законы для природы и для себя. Его реальная сила, которая состояла в познании объективных неизменных законов природы была уничтожена, а ее место заняло всесилие надчеловеческой субстанции, которой нельзя было ни коснуться ни проверить каким-то другим способом.
«Учение Канта об активности сознания помогло приподнять завесу над одним из самых загадочных процессов – образованием понятий. Великие умы, предшественники героя этой книги, заходили в тупик, пытаясь решить эту проблему. Сенсуалисты настаивали на индукции, опытном «наведении» на некие всеобщие признаки и принципы. А как при помощи индукции, абстрагирования общих признаков объяснить изобретение, создание умственной конструкции чего-то нового, ранее не существовавшего – машины или научной теории?
Рационалисты шли другим путем. Они усматривали строгое, не зависящее от человека соответствие между порядком идей и порядком вещей. Мышление они считали неким «духовным автоматом» (выражение Спинозы), который штампует истину, работая по заранее заданной, «предустановленной» (выражение Лейбница) программе»
– пишет Гулыга в биографии Канта
Однако, невозможно понять какие трудности могли возникнуть с объяснением образования понятий в рационализме: разум видит законы в природе, активный и пассивный интеллект, мышление и законы. Постигая законы природы, мышление образует новые теории, контроль открытых законов природы – новые технологии
«Объяснение было основательным, но обладало одним существенным изъяном: не могло ответить на вопрос, откуда берутся ошибки», – вот все что может на это возразить Гулыга.
Человек ведь не бог, не абсолют Гегеля, который творит свои законы сам, он постигает их понемногу, ограниченными возможностями своего человеческого интеллекта. Конечно, он будет ошибаться, но в конечном итоге он способен обнаружить истину, и это главный и решающий фактор. И уже больше ничего не надо объяснять.
Однако, Гулыга в марксистской традиции о сверхважности открытой Кантом «активности познания» утверждает, что именно Канту, а не рационалистом удалось объяснить происхождение новых понятий. Ведь и Маркс вслед за Гегелем утверждал, что в социальной мире человек сам творит законы бытия и именно Кант был зачинателем этой «деятельной теории познания».
«Кант, подобно Копернику, решительно порывает с предшествующей традицией. Он видит в человеческом интеллекте заранее возведенную конструкцию – категории, но это еще не само научное знание, это только его возможность, такую же возможность представляют собой и опытные данные – своего рода кирпичи, которые нужно уложить в ячейки конструкции. Чтобы выросло здание, требуется активный участник строительства, и Кант называет его имя – продуктивное воображение. До Канта воображение считалось прерогативой поэтов. Сухой педант из Кенигсберга увидел поэтическое начало в науке, в акте образования понятий. Человек, живший как автомат, отверг наименование автомата за интеллектом человека. Интеллект, по Канту, – свободный художник»
А. Гулыга Кант
Свободный художник из Канта получился хоть куда, в этом с Гулыгой не поспоришь. Но вот имеет ли к науке какое-либо отношение живопись – уже другой вопрос. Воображение, безусловно, участвует во всех ментальных процессах и тем более в познании, но разница между позицией рационализма и кантовской совершенно в другом. Если Декарт говорил о второстепенном значении воображения и о ведущей роли интеллекта в познании, то у Канта воображение заступает место разума.
Как эмпирики, так и рационалисты ставили целью познания – открытие истины (как все нормальные люди, хочется сказать). И именно поэтому эмпирики, когда поняли, что чувственным путем найти истину не получится, честно заявили об агностицизме (Юм). Потому что только истина (сущность) может быть целью познания. Разумеется, чувственным путем можно получить много разной информации, но цель познания – истина.
Рационалисты напротив сразу заявляли, что цель познания сущность и что свойство разума в его способности разглядеть эту сущность в вещах.
Отличие Канта от этих уважаемых людей состояло в том, что у него сущность познать невозможно, истина недоступна. Новые теории – это не истина, а облачение опытных данных чувственного восприятия в готовые идеи априори, существующие независимо от опыта. Понятно, что в данном случае речь не о воображении, а именно о фантазии, которая фантазирует и придумывает мир, не имеющий никакого отношения к реальности. И да, это мир свободного художника. Поэтому марксистская философия поспешила, конечно, с выводами о том, что «коперников переворот» Канта как введение доктрины «деятельного познания» имел какое-то значение для теории познания, кроме негативного. Они предпочитают говорить о «тенденции агностицизма», но не о самом агностицизме:
«Речь идет о том, что опытные данные, поступающие извне, не дают нам адекватного знания об окружающем нас мире. Априорные формы обеспечивают всеобщность знания, но не делают его копией вещи. То, чем вещь является для нас (феномен), и то, что она представляет сама по себе (ноумен), имеет принципиальное различие. В диссертации 1770 года Кант утверждал, что ноумены постигаются непосредственно умом, теперь он считает их недоступными никакому познанию, трансцендентными. Сколько бы мы ни проникали в глубь явлений, наше знание все же будет отличаться от вещей, каковы они на самом деле. Разделение мира на доступные знанию „явления“ и непознаваемые, „вещи сами по себе“ – опасная тенденция агностицизма»
А. Гулыга Кант
Спекуляции Канта на тему гносеологии имели результатом три направления в последовавшей философии духа:
1. Антиинтеллектуализм: агностицизм Шопенгауэра, Ницше, Сартра, которые стали писать о философии воли, отрицая интеллект в качестве ведущей характеристики духа
2. Диалектическая логика: абсолютная свобода разума творить законы природы у Гегеля и свобода сознания творить законы социальной жизни у Маркса
3. Особые «науки о духе», противопоставленные естествознанию: социология Шпенглера, Риккерта, Дильтея, Вебера. Сущность этого направления в том, что оно впитало все кантовское лицемерие именовать отрицание познания – особенным знанием. Любая ментальная активность, которая позиционирует себя как «научную деятельность» будет стремиться формулировать законы изучаемой сферы. Вред ложной науки в том, что она производит заведомо ложные конструкции в качестве «знаний», затрудняя тем самым процесс познания мира. Неокантианцы объявили объектом своего исследования «дух» целых обществ, цивилизаций, представляя устоявшиеся институты этих обществ в качестве эталонов, которым должны соответствовать индивиды, как бы вредны и бессмысленны не были эти институты.
Однако, на самом деле, он просто возвел агностицизм уже в степень догматической философии, что скоро скажется в трудах антиинтеллектуалистов.
В итоге, философия Канта явилась неким подобие ядерного удара по философии духа, которая сразу по трем направлениям (антиинтеллектуализм, диалектическая логика, особые науки о духе) уничтожила все позитивное, что было сделано в философии духа рационалистами.
2. АБСОЛЮТНАЯ СВОБОДА ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗУМА
«Нигде в мире, да и нигде за его пределами невозможно мыслить ничего иного, что могло бы считаться благом без ограничения, кроме одной только доброй воли»
И. Кант
С Канта начинается пафос философии абсолютной свободы духа, своего собственного законодателя, независимого от чего бы то ни было ни на земле ни на небе. Свои законы он устанавливает себе сам, это моральные законы, которые в отличие от законов природы есть законы свободы. И в этом свободном законодательстве существо этого свободного духа. Позже Гегель разовьет индивидуальный абсолют Канта до степени космического духа-абсолюта, который подобно кантовскому категорическому императиву сам себе устанавливает законы, находясь в постоянном процессе становления. Маркс вернет космический абсолют Гегеля на землю и не разрешит ему выходить за пределы общественной жизни людей: тут он опять станет полновластным владыкой. Потом Сартр будет говорить об абсолютной свободе выбора индивида, об отсутствии каких-либо законов природы сдерживающих его, о жизни как о «художественном проекте», который в творческом русле предстоит разрешить каждому свободному индивиду. Ницше встанет с абсолютной свободой воли, способной восставать против всего человеческого, величие которой в том, чтобы «выдержать уничтожение миллионов недоделанных и неполноценных и не погибнуть».
Однако, результатам этой свободы не позавидуешь. Ницше сошел с ума и до самой смерти так и не пришел в сознание. Гегельяно-марксисткая социология породила общество террора диктатуры пролетариата. Сартр вынужден был оправдываться в статье «Экзистенциализм – это гуманизм», что свободная воля все же ограничена гуманистической этикой. А что же сам Кант? Небесная свобода его духа в конечном итоге самым банальным образом обрела свою реализацию в… абсолютном подчинении всякой власти.
«Различие нравственности от права, в смысле независимости нравственного сознания от внешних и принудительных законов, должно было получить у Канта резкое выражение. Ибо никогда, ни прежде, ни после него, нравственность не отождествлялась в такой мере с внутренней свободой личности от каких бы то ни было внешних стеснений. Мы приводили уже ранее выражении Канта, согласна которому мораль должна быть утверждена «независимо от какой-либо опоры на небе или на земле». Безусловная внутренняя свобода, независимый от каких-либо внушений самодержавный разум и истинная нравственность являются для Канта синонимами. Но поставив нравственность на недосягаемую высоту чистого служения долгу, к которому не должны примешиваться никакие помысли и мотивы Кант совершенно устранил связь с нею права. Возможность живительного взаимодействия двух областей, таким образом исключалось, и право, взятое в полной противоположности с моралью, превращалось в чисто внешнее исполнение закона. Канту невольно приходилось ограничиваться при характеристике права внешними и отрицательными чертами, которые низводили право с высоты нравственного явления на степень чисто внешнего учреждения для взаимной охраны. Ученик Канта Фихте дал этому взгляду наиболее резкое выражение:
«В области права для доброй воли нет применения; право должно осуществляться, если бы даже ни один человек не был склонен осуществлять его добровольно; физическая сила, физическая сила, и только она, сообщает ему санкцию»
П. Новгородцев Кант и Гегель в их учении о праве и государстве
Трактуя мораль, как вмененную самому себе обязанность, смешивая юридические и этические обязанности личности, Кант абсолютно извратил понятие морали, как врожденной совести и справедливости. Согласно его доктрине, чувствовать сострадание к другим и радоваться их успехам —значит перестать быть моральными, поскольку то что приятно перестает быть обязанностью и становится удовольствием. Гулыга пишет, что гитлеровская пропаганда широко использовала этот его догмат о моральной обязанности, которая не должна ничего чувствовать.
«Наиболее прочная опора нравственности, единственный истинный источник категорического императива – долг. Только долг, а не какой-либо иной мотив (склонность и пр.) придает поступку моральный характер. Кант: «Имеются некоторые столь участливо настроенные души, что они без всякого другого тщеславного или своекорыстного побудительного мотива находят внутреннее удовольствие в том, чтобы распространять вокруг себя радость и им приятна удовлетворенность других, поскольку она дело их рук. Но я утверждаю, что в этом случае всякий такой поступок, как бы он ни сообразовывался с долгом и как бы он ни был приятным, все же не имеет никакой нравственной ценности». Этот ригористический пассаж вызвал возражения и насмешки. Шиллер не мог удержаться от эпиграммы. Ближним охотно служу, но – увы! – имею к ним склонность.
Вот и гложет вопрос: вправду ли нравственен я?
Нет тут другого пути: стараясь питать к ним презренье
И с отвращеньем в душе, делай, что требует долг!»
А. Гулыга Кант
Теория «всеобщей воли» Руссо, которой последний постарался выразить демократический принцип подчинения народа только народном законодательству, формализуется и извращается Кантом. Он старается сохранить лицо и продолжать говорить о свободе, исходя из принципа Руссо о том, что подчинение законам, которые народ устанавливает себе сам, есть подчинение самому себе. Но у Руссо «всеобщая воля» происходит из общей человеческой природы людей, из законов природы, которые все здоровые люди ощущают как потребность в совести и справедливости («Эмиль»), из реального договора наконец. В такой интерпретации речь действительно идет о народном законотворчестве, об обще человеческой воле, выражающей общую природу людей, хотя можно бесконечно спорить о степени в которой демократии доступно выражение этой всеобщей воли.
По другому понимает всеобщую волю Кант, который категорически не согласен с Руссо и в природной доброте людей и в каком то изначальном договоре, который имел место. Напротив, согласно Канту, власть впервые объединяет разрозненные воли индивидов, и этим вводит нравственный порядок. Если у Руссо, и вообще теоретиков естественного права – законодательная власть всегда выражает природную нравственность людей, их склонность к справедливости и совести, то у Канта наоборот, власть порождает мораль. Поэтому власть объявляется священной.
«Кант: «Законы свободы, в отличие от законов природы, называются моральными. Поскольку они относятся к поступкам и определяют известный внешний образ действий, они считаются юридическими; если же, сверх того, они требуют и соответствующих мотивов, они называются этическими»
Таким образом, юридические законы наряду с этическими являются моральными и в качестве таковых имеют априорное происхождение. Они основаны не на том, что случается, а на том, что должно быть в соответствии с требованиями разума, хотя бы действительность не представляла для этого никаких примеров. Однако, если моральная основа права указывается в происхождении его из чистых начал разума, то остается непонятным, как эта основа сочетается с собственной сущностью права, как внешнего порядка? Спрашивается, каким образом нравственность может брать под свою охрану предписания, имеющие свое происхождение исключительно в законодательном произволе? Как разум может предписывать то, что не вытекает из его требований? Утверждение Канта, что всякая обязанность, откуда бы она ни происходила, может стать предметом этических велений, противоречит его учению об автономии воли как коренному условию нравственности. Учение о совпадении юридических обязанностей с нравственными смешивает все обязанности, какого бы ни было их происхождение и содержание, в одну неразличимую массу нравственных требований.
Естественное состояние противоположное юридическому ставится здесь наряду с этим этическим естественным состоянием, которое представляет собой постоянное проявление зла (войну всех против всех) и из которого человек должен выйти, чтобы сделаться членом высшего нравственно общения.
Цель государства определяется «не как счастье граждан (это последнее может еще лучше достигаться в естественном состоянии или в деспотических формах), а как высшее согласие с принципами права, стремиться к чему нас обязывает разум при посредстве категорического императива»
Кант: «Безусловное подчинение народной воли (которая сама по себе является разъединенной и следовательно беззаконной) воле суверенной, объединяющей всех посредством единого закона, есть акт, который может быть совершен только через овладение высшей властью. Этот акт впервые обосновывает юридический порядок. Допускать возможность сопротивления этому полностью – значит противоречить самому себе, ибо в таком случае оказывалось бы, что та первая власть не есть высшая и определяющая собой право»
Элементы учения Гоббса вновь вторгаются в эту политическую систему. Требование народовластия сменяется девизом английского абсолютиста. В других выражениях Кант повторяет тот же принцип: «Каково бы ни было происхождение верховной власти предшествовал ли ей договор о подчинении, или же власть явилась сначала и потом уже установился закон – для народа, который находится под владычеством гражданского закона, все это бесцельные и угрожающие государству опасностью рассуждения. Закон, который столь священен, что было бы преступлением хотя бы на мгновение подвергать его сомнению, представляется как бы исходящим не от людей, а от высшего законодателя. Таково именно значение положения: „Всякая власть происходит от Бога“. Оно выражает не историческую основу государственного устройства, а идею или практический принцип разума, который гласит: „Существующей законодательной власти следует повиноваться, каково бы ни было ее происхождение“. Очевидно, это уже нечто большее, чем принцип суверенитета, ибо и простые рассуждения по поводу власти отвергаются как бесцельные и опасные умствования. Этот результат не вполне сходится с тем другим требованием, которое шло из глубины нравственного сознания. Там требовалась свобода, автономия воли, царство лиц как целей; теперь нам говорят о безусловном подчинении и священном характере власти. Но такова уж была доктрина, соединившая в себе самые разные мотивы – этические и практические, либеральные и консервативные. Не без основания сравнивают ее с головой Януса, глядящей в разные стороны»
П. Новгородцев Кант и Гегель и их учение о праве и государстве
Действительно, все претензии на абсолютную свободу волю всегда имеют своим завершением совершенно противоположную тенденцию – полную потерю силы и рабскую ограниченность. Это не парадокс, это естественный результат разрушения силового поля человеческой энергии: его способности к познанию и контролю законов природы. Именно эта «интеллектуальная любовь к богу» как называл процесс познания Спиноза, эта страсть к познанию, о которой Платон пишет, что мы стремимся к знанию со всем жаром влюбленных сердец и составляет источник силы людей, их реальную свободу, которая по определению не может быть абсолютной. Чтобы быть сильными мы должны иметь доступ к энергии внешнего мира. Чтобы иметь этот доступ должны существовать объективные законы природы. Познание этих законов откроет нам доступ к силам природных энергий и уже открыло. И это есть наша реальная сила – сила контроля природных энергий.
Все же заявления о том, что человек сам творит свои законы, что он всесилен и не нуждается во внешнем мире, всегда на деле приводят к его полному бессилию. Так и у Канта (а позднее у Гегеля и Маркса) все претензии на абсолютную свободу закончились постулированием морали как необходимости подчинения любой власти.
Поппер называл феномен превращения абсолютной свободы в несвободу «парадоксом свободы», но на самом деле никакого парадокса в этом нет, только чистая закономерность. Очень удачно сказал об этом Кьеркегор в «Болезни к смерти»:
«Мощь, которую проявляет его негативная форма, столь же развязывает, сколь и связывает; Далеко не преуспев в том, чтобы все более и более быть собою, оно проявляется, напротив, все более и более как гипотетичное Я. при ближайшем рассмотрении вам нетрудно убедиться, что этот абсолютный князь – всего лишь король без королевства, который, по сути, ничем не управляет; его положение, сама его суверенность подчинены диалектике, согласно которой во всякое мгновение здесь бунт является законностью. Ведь, в конце концов, все здесь зависит он произвола Я. Стало быть, этот человек только и делает, что строит замки в Испании и воюет с мельницами. Сколько шума всегда о добродетелях такого постановщика опытов! Эти добродетели на мгновение очаровывают, подобно восточному стиху: такое владение собою, каменная твердость, вся эта атараксия и так далее, они как из сказки. И они действительно выходят прямо из сказки, ибо за ними ничего не стоит. Это Я в своем отчаянии хочет вкусить наслаждение самому создавать себя, облекать себя в одежды, существовать благодаря самому себе, надеясь стяжать лавры поэмой со столь искусным сюжетом, короче, так прекрасно умея себя понять. Но что он подразумевает под этим, остается загадкой: ибо в то самое мгновение, когда он думает завершить все сооружение, все это может, по произволу, кануть в ничто. Это Я, отрицающее конкретные, непосредственные данности Я, возможно, начнет с того, что попытается выбросить зло за борт, притвориться. что его не существует, не пожелает ничего о нем знать. Но это ему не удастся, его гибкость и искусность в опытах не доходит до такой степени, как, впрочем, и его искусность строителя абстракций; подобно Прометею, бесконечно негативное Я чувствует себя пригвожденным к такому внутреннему рабству»
Кьеркегор Болезнь к смерти