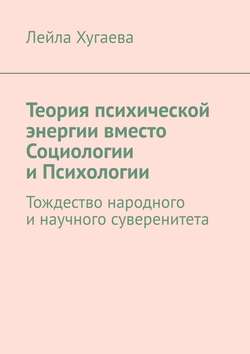Читать книгу Теория психической энергии вместо Социологии и Психологии. Тождество народного и научного суверенитета - Лейла Хугаева - Страница 7
Часть первая.
Дух
Глава 5. Социология Гегеля и Маркса. Импотенция современной психологии
Оглавление1. Линия и циклы философии истории
2. Научный контроль в обществе
3. Пространство интеллекта
1. ЛИНИЯ И ЦИКЛЫ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ
Первым социологом-кантианцем был, несомненно, не Риккерт, и не Шпенглер, а Гегель. Спустя, наверное, век после его смерти Освальд Шпенглер почти в точности воспроизведет философию истории Гегеля, в которой заявит о новом «коперникове перевороте»: о цикличном развитии независимых друг от друга цивилизаций. И тот и другой сделают попытку написать историю духа, причем Шпенглер в деталях повторит все основные выводы Гегеля вплоть до утверждения, что дух движется во времени, а природа в пространстве.
Однако, Гегель резко противопоставил движение духа движению природы, как линейное развитие науки и цикличную статику физических процессов: дух движется вперед по прямой, познавая и развиваясь, а природные явления движутся по кругу. И только в этом одном он очень точно ухватил фундаментальное различие между разумной энергией и прочими детерминированными энергиями природы.
Как же так получилось, что его исторический процесс, также как у Шпенглера, носит тем не менее характер цикличного движения, а заявления о «развитии духа» остаются только фикцией, которой мы не находим никакого подтверждения в выводах его философии истории? Ответ только один: ни тот ни другой не сумели отразить существа и движения духа, то есть разумной энергии человечества.
«Для Гердера, например, история человечества есть непосредственное продолжение естественной истории. Гегель резко противопоставляет человеческое общество природе. Только в обществе происходит развитие. При всем бесконечном многообразии изменений, совершающихся в природе, в них обнаруживается лишь круговращение, которое вечно повторяется: в природе ничто не ново под луной, и в этом отношении многообразная игра ее форм вызывает скуку. Лишь в изменениях, совершающихся в духовной сфере, появляется новое. Природа существует только в пространстве, дух проявляется во времени, и таким его проявлением служит всемирная история»
А. Гулыга Гегель
Шпенглер нарисовал историю как «цветение» цветков различных цивилизаций, лишенное какого-либо смысла кроме самого факта цветения. Каждая такая цивилизация есть душа, дух, который рождается, взрослеет, старится и погибает. А отдельные индивиды только отражение этой единой души, проявляющейся в культуре и учреждениях общества.
Но Гегель задолго до него говорил о «духе народов», который рождается, взрослее, старится и умирает, выполнив свою миссию. Персидский, греческий, римский и немецкий – четыре духа народа поочередно цвели и умирали, символизируя собой движение человеческой истории. А сознание отдельных индивидов только отражало существо этого духа народов, ибо индивиды только «сыны своего народа и времени» и настоящими индивидуальностями являются народы.
Правда, формальное отличие Гегеля от Шпенглера состоит в том, что Гегель пытался представить процесс «цветения» своих цивилизация как связанный процесс, представляющий развитие разума. Но в чем проявилось это развитие ему так и не удалось сказать. Он говорил о «прогрессе в свободе» как конечной цели, но не осталось человека, который бы вместе с Шопенгауэром не высмеял его прусское государство в качестве эталона свободы. Он говорил о прогрессе в познании самого себя, но насколько всерьез можно принимать такого субъекта как «дух народа»? Что мог бы познать о себе такой надуманный суперсубъект, поглотивший индивидов, но имеющий собственную волю? Наконец, его прогресс в познании истины, где истиной оказывается откровение евангелия, которое стало доступно еще в древнем Риме. В итоге, остается только шпенглеровское «цветение» независимых друг от друга цивилизаций, каждое из которых составляет отдельный уникальный цикл в истории. Начертить общую линию развития разумной энергии человечества Гегелю не удалось.
Это закономерное следствие его отказа от детерминированной картины мира, которую он заменил саморазитием своего абсолюта, творящего законы для себя и мира. Марксистская философия писала об этом так:
«Историзм как метод мышления предполагает рассмотрение социальной структуры в непрерывном развитии, когда исчезают старые закономерности и появляются новые. Если так, то, следовательно, невозможно охватить единой системой понятий развивающееся целое. В этом смысле существует известное противоречие между идеями последовательного историзма, развитыми в „Феноменологии духа“, и принципами, которые лежат в основе „Науки логики“ и „Философии истории“. В этом смысле Маркс говорил, что „не существует производства вообще“. Маркс подчеркивал, что историю нельзя осмыслить, „пользуясь универсальной отмычкой в виде какой-нибудь общей историко-философской теории, наивысшая добродетель которой состоит в ее над историчности“. Каждое общество, каждая эпоха, каждая культура иногда даже страна, рождают свои собственные локальные специфические закономерности, которые и раскрывают подлинный смысл исторического бытия на том или ином этапе развития. Исследователь, руководствующийся принципом историзма, выделяет в развитии человечества целостные системы и к каждой из них подходит с соответствующей меркой»
А. Гулыга Гегель
Это ли не подход неокантианцев, которые, как мы видели, рассматривали десятки различных уникальных цивилизаций, в которых они принципиально не стремились усмотреть универсальных законов развития, априори отрицая их существование? Более того, они также как и Гегель и по той же причине утверждают, что цель исследования истории в понимание того, что есть, а не в поиске закономерностей, того что должно быть, поскольку таких общих закономерностей нет. Неизбежный эмпиризм, который рождает такая позиция, то есть примитивное описание чувственного опыта вместо попыток его упорядочить и осмыслить также является специфической чертой гегелевского обзора эволюции «духа» и истории.
«Следовательно, постичь то, что есть, – вот в чем задача философии, и как каждый из людей —сын своего времени, так и философия есть эпоха, охваченная в мыслях. Глупо думать, что философия может выйти за пределы современного ей мира, так же как наивно строить себе мир, каким он должен быть, этот мир может существовать лишь в мнении его создателя. Итак, наука о праве стремится к постижению государства как некой разумной субстанции: она не ставит себе целью указать, каким должно быть государство, ее задача – исследовать, каким образом государство, этот нравственный универсум, должно и может быть познано. Философия, говорил он, есть эпоха, схваченная в мыслях. Всякая система философии есть философия своей эпохи, поэтому в наши дни не могут существовать ни платоники, ни аристотелики, ни стоики, ни эпикурейцы, а только их эпигоны»
А. Гулыга Гегель
Хотя Гегель искренне считал, что противопоставил свою философию как тождества разума и действительности философии Канта, заявившего о принципиальной непознаваемости реального мира, его попытки построить линейное движение прогрессирующего в своем научном развитии духа полностью провалились. И именно потому, что науки не может существовать без неизменных закономерностей природы, без детерминизма, который он вслед за Кантом отвергает. Если отсутствуют объективные закономерности природы, то все заявления о познаваемости мира оказываются профанацией.
«Все зависит от того, говорит здесь наш философ, чтобы понимать истину не только как субстанцию, но и как субъект. Это утверждение означает, что философия должна исходить не от первоначального или непосредственного единства, раз навсегда определенного в своем абсолютном совершенстве, а от живой субстанции, заключающей в себе начало отрицания и движения и достигающей своей полноты через деятельный процесс самоосуществления. Это не покоящееся и неизменное бытие, а процесс самоуглубления и самоосуществления»
П. Новгородцев Кант и Гегель и их учение о праве и государстве
Противопоставив саморазвитие живого субъекта-разума – истине объективных законов природы, Гегель разрушил существо разумной энергии, ее силу и мощь, ее способность к развитию и росту, ее стабильность противостоящую цикличному равновесию физического мира. Линейное развитие разумной энергии —это процесс открытия и познания законов природы, доступа к энергиям природы. Если же этот базис научного процесса взрывается нелепыми утверждениями о самодостаточности мышления, то на деле все попытки отобразить линейное движение всегда приведут к циклам отдельных несвязанных между собой событий.
Поставив перед собой задачу показать морфологию и эволюцию духа, Гегель не смог даже приблизиться к решению этой задачи. Не увидев сущности разумной энергии, как постижения объективных закономерностей мира, он не смог разглядеть и качественного различия между двумя энергиями психики: линейной и цикличной, разумной и неразумной, живой и неживой. История представляет собой сражение между двумя этими антагонистичными по отношению друг к другу энергиями, где первая есть движение к развитию и человечности, а вторая – цикличные круги насилия и подчинения. Не увидев этой главной закономерности истории, он не сумел разглядеть и специфики линейного движения человечества, состоящего в том, что оно постоянно тормозится и отбрасывается назад противоположным цикличным движением. С какой гениальной проницательностью описал этот процесс сражения двух противоборствующих энергий психики в своей «истории развития разума» Жан Кондорсе! Как мистика, которая всегда идет рука об руку с невежеством и садомазохизмом деспотии всякий раз отбрасывает человечество назад, когда разум делает блестящие успехи на научном и нравственном поприще.
Гегель видит остроумное решение в объединение этих двух качественно различных систем в единый двигатель, в единое силовое поле. Два различных силовых поля психики – разумная энергия поля совести с одной стороны и поле эгосистемы тщеславия и насилия с другой – стороны объявляются им единым природным двигателем, единством противоположностей, которое движет обществом. Это противоестественное соединение двух несоединимых энергий, противоборство которых составляет существо всей человеческой истории, о котором писали все гуманисты древности и современности, и вызывает такое отвращение к «историческому двигателю» Гегеля, который он сам обозначил как «хитрость разума»:
«Божественный разум, по словам Гегеля, не только могуществен, но и хитер: его хитрость состоит в „опосредующей деятельности, которая, дав объектам действовать друг на друга соответственно их природе и истощать себя в этом воздействии, не вмешиваясь вместе с тем непосредственно в этот процесс, все же осуществляет лишь свою собственную цель“. Для Гегеля разум – некое надындивидуальное всемирно-историческое начало. Право мирового разума выше частных прав. Мировой разум имеет право быть расточительным и беспощадным. „он делает чудовищные затраты возникающих и гибнущих человеческих сил, он достаточно богат для такой затраты, он ведет свое дело en grand, у него достаточно индивидов и народов для этой траты“. Разум не только расточителен, он хитер, он прямо таки коварен. Живые индивидуумы и народы, ища и добиваясь своего, в то же время оказываются средствами и орудиями чего-то более высокого и далекого, о чем они ничего не знают и что они бессознательно исполняют»