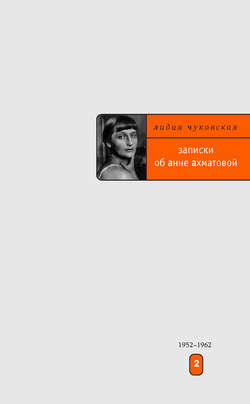Читать книгу Записки об Анне Ахматовой. Том 2. 1952-1962 - Лидия Чуковская - Страница 9
1956
Оглавление4 января 56 • В первый день Нового года я навестила в больнице Анну Андреевну. Ее скоро выпишут. Оперировать если и будут, то не раньше, чем через полтора месяца. Чувствует она себя хорошо: свободно сидит и спускает ноги с кровати. Я принесла ей в подарок ташкентскую запись Якова Захаровича71. Кажется, она была довольна. Потом я рассказала ей, что Корней Иванович получил смешное письмо от Машеньки, в котором та пишет: «у вас жара, а у нас холодно»[141]. Маша побывала в Переделкине в июле и думает, что там и теперь жарко.
Анна Андреевна сказала:
– Представления детей о мире статичны. Мир для них весь в статике, твердо установлен раз навсегда. Старость уже знает динамику, знает перемены и ждет их. Детство – нет.
Она попросила меня навести порядок на подоконнике, в тумбочке, выбросить ненужную бумагу, вымыть баночки и пр. Для этого мне пришлось побегать по коридору. Я смотрела кругом. Какая бедность, какое убожество – эти рваные халаты не по мерке, эти рубища, эти грязные стены. Вернувшись к Анне Андреевне и взглянув на нее, я подумала:
Но грязь обстановки убогой
К ней словно не липнет…
Из пакета, принесенного мной, она взяла в руку апельсин, и в ее маленькой властной руке он сразу стал похож на державу.
6 января 56 • Анна Андреевна уже дома, но я к ней еще не поспела.
8 января 56 • Была вчера у Анны Андреевны. Она на ногах, осунувшаяся, но бодрая. У нее Эмма. Обсуждают тагильскую находку. Хозяев нету дома; Эмма кормит Анну Андреевну какой-то диетической едой, которую заранее приготовила Нина Антоновна. Я, чашка за чашкой, хлебаю чай: мороз лютый, никак не отогреешься. Анна Андреевна, прервав свою беседу с Эммой, потребовала, чтобы я немедленно высказалась о новой публикации72.
Меня раздражает, что напечатаны только обрывки писем; письма Карамзиных мне хочется читать подряд, целиком и судить о них самой, без подсказки. Конферанс Ираклия несносен; это какое-то «занимательное литературоведение» под стать «Дому Занимательной Науки», который я всегда не терпела. Речь идет о великом несчастье – быть может, о величайшем на протяжении всей русской истории. Заставь нас снова расслышать стон Пушкина сквозь злословие и сплетни; вознегодовать вместе с Лермонтовым; заново пережить случившееся как трагедию; пусть снова дрогнет сердце – а не развлекай нас усиками и глазками инженера Боташова. Эмма согласилась со мной; Анна Андреевна отпустила несколько привычно-гневных реплик по адресу Ираклия и принялась излагать собственную концепцию гибели Пушкина; над книгой о его гибели она, по ее словам, работала целых шесть лет, потом потеряла все написанное («зелененькие тетрадки») и теперь снова нашла.
Все происходило не три года, а развернулось мгновенно.
Автор анонимок – Геккерн, при участии Долгорукова, а быть может, и Гагарина.
Пушкин был у царя и представил ему доказательства вины Геккерна; если бы он представил не доказательства, а лишь предположения – его сослали бы в Нерчинск. А какие же? По-видимому, Долгоруков предал Геккерна Пушкину.
Геккерн и Дантес – карьеристы и мерзавцы. Дантес вовсе не любил Наталию Николаевну; изображал высокую страсть, чтобы не выгнали из кавалергардов за отказ от дуэли; Екатерина Гончарова была от него беременна, и он женился на ней весьма охотно потому, что ему, при его подмоченной репутации, трудно было сделать лучшую партию… Во всех своих расчетах мести Пушкин ошибался совершенно.
Наталия Николаевна не только глупа; это хищная, жадная, злая стерва. Дантеса обожала.
Его любили все: и молодежь у Карамзиных, и Вяземские. Пушкин к моменту дуэли одинок.
Из опубликованных писем оказывается также, что Софья Николаевна Карамзина была пустейшая дура[142].
На этом месте нашу беседу шумно прервали хозяева, вернувшиеся домой с закусками и водкой. Я заторопилась на метро.
16 января 56 • Вчера пришла я к Анне Андреевне, а у нее, говорят, врач, хирург, Александров. Я уселась ждать на кухне, потому что в столовой кричал телевизор. Вдруг слышу из комнаты Анны Андреевны: мужской голос читает стихи. Я вошла. Это читал Александров.
Стихи плохие. Но меня, к счастью и само собой разумеется, никто не спрашивал, Анна же Андреевна вяло и вежливо хвалила.
Александров записал на бумажке десять своих телефонов, объявил, что колбасы и ветчины нельзя, но грубую пищу можно, и уехал.
От операции он рекомендовал воздержаться.
Анна Андреевна, по-видимому, очень довольна, что с медициной на некоторое время покончено. Она засунула телефонно-диетный листок в сумку, сказав «это для Ниночки», и велела мне прочитать вслух стихотворение Асеева, напечатанное в «Огоньке».
Отвратные стихи. Когда я прочитала их, она сказала:
– Асеев принадлежит к тому поколению поэтов, которое выступило как молодое, молодость была главным признаком школы, и они были уверены, что молодость будет принадлежать им всю жизнь. А теперь, когда они уже несомненно старые, они никак не могут с этим освоиться73.
Из ванной пришла к нам Эмма Григорьевна, специально приехавшая сюда купаться. В чьем-то чужом халате, с мокрыми распущенными волосами, она устроилась на постели сушить их. Речь зашла о молодых, выступавших по телевизору. Анна Андреевна потешалась над одной девицей, которая подробно рассказывала, как ее принимала акушерка.
– Меня называли старухой уже в тридцать лет, – сказала Анна Андреевна. – И даже не старухой, а стариком.
– Как это? – в один голос вскрикнули мы с Эммой.
– Да, да, в рецензии на один альманах говорилось: «тут же напечатаны и старики: Ахматова и Мандельштам»[143].
Эмма Григорьевна покатилась со смеху, она даже как-то всхлипывала от смеха.
Анна Андреевна ткнула в ее сторону пальцем:
– Узнаю́ голос друга! – и торжественно вышла из комнаты распорядиться насчет чая.
24 января 56 • Анна Андреевна бывает иногда удивительно несправедлива в своих суждениях.
– Балерина никакая, – говорит она об Улановой. – В «Жизели», в том месте, где смотрит сквозь кусты, лицо у нее страшное, а шея безобразная и тоненькая… Она гениальная мимистка и больше ничего… Мимистки такой действительно в мире не было… Когда умирает – подбородок делается восковым.
Почему же мимистка? Уланова гениальная актриса. (О том, балерина ли, судить не берусь.)
Это все на днях, вечером. В столовой Наталия Иосифовна и пикирующийся с ней Ардов. У них такая игра: он называет ее «ходя», «китайская морда» – она в долгу не остается. В первом часу из театра вернулась сверх-усталая Нина Антоновна, и все взялись за рюмочки.
Анна Андреевна поговаривает о поездке в Ленинград. Очень интересуется, справедливы ли слухи, будто Сурков на пленуме молодых сказал в заключительном слове о выступлении Шолохова: «это было паясничество»[144].
Никто из нас ничего про это не знал.
28 января 56 • Вечером сегодня у Анны Андреевны.
Утром, в Переделкине, я видела Бориса Леонидовича, и потому разговоры вечерние по большей части о нем.
Я попробовала было описать нашу встречу «в общем».
– Нет, о Борисе так нельзя, – сказала Анна Андреевна, – Борис это Борис. Извольте как следует.
Она сегодня одушевленная, живая, нарядная; сверкают перстни на пальцах и промытое, гладкое серебро седины.
…Иду на поезд. В одной руке чемоданчик, в другой – муфта, которой я прикрываю от ветра лицо. Метель пастернаковская, и там, с левой стороны дороги, березы наряжены тоже в пастернаковский иней. «Мело, мело, по всей земле / Во все пределы», а мой платок, поверх шубы и шапки, упорно наползал на лоб и хуже встречного снега мешал мне глядеть. И вдруг, я вижу, навстречу человек – большой, широкий, в валенках. Хозяин здешних мест и метелей – Пастернак. Я бросила в снег чемоданчик и муфту, он – рукавицы, обнял меня и поцеловал прямо в губы. Потом поднял мне все мое, подал – «я немного провожу вас» – и пошел рядом. Я смотрела на него сбоку, искоса, платок и снег мешали видеть ясно. Кажется, он похудел, лицо заострилось. Он сразу заговорил о романе: «Шестьсот страниц уже. Это главное, а, может, единственное, что я сделал. Я пришлю рукопись Корнею Ивановичу, а потом вам»[145].
Я спросила про театр.
– «Малый» поставил «Макбета». Мне с ними легко, потому что они мне менее родственны, чем МХАТ. Они просто хорошие люди, хорошие актеры – Царев, Гоголева, – а в отношениях моих с МХАТом наличествует некий лунатизм.
Слева началась новая цитата из Пастернака: кладбище[146]. Сам он обрастал снегом, белел, круглел, ширел, шапка и плечи в снегу, не человек – сугроб. Он спросил меня, что делаю я. Ответила: пишу сценарий о Шмидте, и добавила, что Зинаида Ивановна, оказывается, еще жива.
Он остановился и потер рукавицей лоб. Снег полетел между нами. «Зинаида Ивановна? – повторил он. – Жива?» – «Да, – сказала я, – она, говорят, сейчас работает медицинской сестрой в каком-то ванном заведении в Крыму». Мне казалось, он все не понимает. «Та самая, Борис Леонидович: “Однако, как свежо Очаков дан у Данта!”»74 .
Он понял, помычал от удивления (в самом деле, то, что Зинаида Ивановна жива, так же удивительно, как если бы вдруг оказалась жива другая дама из другой эпохи – например, Наталия Николаевна Пушкина), и мы пошли дальше. Идти навстречу ветру в гору было трудно, он взял у меня из рук чемоданчик. Заговорили об ожидаемой «Литературной Москве».
– Нет, нет, никаких стихов. Только «Заметки о Шекспире», да и те хочу взять у них75. Вышло у меня с ними так неприятно, так глупо… Какая-то странная затея: все по-новому, показать хорошую литературу, все сделать по-новому. Да как это возможно? К…[147] по новому! Вот если бы к…[148] – тогда и впрямь ново… У меня с ними вышла глупость. Я такой дурак. Казакевич прислал мне две свои книги. Мне говорили: «проза». Я начал смотреть первую вещь: скупо, точно. Я и подумал: в самом деле. В это время я как раз посылал ему деловую записку, взял да и приписал: «я начал читать Вашу книгу и вижу, что это прекрасная проза». И потом так пожалел об этом! Читаю дальше: обычное добродушие…[149] Конечно, если убить всех, кто был отмечен личностью, то может и это сойти за прозу… Но я не понимаю: зачем же этот новый альманах, на новых началах – и снова врать? Ведь это раньше за правду голову снимали – теперь, слух идет, упразднен такой обычай – зачем же они продолжают вранье?
Мы взошли на гору. Он умолк и на мои попытки продолжать разговор отзывался вяло. Я почувствовала, ему уже не хочется идти рядом со мной, а хочется туда, куда он спешил до нашей встречи. Он как оскудевающий ручей, который вдруг начинает просыхать, утекать в землю. Он ведь случайно встретил меня, случайно пошел рядом. Теперь он оскудевал.
– Вы похудели и потому стали похожи на Женю, – сказала я, не зная, что сказать.
Ответ прозвучал неожиданно:
– Разве Женя красивый?
Я не нашлась…
– Тут никто не найдется! – прервала меня Анна Андреевна.
Он поставил мой чемоданчик в снег, повернулся и побежал с горы вниз, и уже из далекой сплошной белой мути я услышала басистое, низкое, мычащее: «до свидания!»
– Да, – сказала Анна Андреевна. – Вот это Борис. «Мело, мело по всей земле / Во все пределы». Конечно, русская метель теперь навеки пастернаковская, но о ней писали и Пушкин и Блок, а вот так ответить насчет Жени – это может один только Борис Леонидович. Это самый что ни на есть пастернаковский Пастернак. «Вы стали похожи на Женю». – «А разве Женя красивый?» Я расскажу это Ниночке. И до станции вас не проводил с чемоданом.
Я призналась, что мне очень хотелось бы, чтобы Борис Леонидович прочитал мою повесть[150].
Анна Андреевна замахала на меня руками.
– Нет, нет, ничто чужое его не интересует. Это не Осип, который носился по городу с каждой чужой строкой, как собака с костью. Этот ничего чужого не может услышать. В сороковом году я послала ему свои «Из шести книг» – и он прислал мне письмо – помните? – из которого я поняла, что он читает меня впервые[151].
Словам ее противоречит один весьма существенный факт: стихи Пастернака Ахматовой, написанные в 1928 году. Там о ее ранних книгах сказано очень точно: «где крепли прозы пристальной крупицы». Как же это – не читал, а определение дано меткое.
– Ну, это по причине собственной гениальности, – сказала Анна Андреевна. – Никогда ничего не читал моего, кроме «Лотовой жены», напечатанной в «Русском Современнике», где он печатался сам[152].
(Анна Андреевна отвлеклась от Пастернака и мельком снова ругнула Ираклия. Он забраковал какую-то режиссерскую работу Нины Антоновны: ее ученица читала кусок из «Идиота».
– Ираклий – нынешний Канитферштандт, – сказала Анна Андреевна. – Везде Ираклий главный. И дурно делают Федин и Корней Иванович, что поддерживают его.
Но это было так, между прочим76.)
Важное – она прочитала мне свои стихи, не то 45, не то 46 года, которые, она говорит, были забыты ею, недавно к ней вернулись и записаны с чужих слов. «Вкусили смерть свидетели Христовы». Прочитав медленно и очень печально эти стихи, она протянула мне листок и позволила переписать. Какая безумная ахматовская энергия и дерзость – вдруг точно с обрыва летишь! – сказать о мертвых:
Их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой…
Мертвых вдохнули с пылью, выпили в вине… А о слове в последнем четверостишии сказано с такою мощью, с какою только и имеет право поэт говорить о слове:
Ржавеет золото, и истлевает сталь.
Крошится мрамор. К смерти все готово.
Всего прочнее на земле – печаль
И долговечней – царственное слово.
Само это четверостишие – прочнейшее сооружение на века. И движется стих царственной поступью[153].
(Разглядывая листок, я теперь ясно поняла: почерков у нее два. Один – беспомощный, кругловатый, детский, вкось – и не очень особенный, на все, в сущности, похожий. Это один. А другой – тот, которым она делает надписи: затейливый, твердый, ни с чьим не спутаешь; слова точно и расчетливо распределены на странице, будто это не надпись, а рисунок…
Этот – у меня в руке, на листочке – был детский, незащищенный.)
Мы снова вернулись к Пастернаку и к Шмидту. В настоящую минуту я «шмидтовед» – и Анна Андреевна расспрашивала меня подробно о нем, о З.И.Р., о матросах, о сестре Шмидта, которую я видела – и еще о том, насколько Пастернак точно шел по документам. (Очень точно.) Я призналась ей в странном своем ощущении: хотя я родилась в 907-м, но мне всегда кажется, будто я помню 905 год, будто я сама его пережила – и это благодаря «905 году» Пастернака и «Виктору Вавичу» Житкова77. Когда я упомянула о Севастополе, Анна Андреевна сказала, что она жила на той же улице, где Шмидт – на Соборной, в доме Семенова. И добавила:
– Главная черта моей биографии – все дома, где я жила, стерты с лица земли. Севастополь, Царское. Один мой усердный почитатель – заика – поехал в Царское поглядеть на мой дом. Я ему объяснила: второй от вокзала. Вернулся, спрашиваю – как? «Ттам рабботтает ттрактор»… Оказывается, на том месте прокладывают бульвар.
10 февраля 56 • На днях я у Анны Андреевны. Разговор о Толстом:
– Обожаю, когда старик начинает выбрыкивать! «Крейцерова соната» – самая гениальная глупость, какую я когда-либо читала. За всю его долгую жизнь ему ни разу и в голову не пришло, что женщина не только жертва, но и участница на 50%.
У ног Анны Андреевны – маленькая электрическая печка. В доме почему-то не топят. Из соседней комнаты голоса и шум: там играют в карты.
29 февраля 56 • Слухи, слухи, ничего толком не разберешь.
Неужели мы дожили до Слова?[154]
Вечером на днях за мною заехала Наталия Иосифовна – я обещала взглянуть на ее новое жилье. Внизу, в такси, ждала Анна Андреевна. Я сразу почувствовала, что она напряженная, тревожная, недобрая. Я спросила о здоровье.
– Сердце как утюг. Вчера целый день лежала. Сегодня утром под гнетом утюга переводила Чаренца. Перевела 44 строки[155].
Мы приехали. Наконец-то у Наташи сносное жилье. Всякая хозяйская пошлость на комодах и стенах, но зато тепло, на окнах уютные ставни, чисто и, главное, тихо. Довольно она мыкалась по патефонно-телевизорным углам.
Анна Андреевна, тяжело дыша, опустилась в кресло. Я спросила: и сейчас утюг?
– Нет, – ответила она с раздражением и принялась ожесточенно бранить «Литературную Москву».
– Совсем дикие люди. Казакевич поместил 400 страниц собственного романа78. Редактор не должен так делать. Это против добрых нравов литературы.
О стихах Асеева79:
– Не стихи, а рифмованное заявление в Моссовет.
О рассказе Шкловского80:
– Совершенное ничто. Недоразумение какое-то. Полный ноль. Однажды Мейерхольд сказал мне про Любовь Дмитриевну Блок: «Я никогда не видел женщины, менее приспособленной для игры на сцене». То же я могу сказать о Шкловском: «Я никогда не видела человека, менее приспособленного для литературной деятельности».
О главе Твардовского из поэмы очень сурово: «Новая ложь. Большей гнусности я в жизни не читала» – это повторила Анна Андреевна несколько раз, сердясь, что я молчу – а я просто еще не успела прочесть. И потом Твардовский… Так ли это? Я его люблю. И все вокруг находят эту главу очень смелой[156].
Когда Наталия Иосифовна убежала за покупками, Анна Андреевна объяснила мне, почему вчера утюг: опять Левино дело ни с места. Кроме того, ее страстно тревожит то же, что и нас всех: съезд, разговоры о Сталине. Разоблачить Сталина – это ведь значит вернуть домой миллионы людей и произнести правду о «замученных и убиенных».
Наталия Иосифовна принесла закуски и бутылочку. Мне налили скучный чай, а они вдвоем потягивали веселое вино. Я, как всегда, томилась завистью, Анна Андреевна, как всегда, от вина помолодела и порозовела.
Рассказала нам, что на ней хотел жениться Пильняк.
– Он был вполне человеком 22 года – и только, – сказала она. (Я не совсем понимаю это определение.) – Корзины цветов, когда ехал на Север и на возвратном пути. Меня удивляла такая настойчивость: мы даже дружны особенно не были.
Затем мы сверяли с ней по памяти впечатления от стихов московского альманаха. В большинстве случаев мнения ее и мои совпали, но не во всех. Обеим нам нравятся «Журавли» Заболоцкого, но мне еще очень и «Некрасивая девочка», а ей – нет. Обеим нам понравилась «Осень» Алигер и обеим нет – Мартынов81. (Я Мартынова вообще не воспринимаю; у него много поклонников, а меня отталкивает рассудочность, рационализм, бессердечие, риторика. И навязчивая многозначительность в придачу.) Анне Андреевне, насколько я поняла, стихи его в альманахе тоже не пришлись по душе, но с общей моей характеристикой Мартынова она не согласилась.
– Я не отношусь к нему с такой безнадежностью, – сказала она.
Потом Наташа прочитала нам свою великолепную пародию на приключенцев. Я покатывалась со смеху, Анна Андреевна радовалась каждому удачному повороту82.
Но когда я провожала ее домой в такси, она снова была уже печальная и серьезная. Сказала, понизив голос, что дурную роль в судьбе Пильняка сыграл счастливец[157]. И опять о поэме Твардовского ворчливо:
– Как это вы могли до сих пор не прочесть? Что же вы читаете? Это новая ложь взамен старой. Читайте немедля.
4 марта 56 • Анна Андреевна стояла, слегка опираясь рукой о стол. Она говорила тихим голосом, но как будто не для меня одной, а с трибуны.
Мы стояли друг против друга – в маленькой комнате, в ясном свете окна, между столом и тахтой.
– Сталин, – говорила Анна Андреевна, – самый великий палач, какого знала история. Чингиз-хан, Гитлер – мальчишки перед ним. Мы и раньше насчет него не имели иллюзий, не правда ли? а теперь получили документальное подтверждение наших догадок. В печати часто встречалось выражение: «лично товарищ Сталин». Теперь выяснилось, что лично товарищ Сталин указывал, кого бить и как бить. На профессора Виноградова лично товарищ Сталин распорядился надеть кандалы. Оглашены распоряжения товарища Сталина – эти резолюции обер-палача на воплях, на стонах из пыточных камер. О врачах он сказал министру: «если вы не добьетесь, чтобы они признались, полетит ваша голова». Прекрасно звучит в этом контексте выражение «не добьетесь». Я надеюсь, эти слова будут запечатлены в учебниках и школьники будут их учить наизусть83.
Вчера впервые мелькнула мне в облике Анны Андреевны репинская «Царевна Софья». Неистовство в расширенных зрачках, в развернутых плечах, в голосе – тихом, но страстном. Гневная одышка. Сила – запертая, скованная, рвущаяся из тисков.
Звонили друзья, просились в гости: Наталия Иосифовна, еще кто-то. Но Анна Андреевна не приняла никого.
– Нет, – сказала она мне, вернувшись очередной раз от телефона. – Я и подходить больше не стану. Этот праздник мы будем праздновать с вами вдвоем.
Праздновали мы так: Анна Андреевна велела смочить полотенце холодной водой, легла и положила его себе на лоб.
Я села возле. Фадеев послал письмо о Леве84. Радость – но даже и эта радость тонет в лучах хрущевской речи.
– Того, что пережили мы, – говорила с подушки Анна Андреевна, – да, да, мы все, потому что застенок грозил каждому! – не запечатлела ни одна литература. Шекспировские драмы – все эти эффектные злодейства, страсти, дуэли – мелочь, детские игры по сравнению с жизнью каждого из нас. О том, что пережили казненные или лагерники, я говорить не смею. Это не называемо словом. Но и каждая наша благополучная жизнь – шекспировская драма в тысячекратном размере. Немые разлуки, немые черные кровавые вести в каждой семье. Невидимый траур на матерях и женах. Теперь арестанты вернутся, и две России глянут друг другу в глаза: та, что сажала, и та, которую посадили. Началась новая эпоха. Мы с вами до нее дожили.
Я сказала, что многие, в особенности из молодых, смущены и ушиблены разоблачением Сталина: как же так? гений, корифей наук, а оказался заплечных дел мастером.
– Пустяки это, – спокойно ответила Анна Андреевна. – «Наркоз отходит», как говорят врачи. Да и не верю я, что кто-нибудь чего-нибудь не понимал раньше. Кроме грудных младенцев.
Я с ней не согласилась. На своем пути мне довелось встречать людей чистых, искренних, бескорыстных, которые и мысли не допускали, что их обманывают.
– Неправда! – закричала Анна Андреевна с такой энергией гнева, что я испугалась за ее сердце. Она приподнялась на локте. – Камни вопиют, тростник обретает речь, а человек, по-вашему, не видит и не слышит?! Ложь. Они притворялись. Им выгодно было притворяться перед другими и самими собой. Вы еще тогда понимали все до конца – не давайте же обманывать себя теперь. Ну, конечно, они, как и мы с вами, не имели возможности выучить наизусть бессмертные распоряжения в оригинале, но что насчет «врагов народа» все ложь, клевета, кровавый смрад – это понимали все. Не хотели понимать – дело другое. Такие и теперь водятся. Вот, например, Твардовский… Вы прочли, наконец?
Я прочла. Читать мне было тяжело. Я вообще люблю Твардовского. И в теперешней неприятно-сенсационной главе встречаются строки, берущие за душу:
Уже его мы оба ждали,
Когда донесся этот звук.
Нам разрешали наши дали
Друг друга выпустить из рук[158].
Тем ужаснее, что у Твардовского не хватило мужества мысли, да и самого простого мужества написать правду.
Альманах лежал на столе. Я открыла главу о друге. Почему «Одной судьбы особой повесть, / Что сердцу стала на пути»? Чем же это такая особая судьба? – судьба миллионов! И что это за вопросы без ответа? «Кто виноват?» – спрашивает автор и отвечает вопросом на вопрос: «Страна? При чем же тут страна? / Народ? При чем же тут народ?»
А кто же при чем? Сами арестованные, что ли, себя за решетку загоняли? Вот и ищи – кто? это и есть твоя работа писательская – понимать… И каким все это произнесено мягким, задушевным, элегически-скорбным голосом, непристойно – в этом случае – безгневным: речь-то ведь идет о массовых убийствах, не о разлуке с возлюбленной… И какой убогий, лживый, рабий конец: совесть проснулась с превеликим опозданием, да и то не сама, оказывается, а по команде[159]. И что это за вознесение ужасной реальности в какую-то надмирную сферу: мы, дескать, в высшем смысле всегда были с ним, с заключенным; он, в высшем смысле, с нами; мы с ним вместе томились в лагере, он с нами вместе поднимался по лестнице в Кремль – что за кощунственный вздор! И сколько комплиментов вынужден наворотить автор необъятной братской могиле, именуемой «Сибирь», чтобы иметь право выговорить наконец свою четверть-правдочку!
– Все так, – медленно сказала Анна Андреевна, выслушав меня. – Но самой главной мерзости вы не приметили. Там возвращающийся из заключения лучший друг не может ответить на вопрос: жива ли его мать? Это естественно: он провел 17 лет в заключении, без писем. Но друг-то этого лучшего друга, сам автор, тот, кто говорит о себе «я» – он-то почему не знает, жива ли старуха? Он-то существовал на свободе…
Анна Андреевна сняла со лба полотенце и спустила ноги на пол. Тяжело поднялась.
– Мы знали, живы ли матери и дети наших погибших друзей. Не правда ли, Лидия Корнеевна?84а
12 марта 56 • Третьего дня у Анны Андреевны.
Она накалена ожиданием. Во вторник обещан ответ насчет Левы. Пойдет Эмма Григорьевна[160].
Снова бранила Твардовского. На этот раз с литературной точки.
– Он воображает, будто можно написать поэму обыкновенными кубиками. Да ими 16 строк напишешь, не больше! Все это от невежества. Греки писали емким гекзаметром, Дант терцинами, где были внутренние рифмы, где все переливалось, как кожа змеи. Пушкин, пускаясь в онегинский путь, создал особую строфу. Все играет внутри, на смену каламбуру приходит афоризм и т. д. А тут – отмахать целую поэму – тысячи километров – кубиками. Какая чепуха!
Про «Обезьянку» Мориака сказала:
– Полный смрад. Многие в восторге, потому что не знают образцов: не читали Сартра, Хемингуэя, Стейнбека. Например, Стейнбек: «Of mice and men»[161]. Каждому слову веришь, и страшно. А этот бежит сзади и кричит: «и я! и я!» А сам не умеет ровно ничего. Единственный вывод: если мужчина импотент – ему не следует жениться. Все85.
Сказала, что уже много месяцев перечитывает Шекспира, «Хроники». А переводит теперь Галкина – и восхищена86.
Еще рассказала про одну из Наташ.
– Я отменяю титул «плохая». Не знаю, надолго ли, но сейчас так. Была у меня, веселая, хорошенькая, попросила зажечь свет, чтобы я взглянула на ее туфельки. В самом деле, туфельки как розы… Но не в этом, конечно, перемена, а вот в чем: никаких сплетен, никакого злословия, никого не ругала – только иногда под текстом вспыхивали синие огоньки.
К Анне Андреевне от имени редакции «Литературного Наследства» приходили просить воспоминания о Маяковском.
– Я отказалась. У меня было когда-то написано страниц восемь, но я их потеряла. И Бог с ними. Я, в сущности, очень мало знала его – и только издали. Терпеть не могу этих воспоминаний дальних лиц. Да и зачем мне бежать за его колесницей? У меня своя есть. Кроме того, ведь публично он меня всегда поносил, и мне не к лицу восхвалять его.
20 марта 56 • Мне хочется спросить у Анны Андреевны: почему так тяжело на душе? Сквозь счастье?
Уж если она не объяснит – больше некому.
У нас теперь много радостей, но каждая чем-то отравлена. Даже величайшая из всех возможных – возвращение друзей.
Разве я не рада? Тогда я просто деревяшка, пень, оледенелая глыба.
Можно брать их к себе на житье, одевать, лечить, хлопотать о скорейшей реабилитации, о комнате для них, о восстановлении в Союзе – я это делаю сама и помогаю делать другим – и все удается.
Это ли не радость?
И изгнанники в доме моем…
А на душе, вместе с радостью, какая-то ядовитая муть.
Стыд перед ними, что их судьба миновала меня? Стыд за молчание, свое и наше общее, когда они подвергались мучениям?
Но ведь заговорить тогда – это значило вырыть себе своими руками могилу и лечь в нее. Живьем. И рядом с собой положить своих близких. Погибнуть и не принести ни малейшего облегчения мученикам.
(Логически это может служить оправданием, но почему-то не служит. Стыд, хоть и не дым, а ест глаза.)
Это вот – одна отравленная радость.
Но есть и другая. Огромная и тоже отравленная.
Мы дожили до светлого часа: слово «Сталин» стоит наконец рядом со словом «застенок». (Пусть по-ихнему: «культ» и «массовое нарушение социалистической законности».)
Пусть! Хоть и на ихнем жаргоне – а все равно, счастье.
Но и это счастье испорчено, замутнено для нас, и тут я догадываюсь – чем. Опять по команде: «поворот все вдруг». По команде славили, теперь по команде будем хаять.
Фридочку вызвал в редакцию Камир и попросил срочно убрать из «Повести о Зое и Шуре» тот абзац, где Зоя полумолитвенно размышляет о Сталине.
– Не трудно вам будет? – спросил он.
– Почему же мне может быть трудно? – ответила Фрида. – Ведь это вы сами, Борис Исаакович, вписали в мою рукопись абзац о Сталине. С текстом он не сросся, убрать его оттуда теперь – легче легкого87.
Позвонил Камир и мне – по поводу «Чалдонки»88. Там десятилетний школьник Володя, во время войны, пишет Сталину письмо об изобретенной им пушке: построить такую – и наша армия сразу победит немцев. Ничего холуйского в письме нет, обыкновеннейшая детская техническая фантастика. (Я подобных писем Сталину от школьников видела десятки.) Так вот Камир на днях позвонил мне: «советую вам подумать вместе с автором». Думать нам не о чем, мы с удовольствием убрали проклятое имя и переадресовали Володино письмо Ворошилову. Но у нас обоих такое чувство, будто мы снова измазались в какой-то гадости. От этого начальственного приказа вычеркнуть одно и вставить другое имя повеяло на меня очередной кампанией, которой, если она кампания, грош цена, повеяло запахом времени, которое, как нас хотят уверить, навсегда прошло. Вправду ли прошло? Если бы вправду, то и Камир прошел бы вместе с ним, а он по-прежнему начальствует! по-прежнему распоряжается! и при этом совершенно на прежний манер… Даже словцо «подумайте!» – оно тогдашнее, из прежнего времени: следователь выпроваживает своего упорствующего собеседника в коридор и дружески предлагает «посидеть и подумать». (Между коридором того заведения и издательским – такая ли уж большая разница? Но мы в этом случае не упорствовали…)
Анна Андреевна просила меня, когда документ будут читать в Союзе, непременно прослушать. (Читают всюду кругом, даже школьникам старших классов.) Просила, если окажется возможно, сделать конспект. Мне и самой, конечно, хотелось своими ушами услышать благую весть. Но если бы не Фрида, я вряд ли удостоилась бы. Случилось так: сначала мне позвонил Могилевский-Октябрьский и сообщил, что в среду, в 6 часов, будут читать «важный партийный документ» и мое присутствие «весьма желательно»[162]. (Я чуть было не спросила, давно ли меня приняли в партию.) Накануне назначенного часа позвонила секретарша: чтение в детской секции отменено. Я встревожилась: где я теперь услышу? И тут выручила Фридочка: на днях, совершенно внезапно, вызвала меня в Союз. Я сразу смекнула, в чем дело, и помчалась. Мы пошли в партком, к Сытину, просить, чтобы нас допустили, если где-то читают[163]. А Сытина нет. И вдруг мы увидели: все, тихонько ожидавшие в коридоре, потекли в конференц-зал. Фридочка молча меня подтолкнула, и мы пошли со всеми. Какая это была секция, я так и не поняла: судя по Левику и Станевич, по-видимому – переводческая. Всего человек тридцать. Мы сели за длинный стол. Молодая миловидная дама в зеленом костюме заперла дверь на ключ и села во главе стола. Читала она очень отчетливо, с интеллигентными интонациями. Чтение длилось два с половиной часа. Доклад составлен почти без казенных фраз. Очень неприятно, что трагедия понята только как трагедия коммунистов, а беспартийных будто и не губили миллионами. Но, в общем, толково.
Мы с Фридочкой, как и все, слушали молча, сидели неподвижно, не переписываясь и не перешептываясь. И не конспектировала я ничего: ведь это панихида, суетиться грех. Письмо Эйхе! Письмо Эйхе! Концентрат, сгусток. Когда читались письма казненных, женщины плакали. Все плакали, кроме нас с Фридой. Меня и не тянуло расплакаться, напротив, я испытывала к плачущим злобу: уж слезы ронять они могли бы и раньше. Другим эти судьбы, быть может, в новинку, а мною давно оплаканы и даже отчасти описаны. Не из доклада Хрущева узнала я, в каких руках были наши близкие.
А они – из доклада?89
Фридочка пошла меня провожать, и, когда мы шли бульваром, я у нее спросила: как она думает, почему женщины плакали? о ком и о чем? О замученных? О своем преступном молчании?
– Думаю, – ответила Фрида, – они оплакивали свою утраченную веру. Всю жизнь веровали свято в товарища Сталина, повинуясь этой вере, совершали всякие подлые поступки, одни чаще, другие реже, а вера сегодня рухнула. Сегодня им сказали в лицо, что они – обманутое стадо. Как же им не плакать?
Измученная бурными чувствами и смутными мыслями, сбитая с толку и слабая, явилась я к Анне Андреевне. Придя, поняла, что не надо бы мне сегодня вываливать ей на голову все мои недоумения и тревоги… Сегодня она светла и радостна: Левино дело, судя по обращению прокуратуры с Эммой Григорьевной, будет вот-вот решено…[164] Но я не могла удержаться, да она и сама сразу же стала расспрашивать меня о письме Хрущева.
Она слушала, не перебивая. Когда я сказала, что женщины плакали, у нее гневно дрогнули ноздри, но ни слова. Потом, прежде чем я, кончив, задала ей свои вопросы, она сама предложила мне один:
– Вот, прослушали вы письмо от начала и до конца, скажите, нашлось ли для вас в нем что-нибудь новое? Какие-нибудь факты или обстоятельства, проливающие новый свет? Я нарочно спрашиваю об этом именно вас, потому что вы и раньше не обольщались.
Я подумала. Узнала ли я что-нибудь новое? Существует магия открытого слова. Знать про себя, среди молчания, всеобщего и своего, и вдруг услышать громко высказанным то, о чем молчишь, – это ошеломляет уже само по себе. Я думаю, от выговоренных впервые или услышанных впервые долгожданных слов у людей меняется состав крови… Но Анна Андреевна спросила проще: узнала ли я из этого доклада что-нибудь принципиально и фактически новое, до сих пор неизвестное мне?
Да, узнала.
Новостью, и весьма существенной, оказалась для меня одна сталинская телеграмма. Я помню, лет восемнадцать-девятнадцать назад, в Ленинграде, в узком кругу, мы задавали друг другу вопрос: каким способом Сталин показывает своим соратникам, что на следствии можно и должно пытать арестованных? Усом помаргивает? Не мог же он так прямо и говорить: поджарьте Рыкова на сковороде, а Бухарина сварите живьем? Как же они вообще на эти темы объяснялись между собой: знаками? усмешками? щелканьем пальцев? бровями? Мы, конечно, понимали, что все эти обывательские разговоры: «Сталин не знает, безобразия творятся его именем без его ведома» – чепуха, вздор, малоумье («царь батюшка не ведает, министры виноваты»), понимали, что он – автор пыточной системы, но, мы думали, скрытый. Лицемерный. Не мог же он так прямо и брякать! Ведь «советская власть не мстит», ведь «советский строй – самый гуманный в мире», ведь «гестапо» бранное слово… Оказалось, отлично мог, так и говорил – не подмигиваньем, а словами, попросту и без затей, и вот эта откровенность и оказалась новизной для меня. Какой-то наивный провинциальный обком – в 38-м, кажется, году, запросил Сталина, допустимо ли в советских следственных органах «применение физических методов воздействия». Сталин ответил, что да, допустимо, безусловно, и мы были бы плохие марксисты, если бы избегали их90.
– Для вас это ново? Что он был прям? Для меня нисколько! – сказала Анна Андреевна. – Кого же ему было стесняться? Мне даже кажется, я эту телеграмму собственными глазами читала. Вот именно: подлинная наука требует… Быть может, читала во сне. Жаль, в те годы мы не записывали своих снов. Это был бы богатейший материал для истории.
Я подумала, что мы и явь-то описали едва-едва, одну миллионную, какой-то краешек яви – и действительность «корчится безъязыкая», «ей нечем кричать и разговаривать». И тоже, надо признаться, материал богатейший.
Я попыталась задать Анне Андреевне неотвязный вопрос: отчего все теперешние радости пропитаны для меня отравой? Даю честное слово: не от того, что другие вернутся, а Митя нет. Честное слово.
– Отчего? – Анна Андреевна серьезно поглядела мне в лицо: пойму ли? – От того, что бессознательно, того не ведая сами, вы хотите, чтобы этих лет будто и не было, а они были. Их нельзя стереть. Время не стоит, оно движется. Арестованных можно из лагерей воротить домой, но ни вас, ни их нельзя воротить в тот день, когда вас разлучили. Этот день для них и для вас был ужасен, но он был днем вашей жизни, и вы хотите, чтобы не только люди, но и день вернулся, и чтобы жизнь, насильно прерванная, благополучно началась с того самого места, где ее прервали. Склеилась там, где ее разрубили топором. Но так не бывает. Нет такого клея. Категория времени вообще гораздо сложнее, чем категория пространства. Справедливость, которая торжествует через семнадцать лет, это уже не та справедливость, которой ваше сердце жаждало тогда. Да и сердце ваше не то… А про Камира и про систему, что она прежняя… Конечно, прежняя… Откуда же взяться другой? – Анна Андреевна опять серьезно и даже как-то с укором посмотрела на меня. – Давайте я вам лучше стихи почитаю. Сорокового года. Марине Ивановне. В них целое четверостишие посерединке я написала заново.
Скорбно подняв брови, скорбным глубоким голосом она прочитала мне стихотворение, обращенное к Цветаевой. «Невидимка, двойник, пересмешник»[165]. Я запомнила только четыре строки:
…То́ кричишь из Маринкиной башни:
«Я сегодня вернулась домой.
Полюбуйтесь, родимые пашни,
Что за это случилось со мной…»
Дальше – дивный переход к самой концовке.
– Ей я не решилась прочесть, – сказала Анна Андреевна. – А теперь жалею. Она столько стихов посвятила мне. Это был бы ответ, хоть и через десятилетия. Но я не решилась из-за страшной строки о любимых[166].
Нас позвали ужинать. В столовой Нина Антоновна оканчивала беседу с молодым человеком, по-видимому, актером, ее учеником, а Миша хозяйничал. Анна Андреевна села на свое обычное место – на диван – и усадила рядом меня, погрозив пальцем Лапе, которая ворчала из-под дивана. Миша подал Анне Андреевне какую-то особую еду, но вино она пила вместе со всеми. Часто наклонялась к моему уху и тихонько шептала что-нибудь посреди общего разговора. Один раз так:
– Правда ведь, за 800 рублей можно купить хороший мужской костюм?
Это она уже готовится к Левиному возвращению…
Речью Хрущева он спасен, как и другие, «от тысячи тысяч смертей».
А я еще смею рассуждать, копаться в себе, быть печальной!
29 марта 56 • В день своего рождения, вечером, я была с Люшенькой в кино на «Деле Румянцева». Оба главные героя, следователь и арестованный, играют превосходно. Арестованный – Алеша Баталов.
На другой день я видела Баталова уже не на экране, а за чайным столом. У Анны Андреевны или, точнее, у Ардовых. Он был с женой. Мы долго все вместе сидели в столовой. Он, видимо, актер замечательный, и я вглядывалась в него с интересом. Лицо рано уставшего мальчика. (Сейчас много таких лиц.) Держится он с подчеркнутой скромностью, но, я думаю, сосредоточен на себе: художник. Фильм не сходит с экрана, и люди узнают Алешу на улице. По просьбе Анны Андреевны он рассказал мне, как на днях был опознан одной девушкой, служащей при бензоколонке. То есть, вернее, узнан, но не опознан. Заправляя машину, она сказала:
– Ты, парень, такое кино видал: про следователя-чурбана? Ты на Румянцева там похож – вылитый! Румянцев и Румянцев… Тебе, верно, уже говорили?
– Случалось.
– Копия!
Но не признался, что это он самый и есть.
Анна Андреевна тут же, за столом, спросила, понравился ли мне фильм? Я сказала, что, несмотря на замечательную игру актеров, картина произвела на меня впечатление двойственное: она неправдиво отвечает на тот вопрос, который сейчас у всех на устах. В сущности, это ложь, хотя и под соусом правды: правда в деталях, ложь в основе. Великолепно сыграны и неповинный Румянцев, и кретин следователь. Отечественные Холмсы и впрямь не блистают умом, но не тут ведь причина перенесенного нами бедствия. Фильм «Дело Румянцева» – это лишь заменитель истины, суррогат, эрзац: все преподнесено как единичный случайный факт. Ведь в действительности таких «дел» были миллионы, и следователи не потому становились орудиями гибели неповинных, что по тупости своей принимали их за виноватых. Уж кому-кому, а им неповинность их жертв была известна досконально: ведь они сами заранее сочиняли «протоколы допросов».
После чая Анна Андреевна увела меня к себе. По-видимому, она была рада услышать, что мне очень понравились ее румынские переводы[167].
– Заметили? Они, кажется, в самом деле удались. Их из меня Шервинский выбил. Удивительно: сам он переводчик не очень хороший, а редактор – отличнейший.
Вышла, оказывается, книжка одной норвежской поэтессы, где несколько стихотворений переведены Анной Андреевной. Я и не знала. И потешное происшествие: один ахматовский перевод приписан Железнову[168]. Это прелестно. Редакция извинилась перед Анной Андреевной и хотела уволить сотрудника, повинного в путанице, но Анна Андреевна за него вступилась.
– Я не позволила из-за себя никого выгонять. Этот крест мне не по плечам. Обещали.
Однако о переводах мы говорили недолго. Сталин, пережитая нами эпоха – вот о чем опять и опять. Я передала Анне Андреевне слухи о недавнем собрании в «Правде». Туда были приглашены писатели, в том числе и Всеволод Иванов. Все ожидали, что разговор пойдет о разоблачении Сталина. Ничуть не бывало: Сатюков произнес казенную, канцелярски-хозяйственную, пустую речь[169]. Писатели в ответ тоже заговорили всего лишь о хозяйстве, хотя и резко: вымирает рыба, гибнут леса. Тогда встал Всеволод Вячеславович и сказал, что есть и пострашнее, чем рыба и лес, что в нашей стране погибли миллионы людей, об этом говорилось на съезде, но по секрету, и доклад Хрущева не дошел не только до народа, но и до него, писателя Иванова. Сатюков в бешенстве его оборвал. Всеволод Вячеславович вышел из кабинета, по некоторым версиям – громко хлопнув дверью92.
Анна Андреевна сказала:
– По-видимому, граница дозволенного очерчена на новой идеологической карте с большой точностью. Охраняется зорко. Но мы ее еще не изучили. Всеволод Вячеславович вольно или невольно ее преступил. А на карте, возле черной черты, крупным шрифтом напечатано: «что можно Хрущеву, того нельзя Иванову». Если каждый начнет делать выводы из хрущевского доклада и, главное, пополнять его собственными соображениями и опытом, – беда.
Домой меня доставил Баталов на своей «бибишке».
7 апреля 56 • Гололедица. На днях со мной случилась дурацкая история. По дороге к Анне Андреевне (это было, кажется, 4-го вечером) я купила торт. Под аркой у двери вместо Вечной Лужи – теперь Вечная Мерзлота, я поскользнулась; мне бы бросить торт и освободить руки, а я, как великую драгоценность, прижимала к груди коробку и потому грохнулась во весь рост со всего размаху на лед. Коробка осталась цела, я же ушибла голову и правую руку в локте.
Я полежала немного на льду, ожидая, не поможет ли кто. Но никого. Встала сама. Кружится голова, мутит. Лучше бы домой, из дому позвонить Анне Андреевне. Но одна пуститься в дальний обратный путь я не рискнула. Вскарабкалась, держась за перила, на второй этаж и дернула звонок. К счастью, мне открыла домашняя работница, а звонка моего кроме нее никто не слыхал: все смотрят в столовой телевизор. Работница помогла мне стянуть с себя пальто, ботики, я юркнула в комнату Анны Андреевны и там легла. Меня никто не видал. Минут через 10, вызванная потихоньку из столовой, вошла ко мне Нина Антоновна, дала каких-то капель и чашку кофе. «Вы сине-белая», – сказала она. Когда я сделалась больше похожа на человека, Нина Антоновна позвала Анну Андреевну. В сущности, у меня уже все прошло, только сильно болела рука, но Анна Андреевна настаивала, чтобы я непременно перешла в столовую на диван, потому что там больше воздуха. А там по телевизору гремел «Отелло», которого слушали другие; для меня же громкий звук гораздо труднее, чем духота. Я умоляла Анну Андреевну не беспокоиться и посидеть со мной. Она села, но была очень тревожна. Не верила, что у меня уже все прошло. Чувствуя ее волнение, Нина Антоновна каждую минуту являлась из столовой с докладом:
– Скоро конец. Уже платок. Дело идет быстро.
– Ура, он уже ревнует. Скоро задушит ее.
Нина Антоновна наповал бранила Юткевича, актеров и весь спектакль.
Анна Андреевна сказала:
– Шекспир требует рамы – и только. Его нельзя ставить на фоне пейзажа. От неба, моря, деревьев сразу гибнет все. Пейзаж ему противопоказан. В действительности ведь он пишет о Лондоне, его настоящий пейзаж – Лондон, о Венеции ли идет речь или о Вероне. И слуги у него – это лондонский сброд, а не венецианский. Шекспира надо ставить так, как ставят англичане: сцена, две ступеньки, принц в плаще, на него направлен свет, и он произносит гениальные слова.
«Отелло» окончился; для спокойствия Анны Андреевны я немного полежала в столовой (пили чай со злосчастным тортом), потом Боря привел такси, натянул на меня пальто и боты и отвез домой.
11 апреля 56 • Сегодня была у Наташи Ильиной, в ее новом жилье (на Арбате), и там встретилась с Анной Андреевной. Дурно выглядит, желтая, и почему-то собирается в Ленинград. А почему – не объяснила.
Разговоры все те же. На днях статья в «Правде» о каких-то новоявленных клеветниках, которые – процитировала нам на память Анна Андреевна – «под видом осуждения культа личности пытаются поставить под сомнение правильность политики партии»93.
– И китайцы, к сожалению, пишут не только стихи, – добавила Анна Андреевна. – Вы читали? – У нее дрогнули ноздри и дрогнул голос. – Палачества Сталина, длившиеся 30 лет, они посмели назвать «ошибками». Всего лишь! Если это ошибки, то что же такое массовые убийства!94
– «А счастье было так возможно, так близко…» – сказала я.
– Вы заблуждаетесь, – ответила Анна Андреевна. – Ничто коренное вовсе не было возможно.
Да, конечно, она права. Мне бы следовало помнить: 1857, 1861, 1862…
Разоблачение злодеев и сопротивление злодеев.
И праздник злодеев: 1863.
14 апреля 56 • Анна Андреевна уехала в Ленинград. Мы проводили ее: Нина Антоновна, Наталия Иосифовна, Миша, я.
Она подарила мне корейцев[170].
По перрону шла с мученическим выражением лица, хотя и пыталась шутить.
24 апреля 56 • Сейчас мне позвонила Наташа Ильина. Она разговаривала с Анной Андреевной по телефону.
Умер Владимир Георгиевич.
Итак, и его она пережила95.
15 мая 56 • Строчу статью для «Нового мира»96, и потому на долю дневника остается всего лишь конспект.
Вернулся Лева.
Застрелился Фадеев.
Это «концы и начала», это – завершение эпохи: один начинает новую жизнь, другой оканчивает свою, во искупление старой.
________________________
Мне хочется написать большими буквами:
ВЕРНУЛСЯ ЛЕВА
Анна Андреевна приехала 14-го. А 15-го, ничего не зная о ней, зашел к Ардовым, по дороге в Ленинград, освобожденный Лева.
Любо видеть ее помолодевшее, расправившееся лицо, слышать ее новый голос.
Мы вошли в маленькую комнату. Там – клубы папиросного дыма.
– Накурил Левка! – сказала Анна Андреевна, рукой разгоняя дым, – сказала таким домашним, мило-ворчливым материнским голосом, что я почувствовала себя счастливой.
У Левы в лагере был приступ гнойного аппендицита. После операции он пять дней лежал без сознания.
Только бы не Катина судьба[171].
Впрочем, Нина Антоновна уверяет, что выглядит Лева не худо. (Сама я его еще не видела.)
Собирается куда-то в Великие Луки, к товарищу.
– В Комарово не хочет, – сказала Анна Андреевна. (Я не поняла, грустно это ей?)
…У меня там уже никого не осталось. Кроме мертвых.
1 июня 56 • Писала изо всех сил статью и потому забросила Дневник чуть не на две недели. В Переделкине была всего раз. Теперь статья окончена – пересаживаюсь бегом за Дневник.
Итак, жила я с выключенным телефоном. Писала. Лил дождь. Внезапный стук в дверь. Это Наталия Ильина, командированная за мною Анной Андреевной. Я отправилась. На столике и на постели разбросаны тетради, блокноты, листки. Чемоданчик открыт. К празднику сорокалетия советской власти Слуцкий и Винокуров берут у Ахматовой стихи для какой-то антологии: 400 строк. Чемоданчик в действии – Анна Андреевна перебирает, обдумывает, выбирает, возбужденная и веселая. Когда я вошла, она бросила тетради и листки обратно в чемодан, хлопнула крышкой и, усадив меня за столик, начала диктовать.
– С вами удобно, – пояснила она. – Можно по первым строчкам. Или по последним.
– Можете даже по седьмым, – сказала я, возгордившись.
Мы составили список приблизительно из сорока стихотворений. Не спорили или, если спорили, то только о «проходимости». Впрочем, вообразить невообразимое все равно нельзя, оно «непостижимо для ума» – даже для ума и воображения Анны Ахматовой. Отбор совершался под лозунгом: граница охраняема, но неизвестна.
Анне Андреевне очень хотелось дать «Стансы». Мне, разумеется, тоже… Сначала голос хоть и трагический, но величавый и спокойный, а потом вдруг, при переходе во второе четверостишие, удар неистовой силы. Вру; не «при переходе», а безо всякого перехода, как удар хлыстом: «В Кремле не надо жить»…
А в последних двух строках – полный и точный портрет Сталина:
– Как вы думаете, все догадаются, что это его портрет, или вы одна догадались? – спросила Анна Андреевна.
– Думаю, все.
– Тогда не дадим, – решила Анна Андреевна. – Охаивать Сталина позволительно только Хрущеву.
Работу мы кончили. Я переписала список набело. И тут наступила минута, когда я рассказала Анне Андреевне о преступлении Ольги. Я бы и раньше – да это впервые после моего печального открытия мы виделись с ней наедине и толком97.
Анна Андреевна слушала меня молча, не перебивая, не переспрашивая. Опустив веки. Ее лицо с опущенными веками – камень. Перед этим каменным, немым лицом я как-то заново поняла, что рассказываю о настоящем злодействе.
Заговорила она не сразу и поначалу голосом спокойным и медленным. Словно занялась какой-то методической классификацией людей и поступков.
– «Такие»… – сказала она. – «Такие»… они всегда прирабатывали воровством – во все времена – профессия обязывает. Но обворовывать человека в лагере! – Она подняла глаза. Камень ожил. – Самой находясь при этом на воле!.. И на щедром содержании у Бориса Леонидовича… и не у него одного, надо думать… Обворовывать подругу, заключенную, которая умирает с голоду… Подобного я в жизни не слыхивала. Подобное даже у блатных не в обычае – между своими. Я надеюсь, вы уже объяснили Борису Леонидовичу, кого это он поет, о ком бряцает на своей звучной лире? Образ «женщины в шлеме!» – закончила она с отвращением цитатой из стихотворения Пастернака.
Я ответила: нет, не стану… И тут вся ярость Анны Андреевны, уже несдерживаемая, громкая, обрушилась с Ольги на меня. Она не давала объяснить, почему я не желаю рассказывать Борису Леонидовичу об Ольгиной низости, она кричала, что с моей стороны это ханжество, прекраснодушие – Бог знает что. Она схватила со стола карандаш, оторвала краешек листка от только что составленного нами списка и с помощью таблицы умножения вычислила, на сколько сот рублей обворовала меня Ольга. Когда мне удалось вставить: «Не в этом же дело!» она закричала: «И в этом! и в этом! Работа профессиональной бандитки».
Она умолкла, и я решилась заговорить. Я объяснила, что не скажу Борису Леонидовичу ни слова в разоблачение Ольги по двум причинам.
Первая: мне его жаль. Не ее, а его. Если бы не моя любовь к Борису Леонидовичу, я не постеснялась бы вывести Ольгу на чистую воду перед большим кругом людей. Но я слишком люблю его, чтобы причинять ему боль.
Вторая: он мне все равно не поверит. Ведь Ольгу он обожает, а о Надежде Августиновне имеет представление смутное. Ведь это мне известно, что человек она благородный и чистый и лгать не станет, а он? а он свято поверит тому, что наврет ему Ольга. Расписок и квитанций никаких у меня нет, свидетелей я не назову. Для него мое сообщение было бы просто еще одним горем – нет, еще одним комом грязи. Так и никак иначе воспримет он мои слова. Что же касается до утраченных мною денег, то это мне наказание, штраф, за собственную мою вину. Ведь я-то Ольгу знаю не первый день. Неряшливая, лживая, невежественная… Мне еще в редакции так надоели ее вечное вранье, мелкие интриги, хвастливые россказни о своих любовных победах, что я, уже задолго до ее ареста, перестала общаться с ней, хотя она, по неведомым мне причинам, окружала меня заботами и бесстыдной лестью… Какое же я имела право, зная ее издавна, доверить ей посылки – то есть, в сущности, Надино спасенье, здоровье, судьбу?
– Вздор! – с раздражением перебила меня Анна Андреевна. – Ханжество. Вас обворовали, и вы, в ответ, чувствуете себя виноватой. Я вижу, вы настоящий клад для бандитов.
Вчера Анна Андреевна была у меня. Об Ольге мы не продолжали. Речь шла о самоубийстве Фадеева. О неприличии официального сообщения. О том, узнаем ли мы когда-нибудь, какова была истинная причина самоубийства? Об оставленном им письме. Получим ли его когда-нибудь мы – современники, адресаты?98
– Фадеевская легенда растет, – сказала Анна Андреевна. – А тут нужна не легенда. Срочный опрос свидетелей. Подлинные документы. Протоколы. Настоящее следствие по свежим следам. Знаем мы, как потом наврут в мемуарах.
Я доложила ей переделкинские слухи. (Большинство оказались известны ей.) Секретарша, Валерия Осиповна, говорит, что это был приступ тоски перед запоем. (Реплика Анны Андреевны: «Это не она говорит, это ей сказали»99.) Одни думают: убил он себя в порыве отчаяния, внезапно – иначе зачем бы в этот день он взял с собой на дачу сына? Другие, что он давно решил и подготовил самоубийство. Шофер рассказывает: садясь в машину после визита к Маршаку, Александр Александрович сказал: «Вот и в этом доме я был в последний раз». (Шофер понял так: поссорились.) Говорят, будто предсмертное письмо, адресованное Фадеевым в Ц.К., страшное; в нем будто бы написано: «Я убиваю себя потому, что оказался невольным участником преступлений, сломавших хребет русской литературе». Другие, со слов Книпович, которая жила на фадеевской даче и была там в момент катастрофы, утверждают, что он вообще никакого письма не оставил[173]. (Анна Андреевна: «Если письма нет, значит, она сама и сожгла его. Это настоящая леди Макбет. Способна своими руками не только уничтожить предсмертное письмо, но и отравить и зарезать человека»100.) Рассказывают еще, будто Софронов и прочие собирались свалить на Фадеева весь позор космополитской – то есть антисемитской – кампании; найдена будто бы его резолюция: «пора разъевреить Союз».
– Я Фадеева не имею права судить, – сказала Анна Андреевна. – Он пытался помочь мне освободить Леву.
Я сказала, что лет через 50 будет, наверное, написана трагедия «Александр Фадеев». В пяти актах. На моих глазах вступался он не за одного только Леву: за Оксмана, за Заболоцкого, а во время блокады его усилиями, по просьбе Маршака, были вывезены из Ленинграда погибавшие там наши друзья: Пантелеев, Габбе, Любарская[174]. В отличие от Софронова, Бубеннова, Сурова, которые всегда были – нелюдь, Фадеев был – когда-то – человек и даже писатель. Выстрелом своим искупил ли он свои преступления? Смывается ли кровью пролитая кровь? Надо быть Господом Богом, чтобы ответить на этот вопрос.
– Наше время даст изобилие заголовков для будущих трагедий, – сказала Анна Андреевна. – Я так и вижу одно женское имя аршинными буквами на афише.
И она пальцем крупно вывела в воздухе:
ТИМОША[175]
Разговор переменился.
– Затея с четырехстами моими строчками оказалась блефом, – сказала Анна Андреевна. – Напрасно я теребила вас в дождь!.. По-видимому, все это лишь предлог, чтобы заполучить мои стихи в личное пользование. Скверные мальчишки[176].
Теперь у нее берут стихи в «Октябрь». Не 400 строк, скромнее. Она дала «Последние слезы», «Черную и прочную разлуку», «И время прочь, и пространство прочь» и еще что-то[177].
На прощание я подарила ей маленькую фотографию Бориса Леонидовича, – ту, Вовину101. Она была очень довольна. Надела очки, долго держала карточку у себя на ладони и вглядывалась в нее.
– Что-то рембрандтовское, – сказала она напоследок. – Какая тьма склубилась. И какой силы и света лицо – из тьмы.
5 июня 56 • В субботу, в 8 часов, я должна была читать «Рабочий разговор» у К.; среди приглашенных – Наталия Иосифовна, за которой я должна была заехать в 7. Заехала. У нее в комнате в белом, пышном, шуршащем платье царствовала Анна Андреевна. Она попросила нас завезти ее к Игнатовым, с тем, чтобы часа через три Наташа снова заехала за ней. Одна она боится не только ходить по улицам, но даже в машине ездить… Сердце.
По дороге Анна Андреевна объявила мне, что тоже хотела бы послушать мою статью.
Мы условились на завтрашний вечер у Наталии Иосифовны.
7 июня 56 • Вчера читала у Наташи. Кроме Анны Андреевны, были друзья, Наташины и мои. Анна Андреевна надела очки, положила перед собою карандаш и бумагу и превратилась в воплощение деловитой учености; может быть, в статую Минервы. Страшновато было; в особенности когда она бралась за карандаш.
Я кончила.
– Если будет напечатано – станет событием, – сказала Анна Андреевна.
Замечания у нее такие:
1) Слишком много Горького.
2) Не надо имени Пришвина среди писателей первого ряда.
3) Стасов – фигура вредная.
4) Пушкин черпал не только из русского народного языка, но и из иностранных.
Насчет Стасова я совершенно не согласна. Он стал вреден – когда не понял Врубеля. Никто не властен перешагнуть через себя и через свое время. Но искусство своего времени он понимал и миссию свою выполнил блистательно.
14 июня 56 • Вчера у Анны Андреевны.
Ардов в отъезде, и она живет теперь у него в комнате, более просторной и менее жаркой.
Она позвонила и потребовала, чтобы я пришла немедля.
Несет сейчас при ней бессменную вахту Наталия Иосифовна. Дом, видимо, пуст.
Когда я пришла, Анна Андреевна вручила мне подстрочники семи стихотворений Квитко: из них она перевела только три, а остальные переводить не хочет, ссылаясь на усталость и головные боли. Просила меня все отнести Берте Самойловне и перед ней извиниться. Я огорчилась, зная, как будет огорчена Берта Самойловна. Кроме того, к моей большой досаде, из семи стихотворений Льва Моисеевича Анна Андреевна перевела не самые сильные[178].
Однако вызвала она меня столь поспешно не из-за этих стихов. Вручив мне подстрочники и переводы, она начала рыться в сумочке, которая всегда, наравне с чемоданом, служит ей службу несуществующего ящика несуществующего письменного стола. В чемодане собственные рукописи, в сумочке все на свете. Оттуда полетели письма, газетные вырезки, деньги, очки, карандаши, анализы, квитанции, нитроглицерин, пудра. Анна Андреевна хотела показать мне письмо от Суркова, но оно не попадалось.
– Пора произвести чистку, – сказала она утомленным голосом. – В суме Плюшкина… Вот оно!
Письмо нашлось.
Это было довольно длинное, хотя и беглое послание, написанное карандашом, поспешным почерком, на закрытии армянской декады, где побывала Анна Андреевна; там совершался обряд «подведения итогов». Письмо возвещает, что назрело время (эти два слова подчеркнуты жирной чертой) переиздать стихотворения Ахматовой.
(«Какой прогресс и агрикультура!» – как писал когда-то Зощенко. Снова переиздадут «Сероглазого короля».)
Но это я зря. По словам Анны Андреевны, Сурков произнес очень смелую речь. Он заявил, что в докладе Жданова были, оказывается, ошибки: напрасно, например, охаяны Серапионы, Лунц; литература тридцатых годов не отразила, к сожалению, ежовщину (почему бы это, интересно?); Институт Мировой Литературы не создал историю литературы; Советская Энциклопедия никуда не годится – и т. д.
– А теперь я покажу вам фокус, – сказала Анна Андреевна, окончив излагать речь Суркова. Из той же сумки она достала газету и протянула мне. – Раз, два, три! Читайте – вот тут, на сгибе.
Я прочла:
«С большой речью выступил тов. А. А. Сурков»102.
– Совершенная правда, – сказала Анна Андреевна. – Пресса не лжет. Я свидетель. В самом деле выступил, в самом деле Сурков и в самом деле с большой. Точка. Все.
8 июля 56 • Анна Андреевна в Ленинграде, но скоро приедет для свидания с Сурковым.
Вчера, после большого перерыва, я виделась с Наталией Иосифовной. Она была в Ленинграде, навестила Анну Андреевну и на даче и в городе. Очень бранит Иру: Анна Андреевна одинока, заброшена, неустроена.
Лева влюбился в Наташу. Она говорит, этому грош цена, он влюбляется каждую минуту.
18 июля 56 • Приехала Ахматова. Звонила. Вечером я буду у нее.
Вернулась от Анны Андреевны. Она посвежела, похудела – Комарово служит свою службу. Новое серое платье очень идет к седине. За чаем шуточки Ардова: «madame Цигельперчик». Затем мы у нее в комнате, одни; она сидит в углу постели, сложив руки на коленях, скорбно подняв брови – печальная, доверчивая, торжественная – говорит:
– Жизнь ко мне очень жестока, и вот сейчас одна из наибольших жестокостей: эта книга, составленная Сурковым. Я его не виню, иначе, наверное, нельзя. Перед моим отъездом он просил, чтобы я в Ленинграде посмотрела выбранные им стихи, подумала над отбором. Я даже в руки их не взяла. Меня эта книга не выражает совсем, нисколько.
Она вынула из чемоданчика и положила передо мной папку. Я открыла. Но не успела я перевернуть две страницы – Анна Андреевна захлопнула ее и с искаженным лицом снова засунула в чемодан.
23 июля 56 • Вчера у Анны Андреевны.
Ардовых старших нет; в столовой мальчики и девочки пьют и танцуют на просторе.
Анна Андреевна вялая, грустная. Ждет звонка Суркова, а Сурков не звонит.
Сказала мне:
– Вот если бы вы составили мою книгу!
Она ошибается. Ничего хорошего из этого не вышло бы. Я составила бы, издательство зачеркнуло бы. Никакого толку.
25 июля 56 • Вечером меня позвала Анна Андреевна. У нее Юлиан Григорьевич. Я застала препирательство об одной записи в дневнике Пушкина. Впрочем, довольно вялое. Юлиан Григорьевич отяжелевший, померкший. Видно, неприкаянная жизнь «под Москвой» ему уже не по силам103. Оживился он ненадолго, рассказывая про новую книгу Шкловского о Достоевском104. Рукопись была у него с собою, и он прочел нам вслух начало статьи. Я слушала, недоумевая. Картонное, из папье-маше, красивенькое, совершенно антидостоевское описание Петербурга.
Анне Андреевне не понравилось тоже. Она это высказала.
Юлиан Григорьевич смутился. «Что же, значит, я неверно вижу, я пристрастен?»
– Голос друга! – глубоким и тоже дружески участливым голосом произнесла Анна Андреевна.
Я попросила ее прочитать «Ленинградскую элегию»[179]. Она прочла сначала «трещотку прокаженного»[180], потом «Кто чего боится»[181]. Читая «трещотку», очень искусно взяла в кавычки слово «смелых»: «я научу шарахаться ва-ас, “сме-елых”, от меня». Только в заключение и после долгой паузы прочитала элегию.
Я думала, слушая: если память умерла, то отсюда уже недалеко до физической смерти.
27 июля 56 • Вчера вечером опять была у Анны Андреевны.
Тороплюсь записать ее дорогие слова.
Но сначала про другое.
Я прочитала ей «Балладу о рыбаке». Волновалась так, будто читала свое.
– Хорошие стихи, – сказала Анна Андреевна. – Настоящая большая лирика. Имеет шансы сделаться народной песней, как «Меж высоких хлебов затерялося»…105
Я сказала, что постепенно прихожу к такому убеждению: лирическая поэзия расположена где-то неподалеку от этики.
– Да, конечно, – медленно произнесла Анна Андреевна. – Во всяком случае в некоторые эпохи.
– И ведь стих здесь самый что ни на есть наивный, прямой, – сказала я о балладе. – А все равно – стих.
– Да, конечно, – опять согласилась Анна Андреевна. – Это тоже «Старик и море», только сильнее, важнее. Мальчик написал правду – и правда сию же минуту расплатилась с ним чистым золотом поэзии. – Анна Андреевна помолчала. Подумала. – Но не всегда так бывает. Те хорошие люди – ну, в девяностых годах – они ведь писали тоже от благородных чувств, но их чувства не слагались в поэзию, потому что стих тогда был совершенно уничтожен, убит. «Великие учителя» отучили создавать поэзию и воспринимать ее. А сейчас у этого мальчика за спиной – снова высокая культура стиха.
Я высказала Анне Андреевне одну свою любимую мысль. Поколения, идущие следом за моим, утратили русскую классику. Литературные мальчики и девочки моего возраста знали и любили смолоду Батюшкова, Пушкина, Баратынского, Лермонтова, Тютчева, Некрасова, Полонского, Фета. Это потому, что в юности или даже в детстве они пережили каждую строку Блока, Ахматовой, Мандельштама. Я помню, как двенадцатилетними девочками мы с Женей Лунц прятались в школьном шкафу (где стояли географические карты и другие пособия) и читали друг другу по очереди наизусть «Незнакомку», «Соловьиный сад», и «У самого моря». Современные стихи, пронзившие нас, словно личные письма, нам адресованные, оказались надежным путем к постижению Баратынского и Тютчева. Теперешняя молодежь не может пробиться к классикам, потому что туда один путь – через современную поэзию – а ее нет. А та, что есть – запечатана.
Тут Анна Андреевна и пожаловала мне орден «Славы» первой степени.
– Так думали все умные люди нашего поколения, – со скромной гордостью сказала она.
________________________
Сурков не звонит. Это превращается в наваждение, в кошмар. Между тем известно, что в плане «Советского писателя» книга Ахматовой держится прочно. Быть может, ее собираются выпустить без участия автора? И это возможно. Все возможно. Анна Андреевна думает, что надежда была ложная и снова всему конец. «И хорошо, и отлично», – говорит она.
Я спросила, не стоит ли позвонить Суркову самой? Ну, не ей самой, но, скажем, я могу позвонить от ее имени.
– За 68 лет своей жизни, – сказала Анна Андреевна, – я заметила, что самой звонить бесполезно. Пока у них не сварится, они все равно ничего не скажут.
1 августа 56 • На днях вечером у меня была Анна Андреевна.
Сурков не звонил. Она подчеркивает, что ей это решительно все равно. Между тем, книга ее твердо стоит в плане, а имя, без эпитета «блудница», упоминается чуть ли не в каждом номере «Литературной газеты».
За чем же дело стало?
3 августа 56 • С утра звонок: Анна Андреевна просит отвезти ее в Переделкино.
Трудная это, признаться, была для меня поездка. Я не выспалась, и как со мною при малейшем недосыпе бывает всегда: болят ноги, звуков не выношу, людей – еще менее. Словно у меня где-то внутри содрана кожа, и каждый звук задевает рану.
Машины у Корнея Ивановича сегодня нет. Я заехала за Анной Андреевной в такси и предупредила ее: возвращаться будем поездом, а до вокзала полтора километра, и часть пути в гору. По силам ли ей это?
Она сказала, что это ее ничуть не пугает. Цель поездки: добыть для Эммы Григорьевны рекомендацию в Литфонд. Сначала мы заехали к Корнею Ивановичу. Он удивился: «Как? всего только в Литфонд? А я думал – в Академию Наук». От него к Федину в сопровождении Веры Александровны, которую Анна Андреевна по старой дружбе именует Вивой106. Калитка оказалась заперта; мы позвонили; нам довольно быстро открыла домработница или сторожиха, хмурая, без улыбки. Анна Андреевна отправилась одна, а мы с Верой Александровной обещали зайти за ней минут через сорок. В условленное время мы снова подошли к той же калитке. Звоним – никого. Стучим – никакого толка. Кричим – нет ответа. Трясем калитку, колотимся в забор – не поддается. Осатанев от собственных криков и стуков, я начала бросать камешки через забор. Все напрасно, сторожиха, по-видимому, отлучилась, и в доме, за таким высоким забором, ничего не слышно. Нас выручила Наталья Константиновна Тренева: она милосердно проводила нас через свой участок, смежный с Фединским, к какой-то тайной калитке107. Мы вошли в сад. Двери дома отворены. По нарядной, уставленной цветами лестнице я поднялась наверх, в кабинет Константина Александровича. Деловой разговор, по-видимому, был уже окончен; хозяин и гостья на прощание обменивались любезностями.
– Как легко и приятно быть у вас просительницей, – говорила Ахматова.
– Помилуйте, Анна Андреевна, вы рождены повелевать, а не просить, – галантно отвечал Федин.
Это было немного смешно: будто они танцуют менуэт и делают друг другу реверансы.
Ужинать я повела Анну Андреевну к нам. Шла она веселая, довольная: Федин не только обещал все устроить для Эммы, но к тому же подтвердил, что вопрос о книге решен положительно. Пришли мы к Корнею Ивановичу – у него Бонди. Читает и комментирует письмо Осиповой к Александру Ивановичу Тургеневу. Все слушали, любезно и с интересом, а у меня от напряжения проступал на лбу пот.
Поужинали. Корней Иванович написал для Эммы Григорьевны то, что надо. Пошли на вокзал. Сергей Михайлович оживленно рассказывал Анне Андреевне что-то о «Золотом Петушке», но я не понимала ни слова и только мучилась: нервный, громкий голос. Мне даже идти было легче, чем слушать и понимать. Не успели мы сделать по шоссе и двадцати шагов, как Анна Андреевна с упреком стала спрашивать меня, скоро ли вокзал? В городе она храбрилась, а тут, видно, силы ее иссякли. Раздраженно, требовательно спрашивала: «скоро ли?» и «почему мы так долго не приходим?» и «где же вокзал?» Я ответила резко: «до вокзала еще километр и притом в гору»… Теперь мне стыдно вспомнить, как я огрызнулась: ей-то ведь идти наверное было труднее, чем мне.
Сергей Михайлович мягко и заботливо ее утешал. К счастью, повстречалось такси; Бонди усадил нас в машину, и мы доехали благополучно.
5 августа 56 • Жизнь Анны Андреевны проникнута сейчас ожиданием. Сурков не звонит. Будет ли книга? Она уже не делает вида перед самой собой и другими, будто ей это все равно. Сообщила мне с утра счастливым голосом: Сурков не звонил, но зато звонил Федин и сказал, что Сурков непременно позвонит в понедельник. По этому случаю она отложила свой отъезд к Шервинским в Старки и просит меня придти посоветоваться.
Вечером я пошла. Анна Андреевна напряженно ждет завтрашних вестей. Спросила, как я думаю, давать ли в книгу стихотворения «Борис Пастернак» и «Клевета».
– Сталин, – объяснила она, – обиделся когда-то на «Клевету», не заметив дату: 1921[182].
Я посоветовала включить и «Пастернаку» и «Клевету»: идей начальства все равно не угадаешь. То́ оно не замечает написанного (например, дату), то́ замечает нечто, чего и в помине нет (например, защиту сорняков в стихотворении «Ива»).
На днях Лева звонил из Ленинграда Эмме Григорьевне с сообщением, что Анной Андреевной получены еще какие-то деньги за «Марьон Делорм». Она очень довольна.
Прочитала мне черновик своего перевода из Рабиндраната Тагора – «Счастье».
– Как вы думаете, продолжать или бросить? Очень скучные стихи.
– Бросить, – сказала я, памятуя о новых деньгах за Гюго.
…А вдруг бы – договор на ее собственную книгу и большой тираж, большие деньги?!. Большая книга с новыми и старыми стихами!
7 августа 56 • Звонила Анна Андреевна: ее приглашают к Суркову завтра, к шести часам, в Союз. А завтра в Союзе как раз закрытое партийное собрание. До или после? Интересно.
10 августа 56 • Вчера звонила Анна Андреевна: состоялось наконец ее свидание с Сурковым. Он уходит в отпуск, просит ее составить маленькую книжку и прислать ему.
Маленькую? Глупо.
Но «не случайно», по любимому выражению наших критиков.
Третьего дня закрытое партсобрание в Союзе. Очередное письмо Ц.К., а потом рассуждения о «критиканах». Кто же эти критиканы? Ну, например, Берггольц, которая выступила не так давно на писательском собрании с критикой речи Жданова и постановления об Ахматовой и Зощенко. Зал бурно аплодировал, а затем Ольгу Федоровну стали прорабатывать всюду, на всех партийных собраниях в Ленинграде и в Москве. Постановление 46 года, оказывается, оставлено в силе.
Но ведь Зощенко и Ахматову все же печатают. Вот и пойми!
Какое грязное пятно было бы смыто с наших душ, с нашей литературы, если бы ждановщина была отправлена туда, куда ей и дорога – туда же, куда ежовщина, бериевщина!108
16 августа 56 • Приехала с дачи Шервинских Анна Андреевна. Она посвежела немного, помолодела, даже загорела. Дочь Шервинских пишет ее портрет[183]. «Хорошо вам там было?» – спросила я.
– Разве мне может быть где-нибудь хорошо? – ответила Анна Андреевна с укором.
И я увидела, какие усталые у нее глаза.
Это было третьего дня. Разговор зашел о выступлении Ольги Берггольц.
– Относительно меня Оля всегда вела себя безупречно – сказала Анна Андреевна. – И в 46-м, и вот теперь[184]. Но неизвестно, какую волну поднимет ее выступление.
(Я-то уже знаю, какую: здесь Ольгу Федоровну прорабатывал Сытин, а в Ленинграде, говорят, дело будет разбираться в Обкоме. Но я промолчала, видя, что Анна Андреевна и без того чем-то расстроена.)
– Завтра, – сказала она, – десять лет. Следите за центральной прессой.
Но в газете вчера ничего не было – если не считать шпилек в подлейшем ответе Эренбургу, явно инспирированном редакцией.
(Сарра Эммануиловна Бабенышева называет эту статью так: «Кочетов вернулся из больницы»109.)
23 августа 56 • Мрачный день с Анной Андреевной. Один из самых мрачных. Вчера.
С утра она вызвала меня к себе. Оказывается, она вернулась в город от Шервинских, потому что Сурков срочно требует книгу. Она ее составила и теперь просит меня «глянуть». Книжка маленькая. Оригинальных стихов немногим более, чем переводов. Конечно, книга Ахматовой – это книга Ахматовой, но в сущности путь поэта сведен к ранней любовной лирике и к стихам военной поры. Обокраден поэт и обокраден читатель. Новый читатель, такой жадный к поэзии… Но книгу я смотрела под конец, а сначала выслушала несколько горьких сообщений и гневных, язвительных монологов.
Самое горькое – о Леве. Он в Ленинграде; вернувшись в Москву, Анна Андреевна говорила с ним по телефону. Его не взяли в Эрмитаж. Он, по его словам, оформился дворником в Этнографическом Музее. Может ли это быть? Ведь он кандидат наук, ученый… И после всего!
Анна Андреевна повторила четыре строки из стихотворения, которое я ей прочитала недавно[185].
Затем я на секунду обрадовалась. У нее, оказывается, побывал на днях Борис Леонидович, который не был века. Но —
– Нет, нет, не радуйтесь, Лидия Корнеевна! Никакого продолжения дружбы! Его послал ко мне один человек по делу… Выглядит ослепительно: синий пиджак, белые брюки, густая седина, лицо тонкое, никаких отеков, и прекрасно сделанная челюсть… Написал 15 новых стихотворений[186]. Прочел ли? Конечно, нет. Прошло то время, когда он прибегал ко мне с каждым новым четверостишием… Он сообщил о своих новых стихотворениях так: «Я сказал в Гослите, что мне нужны параллельные деньги». Вы догадываетесь, конечно, в чем тут дело? Ольга требует столько же, сколько Зина. Ему предложили написать новые стихи, чтобы том не кончался стихами из Живаго…[187] Ну, он их и написал: 15 стихотворений. Я так разозлилась, что сказала стервозным бабским голосом, стервознейшим из стервозных: «Какое это счастье для русской культуры, Борис Леонидович, что вам понадобились параллельные деньги!»
Монолог великолепный, но я его слушала с болью. Я нуждаюсь в том, чтобы они друг друга любили: Ахматова и Пастернак. Мне без этого худо.
Анна Андреевна между тем обнаружила подкладку своей обиды.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу
141
Машенька – пятилетняя правнучка Корнея Ивановича.
142
См. «Гибель Пушкина», ОП, с. 110.
143
Пересказ Ахматовой не вполне точен. В 1939 году (когда ей не тридцать, а под пятьдесят) Фадеев рекомендовал снять из «Московского альманаха» (изд-во «Советский писатель») произведения троих “стариков”: Асеева, Зощенко и Ахматовой. Мотивировка была такая: «…альманах по существу должен быть альманахом молодежи…». («Внутреннюю рецензию» А. Фадеева см. в книге: К. Симонов. Собр. соч., т. 12. М.: Худож. лит., 1987, с. 469.)
144
«Литературная газета» от 12 января 1956 года, публикуя речь Шолохова, дает некоторое представление о «паясничестве» этого классика, но о реплике Суркова – ни звука.
145
По приглашению Бориса Леонидовича я дважды слушала начальные главы романа: 6 февраля 1947 года, в доме его близкого друга, пианистки Марии Вениаминовны Юдиной (1899 – 1970) – тогда Б. Л. сам заехал за мною; и вторично – 5 апреля 1947-го в доме у случайного знакомого О. Ивинской – П. А. Кузько (1884 – 1969). Кроме того, некоторые главы Б. Л. давал мне читать в рукописи. Говорил: «слушатели романа для меня – особое племя». Отрывки из моего дневника о чтении романа у Юдиной напечатаны в 1990 году в № 2 «Литературного обозрения».
На собрании у Кузько Борис Леонидович, прежде чем читать главы из романа, произнес небольшую вступительную речь. В юности я окончила курсы стенографии, работала одно время стенографисткой профессионально и в 1947 году способна была записать выступление Пастернака от слова до слова. В 1990 году моя стенограмма была опубликована в № 2 «Литературного обозрения». (Там же, в воспоминаниях Э. Г. Герштейн, на с. 99 – 101 напечатан и ее рассказ об этом чтении.) И мемуары Герштейн, и мои записи теперь – в 1993-м – напечатаны также в сборнике «Воспоминания-П».
146
То, на котором он ныне покоится. Но тогда я еще воспринимала переделкинское кладбище не как реальность – мертвую, живую и страшную, – а как цитату из стихотворения «Август», пророчествующего о такой невообразимой, немыслимой реальности: о грядущих похоронах Бориса Леонидовича.
147
партийному съезду
148
беспартийному
149
К 1955 году из крупных вещей Э. Казакевича опубликованы: «Звезда», «Весна на Одере» и «Сердце друга». Какие именно свои «две книги» Казакевич прислал Пастернаку – не знаю.
150
«Софью Петровну».
151
См. «Записки», т. 1, с. 177.
152
Журнал «Русский современник» выходил в 1924 году. В № 1 были напечатаны два стихотворения Ахматовой: «…И праведник шел за посланником Бога», «И месяц, скучая в облачной мгле» («Лотова жена» и «Новогодняя баллада» – БВ, Anno Domini), а в № 2 – рассказ Пастернака «Воздушные пути» и стихотворения «Отплытие», «Петухи», «Осень», «Перелет».
153
А. А. прочитала мне такие строки:
Вкусили смерть свидетели Христовы:
И сплетницы старухи, и солдаты,
И прокуратор Рима – все прошли.
Там, где когда-то возвышалась арка,
Где в гору шел согнувшись водонос,
Их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой
И с запахом блаженных роз.
Ржавеет золото, и истлевает сталь,
Крошится мрамор. К смерти все готово.
Всего прочнее на земле – печаль
И долговечней – царственное слово.
В БВ (Седьмая книга) по соображениям цензурным А. А. опубликовала лишь конец этого стихотворения, открыв им «Вереницу четверостиший». В. М. Жирмунский впоследствии обнаружил стихотворение целиком, но не в том виде, в котором оно было прочитано мне Анной Андреевной, а в еще более полном: четыре добавочные строки в начале, а во втором четверостишии – перемены. Либо А. А. заново переработала эти стихи, либо нашла свой прежний вариант уже после разговора со мной.
В ББП стихотворение опубликовано полностью, но не там, где ему следует быть, а в отделе «Другие редакции и варианты» (с. 411). И с ошибкой (или опиской): я настаиваю, что эпитет к розам – «блаженные», а не «бессмертные»: стихотворение утверждает бренность, смертность, тленность всего на свете, кроме печали и слова. Розы блаженны, но не бессмертны. Эпитет «бессмертные» залетел сюда временно и можно предположить откуда. Эпитет «блаженные» – оттуда же:
Слышу легкий театральный шорох
И девическое «ах», —
И бессмертных роз огромный ворох
У Киприды на руках.
У костра мы греемся от скуки,
Может быть, века пройдут,
И блаженных жен родные руки
Легкий пепел соберут.
(Стихотворение О. Мандельштама «В Петербурге мы сойдемся снова» – см. ББП-М, с. 118.)
В. Я. Виленкин любезно сообщил мне, что к слову «роз» в рукописи Ахматовой, в качестве одного из вариантов, существовал еще один предполагаемый эпитет: «священных» (см. ГПБ, картон «Нечет»).
154
Слухи о разоблачении Сталина на XX Съезде. Свою знаменитую разоблачительную антисталинскую речь Н. С. Хрущев произнес в отсутствие иностранных делегаций на особом закрытом заседании съезда 25 февраля 1956 г.
155
Переводы Анны Ахматовой из Чаренца (1897 – 1937) см. в сб.: Егише Чаренц. Избранное. М.: Гослитиздат, 1956.
Егише Чаренц, армянский поэт, погиб в пору ежовщины. Ахматова переводила его стихи еще в середине тридцатых годов для сборника Гослитиздата, но сборник не вышел в свет. Известно, что Чаренц был рад переводам Ахматовой. «Уважаемый Игорь! – писал он в 1935 году редактору Гослита И. С. Поступальскому. – Я очень благодарен тебе за то, что ты привлек к переводу моих вещей Анну Ахматову. Для меня переводы этой большой, давно мне известной русской поэтессы – большая радость, тем более, что они как будто очень верны? Пожалуйста, при случае передай ей мою благодарность. Я и сам написал бы ей, да пока как-то неудобно. Спасибо! Егише Ч.». – См.: Егише Чаренц. Статьи. Письма. Дневники // ВЛ, 1987, № 11, с. 250. Публикация Анаит Чаренц.
156
Глава из поэмы Твардовского «За далью – даль» называлась «Друг детства». Речь в ней идет о случайной встрече автора с другом юности, проведшим 17 лет в лагерях и ныне возвращавшимся домой. Встреча происходит в Сибири, на станции Тайшет. Подробнее см. с. 198 – 199.
157
«Счастливец» – то-есть автор романа «Счастье» П. Павленко (1899 – 1951) – писатель, сделавший прославление Сталина своей основной специальностью, четырежды (в 1941, в 47, 48 и 50 годах) получивший Сталинскую премию. Сыграл ли он какую-либо роль в аресте и гибели Бориса Пильняка – мне неизвестно. Но сейчас уже известно, какую роль он сыграл в обоих арестах и гибели Мандельштама. Об этом см.: Э. Г. Герштейн. Новое о Мандельштаме. Париж: Atheneum, 1986, с. 99 – 100, и позднее: Виталий Шенталинский. «Улица Мандельштама» // Огонек, 1991, № 1.
158
«Ждали его» – т. е. свистка паровоза.
159
«Мне правда Партии велела» и т. д.
160
Привожу письмо Ахматовой к Фадееву, посланное ею накануне ожидаемого в ближайшее время решения Левиного дела.
«[10 марта 1956]
Дорогой Александр Александрович!
Сейчас я узнала, что дело моего сына рассматривается в понедельник (12 марта). Трудно себе представить, какое это для меня потрясение.
Вы были так добры, так отзывчивы, как никто в эти страшные годы. Я умоляю Вас, если еще можно чем-нибудь помочь, сделайте это (позвонить, написать).
Мне кажется, что я семь лет стою над открытой могилой, где корчится мой, еще живой сын. Простите меня.
Ахматова»
(Цитирую по статье Нины Дикушиной об Александре Фадееве – см. «Литературную газету» от 25 мая 1993 г.)
161
«О мышах и людях» (англ.).
162
Борис Львович Могилевский-Октябрьский (1908 – 1987) – член партбюро Детской секции Союза Писателей. Я, как автор критических работ о литературе для детей, состояла в Детской секции Союза.
163
Виктор Александрович Сытин (1907 – 1991) – секретарь партийной организации Московского отделения Союза Писателей.
164
См. «Мемуары и факты», с. 63.
165
«Поздний ответ». Об этих стихах см. в отделе «За сценой»: 91.
166
«Поглотила любимых пучина». – Сестра Марины Ивановны Анастасия (Ася) была – уже не впервые – арестована в 1937 году; дочь Ариадна (Аля) – в 1939-м; муж, Сергей Яковлевич Эфрон, – тоже в 1939-м (в 1941-м расстрелян).
167
В журнале «Иностранная литература» (1956, № 3) напечатаны, в переводе Ахматовой, несколько стихотворений румынского поэта Александру Тома (1875 – 1954). В оглавлении имени Ахматовой нет; оно упомянуто только в предисловии Долматовского.
168
Ингер Хагеруп. Стихотворения. М.: Гослитиздат, 1956. П. Железнову приписан перевод стихотворения, которое, как на смех, начинается строкой: «Мы женщинами родились». Во многих последующих изданиях повторена та же ошибка в имени переводчика.
169
Павел Алексеевич Сатюков (1911 – 1976) – главный редактор газеты «Правда», назначенный на этот пост в 1956 г.
170
Корейская классическая поэзия. Перевод Анны Ахматовой. М.: Гослитиздат, 1956.
Надпись: «Милой Лидии Корнеевне Чуковской от ее друга Ахматовой 13 апреля 1956 Москва».
171
Екатерина Алексеевна Боронина (1908 – 1955) – ленинградская писательница, скончавшаяся в Ленинграде от инфаркта через несколько месяцев после возвращения из лагеря. Проездом в Ленинград она некоторое время жила в Москве у меня. Рассказывала: в лагере (в Потьме) ее, больную базедовой болезнью, заставляли набирать из колодца и таскать воду ведрами. По-видимому, последний инфаркт был не первым.
172
Эти стихи я привожу не в том варианте, в котором они напечатаны впервые в сб. «Памяти А. А.» (с. 19), а в том, который Ахматова намеревалась включить в «Бег времени». О «Стансах» см. также с. 393.
173
Предсмертное письмо Фадеева, лежавшее на столе, перед тем, как оно было изъято, видели своими глазами Вс. Вяч. Иванов и К. А. Федин, одними из первых вошедшие в кабинет после выстрела.
174
Л. Пантелеев (1908 – 1987) – писатель; о нем см. «Записки», т. 3; о Тамаре Григорьевне Габбе и об Александре Иосифовне Любарской см. «Записки», т. 1.
175
«Тимоша» – домашнее прозвище невестки Горького, жены его сына, Надежды Алексеевны Пешковой (1901 – 1970). Роль и судьба этой женщины – как и всех людей, близко связанных с Горьким, с его домом, с его жизнью и смертью, – строго засекречена – и требует особого изучения. А. А. и Надежда Алексеевна встречались в эвакуации, в Ташкенте.
176
А. А. ошиблась: стихи, взятые у нее Е. Винокуровым и Б. Слуцким, вышли в следующем году – 20 стихотворений и отрывок из «Поэмы без героя». См.: Антология русской советской поэзии 1917 – 1957. Т. 1, М.: Гослитиздат, 1957.
177
В «Октябре» стихи были приняты, набраны, но не напечатаны. «Последние слезы» – это «Вторая годовщина» – БВ, Седьмая книга; другие два – тоже БВ, Седьмая книга, из цикла «Шиповник цветет».
178
Берта Самойловна – вдова расстрелянного еврейского поэта Льва Моисеевича Квитко (1890 – 1952); Корней Иванович и я – мы издавна дружили с этой семьей. (См. Корней Чуковский. Квитко. – Собр. соч. В 6-ти томах. Т. 2. М.: Худож. лит., 1965.)
Три перевода Ахматовой см. в сб.: Л. Квитко. Песнь моей души. М.: Сов. писатель, 1956 (отдел «В грозные годы»).
С Л. М. Квитко А. А. познакомилась в эшелоне «Казань – Ташкент», осенью 1941 года. См. мои «Записки», т. 1, с. 249.
179
«Есть три эпохи у воспоминаний».
180
«Не лирою влюбленного» – впервые «Памяти А. А.», с. 24. Пользуюсь случаем указать на опечатку в парижском издании второго тома «Записок» (с. 500). Следует «в моей руке» вместо «в моей душе»… Кроме того, допущена ошибка в сб. «Я – голос ваш» и в «Двухтомнике, 1990»: в обоих печатается «Не с лирою влюбленного» вместо «Не лирою…». Без ошибки это стихотворение впервые опубликовал в СССР Р. Тименчик – см. «Даугава», 1987, № 9.
181
БВ, Седьмая книга.
182
БВ, Anno Domini.
183
Два портрета Анны Ахматовой работы А. Шервинской воспроизведены в 1989 г. в журнале «Литературная учеба», № 3; там же опубликован отрывок из воспоминаний С. В. Шервинского, в котором рассказывается, где и как происходили сеансы.
184
Об О. Ф. Берггольц см. 129.
185
И снова сановное барство
Его не пускает вперед,
И снова мое государство
Вины на себя не берет.См.: 105.
186
По-видимому, А. А. имела в виду цикл «Когда разгуляется».
187
Речь идет о сборнике Б. Пастернака «Стихотворения и поэмы», который в 1957 году в Гослите был доведен до сверки и затем рассыпан.