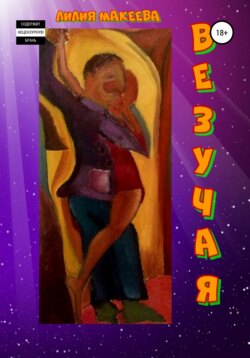Читать книгу Везучая - Лилия Макеева - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 2. Елки-палки и Домбай
ОглавлениеМой сорокалетний герой жил в трехкомнатной, шикарной, по тем временам, квартире, и елка ему была нужна… с меня ростом. С годами я стала не только добрее, но и на порядок саркастичнее, поэтому снисходительно допускаю: размер елки служил ему напоминанием обо мне, когда он, умиротворенный, в кругу жены и детей, умильно разглядывал бы украшенный усердием всего семейства новогодний атрибут.
Спала я в ту ночь не то что бы плохо. Но боязнь проспать переворачивала беспокойное тело настолько часто, что к утру оно стало ватным, хоть и было молодым. Одевшись наскоро, как в турпоход, я не позавтракала, а, подобно голливудской звезде, выпила лишь чашку кофе и, проверив наличие нескольких рублей в кошельке, вышла в темно-синее утро тридцать первого декабря 1982 года.
Никогда раньше елок я не покупала, но целеустремленные жертвенницы, как правило, – натуры любознательные. У них есть обыкновение замечать, проезжая себе мимо, что на Цветном бульваре, неподалеку от Центрального рынка идет-таки торговля елками. На абордаж!
Потратив час предновогоднего, а посему – стремительно бегущего времени, я нашла на елочном базаре лишь втоптанные в несвежий городской снег жалкие иголки да веточки.
– Елку? – удивилась вопросу розовощекая и плотная, как матрешка, тетка, торгующая малосольными огурчиками. – Так надо было вчера покупать! Сегодня-то всё!
Как это – «всё»? Разве я могу представить, что наберу его номер телефона и, на случай, если трубку снимет жена, я, несколько утопив голос, – так он звучит взрослее – подзову его к телефону и, услышав известный всей стране густой баритон, произнесу: елки кончились? Да меня вся страна осудит – и будет права! И я рванула на другой рынок, Тишинский, который славился тем, что на нем и в то скудное время дефицита продавалось почти всё.
Народом рынок не изобиловал: 31 декабря, стало быть, большинство уже совершенствовалось на тесных кухнях в приготовлении салата «оливье». Остальные толкались в очередях близлежащих магазинов за вкусненьким: тортом «Киевский», сыром «Российский» и печеньем «Юбилейное». Я устремилась почему-то в сторону овощных рядов под открытым небом, где бросалась в глаза лишь сургучного вида, невкусная на вид краска прилавков – ни одного продавца, шаром покати. И вдруг в этой сквозной, невзрачной картинке, прямо по центру кадра (если бы я снимала кино) передо мной предстала бабулька в клетчатом, повязанном по-дореволюционному платке, а справа от нее – обмотанная бечевкой, одинокая елочка! С меня ростом. Неожиданно в кадре возникли два мужика и ретивым шагом двинулись в сторону елки. Бабушка стояла с елкой в правой руке на отлете – так выразительно, словно зарядилась тут со вчерашнего вечера, когда он позвонил и попросил лечь для него костьми. Бабуля увидела мое бледное, голодное до подвигов лицо, и мы инстинктивно потянулись друг к другу. Тут мужики попятились от моего рвения в преодолении пространства – и я судорожно схватилась за елочку, как хватался, наверное, за обломок корабля Робинзон Крузо, чтобы выплыть на берег. Бабушка моментально сориентировалась и обрадовалась, посетовав на холод и честно указав на скособоченную макушку елочки, стало быть, нетоварного вида. Но у меня не оставалось выбора – и я, с восторгом последнего в уходящем году покупателя, вручила бабушке за ее подвиг три рубля. Так мы без разногласий и поделили с ней наши призовые места. Поскольку бабушка загнала нетоварную елочку, ей досталось второе место в предновогоднем рейтинге. А я, как призовая лошадь, поскакала, высоко поднимая колени, в сторону троллейбусной остановки. Надо ли говорить, что веса раздобытой-таки елки я не чувствовала, словно она, радостная, что ее скоро нарядят, бежала рядом самостоятельно, помогая себе ветками-крыльями. Кто-то из галантных мужского рода пассажиров троллейбуса помог нам обеим взобраться на заднюю площадку. Там, в уголочке за поручнями, я нежно прижимала елку к себе. Амортизируя на ухабах свое легкое, вдохновенное существо собственными рессорами-ступнями, я улыбалась, бессмысленно уставясь в муть заднего стекла. И видела там только его серые, со стальным ободком, сияющие глаза с загнутыми, словно кукольными, темными ресницами. Он умел смотреть так, как будто не он, а ты – случайно оказавшаяся перед ним знаменитость, а он – так, удостоившийся смотреть на тебя снизу вверх благодарный обыватель, слегка очумевший от возможности изъявить свой годами не угасающий пиетет. А тут перед ним ты, да еще с вожделенной елкой! Как однажды – с бутылкой кефира, под зеленой крышечкой из фольги и выбитым на ней названием молокозавода, уровнем жирности и датой изготовления.
Мысль привезти ему кефир за тридевять земель базировалась, выражаясь языком актуального в ту пору учения марксизма-ленинизма, на всё той же идее самопожертвования.
Одна из подруг, получив от меня в подарок початый, правда, флакон духов, но все-таки настоящих, французских «Фиджи», воскликнула: «Жертвенница ты наша!» То ли она хотела меня таким образом поблагодарить, то ли задеть, но титул этот, безусловно, не был снят с пролетающего мимо облака, поскольку позывы всех одарить входили в список моих отличительных черт. Согласитесь, это все-таки лучше, чем обобрать. Поэтому, если любимый следит за питанием и предпочитает пиву кефир, почему бы не пожертвовать всего тридцать две копейки за бутылку свежего кефира в Москве, не сесть в пролетающий мимо самолет и не доставить ему лично столь благородный напиток в Карачаево-Черкессию, где он пребывает в командировке?
Накануне того дня, когда он улетал на «творческую встречу с народным артистом Советского Союза», мне выдали гонорар за съемки в фильме «Срок давности», где я, изображая рабочую на стройке, сидела на деревянном ящике рядом с Натальей Гундаревой и пила, что бы вы думали? – кефир. Ну, трогательная деталь, не более того. На самом деле понесло меня в такую даль не на почве кефира, конечно. Просто в руках были деньги, на календарном листке – красные цифры воскресения, в любящем сердце – тоска, а в смышленой голове – озарение: в командировке он как бы и не женат вовсе. К нему можно запросто подойти изящной походкой обычной поклонницы, поздороваться за руку и безнаказанно выразить свои чувства. Там, далеко от Москвы, он – свободен, он – мой. А не указующий ли перст то обстоятельство, что жила я тогда напротив городского «Аэровокзала», где в одном из многочисленных окошек, выстояв душную очередь, можно было купить билет, зарегистрироваться, сесть в удобный автобус «Икарус» и выгрузиться безвозвратно у трапа самолета в Домодедово?
Он позвонил в воскресенье утром, был нежен и беззаботен, и на свою беду (или нечаянную радость?) поведал, куда именно улетает на целых три дня. В коммунальном коридоре – никого. Я говорила с ним в открытую, не подбирая слова. Когда пьянящий разговор грубо придавила тяжёлая трубка чёрного, канцелярского на вид, телефонного аппарата, мне стало до того тоскливо, что я не сразу вернулась в свою комнату, а еще минут пять продолжала сидеть, маниакально разглядывая аккуратные дырочки на кружевной салфетке под телефоном. Потом резко, не допуская малейшего сомнения, стала собираться туда, где никогда не бывала. В небольшую сумку кинула самое необходимое. Оделась без мороки, но все-таки учитывая, к кому лечу. На светофоре задумалась, правильно ли поступаю, но стоило загореться зеленому, перешла через Ленинградский проспект, словно через Рубикон.
Свободные места на рейс стали еще одним «за». Я не увидела препятствий даже в том, что до пункта моего назначения самолет не долетал. Из аэропорта «Минеральные Воды» нужно было добираться «на перекладных».
Время в полете пролетело быстро. «Перекладные» оказались рейсовым автобусом, а местный автовокзал напоминал восточный базар: ажиотаж, крики, очереди. Но меня явно кто-то вел. Не зря говорят, что влюбленных и пьяных Бог оберегает. Я была трезвой, но в то же время и пьяной – от любви. Так что подсказки шли в двойном размере: не стой покорно в очереди, прорвись любой ценой к окошку кассы!
Честно говоря, я и спустя двадцать пять лет не понимаю, почему именно мне достался единственный оставшийся билет на последний в тот день рейс? У кассы меня едва не задавили. Но я держала руку с билетом высоко, как флажок, и толпа расступалась перед моей фортуной. Не помню, как оказалась в запыленном автобусе среди рассевшихся и готовых к старту пассажиров преимущественно мужского пола и угрожающего вида. Помню точно, что этот последний автобус отправлялся в 15.45. А следующий – только на другой день утром. Крепко повезло.
Однако очень неуютно оказаться на Кавказе в облегающих джинсах, короткой бежевой курточке с отложным, освежающим лицо вязаным воротником молочного цвета и в такого же цвета беретике, кокетливо сдвинутом набок. Ведь всё это для него заготовленное великолепие попало в автобус с мрачными, небритыми мужиками. Они, как один, следили тяжелыми взглядами за каждым моим движением – нагло, по-хозяйски, ведь они явно местные, а я – залетная птица в столичном оперении. Дискомфортно, но не лететь же обратно. Особенно настырно за мной наблюдали двое: высокий, с русыми, кучерявыми волосами и низкорослый – с каштановыми. Тот, что светлее, большего доверия не внушал, оба они были в моих глазах – темные личности. Поэтому я деловито вертела головой по сторонам, разглядывая пейзажи. Пусть видят, что я чувствую себя хотя бы на нейтральной территории автобуса в безопасности, и голыми руками меня не возьмешь.
До городка, в который отправился мой любимый, добрались к вечеру. Из телефона-автомата, через справочную службу «09», я осведомилась, какая в этом захолустье (данное определение я гуманно удержала при себе) самая лучшая гостиница. Позвонив тут же в гостиницу с одноименным названием «Черкесск», поинтересовалась, не останавливался ли у них некий знаменитый человек?
– Да, останавливался! – с придыханием доложила администратор.
– Спасибо, – авторитетно поблагодарила я, почувствовав себя прямо-таки мисс Марпл. Хотя дело было только в логике: куда еще могут поселить уважаемого гостя?
Через полчаса я стояла перед ней и залихватски буровила, что я-де ассистентка столичной знаменитости, по некоторым причинам отставшая от его «команды», но вот теперь я тут и желаю поселиться в номере рядом с ним. Да-да, именно рядом.
И это оказалось возможным! Я почувствовала себя дочкой Остапа Бендера – так лихо удавался мне выверенный по всем нюансам имидж отставшей от группы ассистентки. Главное – верить в это самой. А провинциальные администраторы, да еще чувствительные женщины, тянущиеся к искусству, – такие доверчивые… Примерно так и папа Бендер говорил.
– Только его сейчас нету. Их увезли на экскурсию, на Домбай.
Домбай так Домбай. Будем брать и эту высоту. Зря, что ли, моей любимой книжкой в детстве была «Четвертая высота» про Гулю Королеву? Время, слава Богу, хоть и не военное, но на подвиги тянет порой ух как неодолимо!
Дальше всё шло, как по нотам. Узнав, что он на Домбае будет весь следующий день, я решила переночевать в предоставленном мне скромном, стандартном номере и утром, с бутылкой кефира, выдвинуться к вершине Домбая. На ночь я поставила бутылку в холодильник. Она – одна в пустом холодильнике, а я – одна в номере.
Спать легла, не ужиная. Постояла, посмотрела на холодную, зеленоватого цвета половинку курицы в буфете гостиницы и решила не омрачать ею праздник. Предстоящая ночь казалась мне своего рода «ночью перед Рождеством». Завтра я его обниму.
Снов не видела. «На новом месте приснись, жених, невесте» не сработало бы: любимый был непререкаемо женат, у него две дочери, одна совсем маленькая, да и жена чудесная, и старше он меня намного. Компот из сухофруктов судьбы, коктейль безысходности. Сердцу не прикажешь. Оно диктует – и пьешь, как миленькая, отраву, замешанную на собственных страстях. Проснулась я, тем не менее, бодрая и собранная, как истинная дочь Остапа. Командовать парадом буду я! Надо позвонить туда, наверх, пока он не спустился вниз, а то разминемся, не дай Боже.
На удивление, телефонная связь в горах работала без помех.
– Он только что ушел на прогулку после завтрака.
– Передайте ему, пожалуйста, что его ассистентка к обеду будет на Домбае.
Ух! Опять себе поставила задачу, по сути, невыполнимую. Ни автобуса, ни иного транспортного средства, следующего в эти живописные края, не было. Знанием местных условий и спектром возможностей их преодоления я не обладала. Но и преград особых не находила: язык до Киева доведет. Вершины Домбая, заснеженные и близкие глазу, питали кураж. В марте месяце подъем в горы требует особого подхода. А уж если там, наверху, нужно поймать «за хвост» звезду советского экрана! И я отправилась прямиком в Министерство культуры. Простодушный трепет готового помочь, культурного Черкесска уже не удивлял: а как иначе, когда у меня такая восхитительная миссия – доставить на Домбай кефир любимому?
К счастью, здешнее «культурное» хозяйство излишним пафосом не страдало, и передо мной без скрипа открылись именно те двери, где отвечали за приезд знаменитостей. На глазах у растерянного, расплющенного, как лаваш, чиновника я превратилась в самоуверенную ассистентку народного артиста, отставшую по независящим от нее причинам… от самолета… нет, от автобуса.
– Конечно, поможем! Сейчас что-нибудь придумаем!
Ответственный, милый дядечка-лаваш будто бы знал, что кефир имеет обыкновение быстро скисать. По моему бешеному огню в глазах опытному служителю карачаево-черкесских муз стало понятно: творческая встреча, намеченная на сегодняшний вечер, без энергичной ассистентки сорвется – как пить дать. А что потом писать в отчете республиканскому Министерству? – Сейчас вернется маршрутка, на ней и поедете.
Ура! Как же ни о чем не подозревающий артист будет удивлен – и сразу станет обескураженным, доступным – подходи и бери голыми руками. Ради этого стоило поменять имидж. Ощутить себя сильнее неумолимых обстоятельств – это, знаете ли, событие.
Неустойчивая мартовская погода за окном стала внезапно портиться. Вожделенная маршрутка зависла на полпути к моему преждевременному ликованию: возникла опасность схода лавины. И власти без меня решили спустить мое сокровище вниз, от греха подальше.
– Видимо, без заезда в гостиницу, сразу во Дворец культуры станицы Зеленчукская поедут. Как раз к вечеру доберутся: туман, дорога плохая.
Куда только не рванешь в экстазе любви! На планете есть места, доступные лишь истинно влюбленным. Перстом судьбы, иной раз холеным, а иной – заскорузлым, указано им бывает место, где они и не помышляли очутиться. Кому в Сибирь, а кому – в станицу Зеленчукская. Как повезет. Перстом судьбы водит порой по топографической карте своевольная рука фортуны.
Мне везло неумолимо. Прямой рейсовый автобус уходил в сторону станицы ближе к вечеру, и у меня оставалось время для предвкушения нашей встречи. В этой волшебной «экспромт-фантазии» я по праву являлась героиней сюжета. Более того, на мне – и драматургия, и режиссура. Успех казался предопределенным. Даёшь перформанс!
Итак, маршрутка Министерства культуры заурядно зависла на серпантинах Домбая. Но до станицы Зеленчукская ходил рейсовый автобус, которым я и воспользовалась. В нем уже сидели чинно те двое – русый и темноволосый, что ехали со мной вчера. Они смотрели вперед, не переглядываясь, молчали, как заговорщики, и сверлили меня слегка затравленными глазами. Может, они просто были оба немые?
В марте темнеет рано. Я вышла из автобуса в сумерки и в неизвестность пункта назначения. Где же у них этот самый Дворец культуры? Пошла наугад с компасом логики и барометром интуиции: «культурное» заведение всегда в центре, а туда ведет, как правило, самая широкая улица. Есть такая! Иду по ней. Справа – какие-то хибарки, с виду безлюдные, слева, на темнеющем небе – вскарабкавшийся на холмы лесок с интересом поглядывает на меня сверху, превращаясь постепенно в мрачную, глухую стену. Инстинктивно, но без опаски оборачиваюсь и вижу – меня нагоняют те двое! Главное, не дать им понять, что мне неуютно с их кортежем. Задрожишь – и превратишься в жертву. А жертва, как известно, сама притягивает преступника. Нарочито заметно вскидываю руку и делаю вид, что смотрю на часы, которые в те годы не носила. Теперь имею право ускорить шаг. Набираю обороты. И вдруг, как оплеуха, мысль: идиотка, нашла, тоже мне, отвлекающий маневр. Нельзя было смотреть на часы! Если это настоящие преследователи, то они наверняка решили, что часы у меня золотые
Господи, ты видишь? – почти стемнело! Может, я не права в своей смелости? Не оборачиваюсь, но слышу, что они тоже ускорились. Вроде бы стали переговариваться. Ага! – не немтыри. Почему же улица так пуста? Ах, да, все уже сидят в местном Дворце, согласно купленным билетам, и ждут любимого артиста.
Вдруг сзади резко зашуршал гравий под подошвами чьих-то торопливых ботинок. Я успела лишь напрячь спину. Неожиданно с обеих сторон меня ловко подхватили под руки двое незнакомцев. Совсем не те, другие! Третий тут же забежал вперед и, лучезарно улыбнувшись всем своим приятным, славянским лицом, протараторил на хорошем русском растянутыми, как у маски, губами: «Не оборачивайтесь! Сделайте вид, что мы – ваши друзья!»
Ой, зря, что ли, театральный заканчивала? Я расхохоталась от нелепости происходящего, и этот практически истеричный смех сошел за дружеское приветствие в адрес якобы старых знакомых, которые вели меня под руки так ретиво, что ноги мои едва касались земли.
– Не пугайтесь, мы москвичи, инженеры-геологи, здесь работаем, – заговорил приглушенно тот, что справа. – Вы что, не видели, что за вами шли эти двое? Темно ведь уже! Да тут семьдесят девять процентов нераскрытых преступлений! – повысил он голос, кивнув в сторону сизых, грозных гор. – Ну, вы, девушка, даете! Вы из Москвы?
– Как вы угадали?
– А мы геологи – привыкли различать породу.
Узнав, что я ищу Дворец культуры, мужчины проводили меня до самых дверей, хотя преследователей уже и след простыл. Мы обменялись номерами московских телефонов. Бумажка та потерялась. Имен их не помню. Но когда в памяти всплывает тот случай, я снова мысленно благодарю трех вовремя подлетевших «ангелов» в мужском обличье.
Билет в кассе купила без проблем.
В зале прохладно, если не сказать холодно. Заняты лишь первые несколько рядов. Он хорошо знает мою куртку – куда спрятаться? Снимаю куртку, но тут же надеваю опять: замерзну. В третьем ряду вижу широкого военного с дамой. За его спиной есть свободное место. Туда и проползаю, невзначай задевая колени недовольных зрителей и удивляя народ бутылкой кефира с зелененькой крышечкой.
Сажусь в кресло и, зная ритуал творческих встреч, когда в конце артист отвечает на записки из зала, достаю заготовленную заранее «цидульку»: «Любимый, а я тебе кефир привезла!» Улыбаюсь, предвкушая резонанс: он развернет бумажку, изменится в лице и попросит автора на сцену. Неужели сразу не поймет, что это я?
Утонув в кресле как можно глубже, чтобы меня всю застилал могучий военный, стараясь подавить эйфорический тремор за грудиной, жду выхода главного артиста своей жизни. Гаснет свет. Сначала показывают ролик из нового фильма с его ударной сценой мужской истерики. И вот он выходит из левой кулисы, пересекает сцену по диагонали и становится к микрофону в центре. Живой. Настоящий. В том самом темно-синем джемпере. Какое наслаждение – его облик, бархатные обертона, лукавый, кокетливо-актерский прищур, располагающая улыбка, стройная осанка. Кажется, это предназначено мне одной. Он приоткрывает тайны закулисья. Закладывает руку в правый карман отутюженных брюк по-свойски, даже по-простецки, давая понять, что он обычный человек, а не монумент. Он смешит зал киношными байками, «накладками» и «ляпами» – и все довольны, расслаблены, и в помещении становится теплее.
Я поставила кефир на пол у ног, чтобы не прокис от горячих, радостных ладоней. И тоже расслабилась. Привыкла к мысли, что я нашла его в какой-то глухой станице и скоро прижмусь к нему, свободному командировочному, а может быть, лягу с ним вместе спать. И это будет наша первая ночь. Наконец-то у него появится время приласкать меня, и мы полежим рядом – неторопливо беседуя. И я смогу незаметно пересчитать все его родинки.
Шла двадцатая минута встречи. Ничто, как говорится, не предвещало. Он смотрел в зал, где горел приглушенный свет. Горстка счастливых зрителей тянула подбородки к середине сцены.
И вдруг мой заслон – спина военного резко накренилась в сторону дамы! Сориентироваться я не успела, хоть и отклонилась с опозданием лишь на долю секунды. Или мне сейчас так кажется? До сих пор хочется пережить тот момент заново, чтобы можно было поменять положение тела за секунду до военного и остаться незамеченной. Или нет! Лучше опять, как тогда, оказаться узнанной.
– И режиссер говорит, – начал он фразу, глядя прямо в моем направлении. И – осекся на последнем слоге. Замолк, как будто ему помешали, сосредоточенно посмотрел в потолок, потом тряхнул головой, отгоняя потревожившее его видение, и попытался продолжить рассказ. Но ему явно не давал покоя облик девушки в очках, которая почему-то пряталась за спины зрителей.
В надежде, что он меня не узнал, я сдвинулась левее, подстраиваясь под позицию военного. Практически перестала дышать. Краем глаза видела, что и он на сцене замер – ведь еще вчера я была оставлена им в Москве.
– И режиссер мне говорит… – он остановился на мне взглядом, – уже допуская, что и лицо, и куртка, и очки девушки слишком такие же, как у меня.
Моя улыбка, с которой он тоже был неплохо знаком, приобрела в этот момент особую выразительность и вышла за пределы моего счастливого лица, повисла в воздухе отдельным энергетическим объектом. Именно по этому росчерку моей мимики он идентифицировал меня, как зрителя в третьем ряду.
Это мгновение положено бы сразу остановить – так оно было прекрасно… Мой «выход с коленцем» состоялся. Когда ему с третьего захода все-таки удалось констатировать, что это стопроцентно я, он отвернулся от микрофона, слегка опустив голову, и, как в пике, ушел в невероятную по выразительности улыбку. Так улыбаются от потрясения и счастья в одномоментном режиме. Так улыбаются, когда неприлично шлепнуть самого себя по ляжкам, воскликнув: «Е-мое»!
То, как он отвернулся в сторону, покачивая головой, было отдельным представлением, зрелищем. Хоть я и рисовала себе иное развитие сюжета, драматургия вырвалась за рамки стандартов, одарив нас обоих незабываемым впечатлением.
Военный оглянулся. Сработал профессиональный нюх: за его спиной происходит нечто неформальное и отражается на поведении артиста на сцене. В зале зашушукались.
Выдохнув потрясение в сторону, он, с остатками эмоций на лице, кашлянул в микрофон, словно проверяя, не пробило ли аппаратуру «молнией» мощного момента. Глаза его мерцали, подсвеченные софитами. Улыбка восторга опять подступила к губам, но он смял ее волевым усилием. Ему не оставалось ничего, кроме единственно верного хода: подавшись к микрофону, словно к сообщнику, он притянул его к себе рукой для большей камерности и, глядя мне в глаза, глухо, но отчетливо произнес:
– Зайди, пожалуйста, за кулисы. – И назвал меня по имени.
Теперь весь зал смотрел только на меня. И каждый услышал, как меня зовут. Поэтому, пробираясь к выходу, я чувствовала себя, как медалистка десятого класса, которой директор должен был вручить аттестат зрелости лично. На время мне удалось перехватить у него всю его славу. Может, зрители до сих пор вспоминают девушку в куртке с отложным, вязаным воротником молочного цвета и бутылкой кефира в руках?
За сценой, в специальном помещении, отведенном под гримерную и гардеробную одновременно, стоявшие кучкой несколько мужчин заинтересованно поздоровались, когда я вошла. А он, так и не поведав публике, что велел сделать на съемке режиссер, и объявив просмотр следующего ролика, почти выбежал ко мне. Громко, насколько это позволяло закулисье, представил меня заинтригованному окружению:
– Это… женщина! – и обнял меня всем собой, принародно.
То ли он сказал «фантастическая женщина», то ли «необыкновенная» – не столь важно. Интонация и взгляд выражали его эмоциональное состояние гораздо сильнее.
Я ликовала. Моя заготовленная, но искренняя реплика прозвучала легко и просто:
– Любимый, я тебе кефир привезла.
Он взял из моих рук бутылку, горделиво оглянулся на остолбеневших мужиков – во, мол, какая она у меня! – и, вдавив большим пальцем фольгу крышки, открыл кефир. Тут ему подали знак: пора на сцену. Он сунул мне бутылку, коротко притянул за шею, отпустил, даже будто отстранил и, красиво оскалясь, изобразил жестом и мимикой «так бы тебя сейчас на месте и съел!» Для убедительности он поднял на уровень моего лица руку, как тигр лапу, и чуть согнул фаланги пальцев, словно вот-вот меня заграбастает.
Да сделай же это, в конце концов! Объяви следующий шедевр и грабастай, сколько хочешь, прямо за кулисами! Нежности хочется, одной только нежности – больше ничего. И романтики неприкрытой, само собой. Так классики описывали влюбленность в позапрошлом веке. Возможно, целомудрие чувств тех, кто жил задолго до нас, можно считать отчасти напыщенным, навязанным законами этики и морали прошлой эпохи, тем не менее, девственность было тогда гораздо легче сохранить. Хотя бы потому, что доступ к заветному месту защищал не маленький зиппер-замок едва прикрывающих лобок джинсов, а метры накрахмаленного батиста и пенных кружев в виде панталон, корсетов, завязок и тесемок под кринолинами. Попробуй-ка ухитриться излить свои чувства, чтобы «юбочка не помялась», если дело происходит, паче чаяния, в ажурной ротонде сонного дворянского гнезда при фосфоресцирующем свете взбесившейся полной луны! Поклонникам адюльтера на скамейках в парках поместий или дворцов предстояло изрядно потрудиться, если не сказать повозиться в поисках наслаждений. С первого раза добраться удавалось, видимо, лишь многоопытным ловеласам, пальцы которых безошибочно определяли, как из крохотной занудной петельки проворнее вынуть обрадованный крючочек. Время от времени все рвутся на свободу.
Вне Москвы он был другим – легким, помолодевшим. Постоянно меня смешил и с удовольствием смеялся сам. Мы превратились в безмятежных буддистов: только здесь и сейчас. Что было, что будет – к гадалкам. А наши сердца успокоились настоящим – в далеком Черкесске, в краю нераскрытых преступлений. Где и мы оба были безнаказанны.
Его непререкаемая слава не давала шансов даже администратору гостиницы проявить излишнее рвение на рабочем месте и унизить нас вопросом, почему молодая ассистентка находится подозрительно долго в номере уважаемого артиста. Каким боком она ему там ассистирует? А ведь в те годы без штампа в паспорте о наличии брака у двух проживающих в гостинице не было ничего общего для попадания в одну койку. Даже любовь не давала им права объединиться до такой аморальной, с точки зрения общества, степени. Хотя само общество, разъятое на элементы, попадало, в зависимости от обстоятельств, куда попало. Вот «попало на любовь» по канону Верки Сердючки – и оказалось в чужой койке. И сразу стало элементарно аморальным. Даже если искренне и взахлеб твердило в темноте о своих высоких чувствах.
– Моя радость… Как вкусно ты пахнешь!
Его руки были торопливы, словно знали, что всё это – не надолго, не навсегда. И обоюдные ласки становились неровно-нервными: мы воровали друг друга у обстоятельств, выхватывая любимые тела крохами. Когда он сжимал мое плечо дробно, три раза подряд, казалось, что он пробует массировать приятное на ощупь, молодое тело. На самом деле, думаю, он пытался впечатать в память ладоней его пропорции и невидимый рисунок кожи.
– Ты шелковая…
– А ты… шерстяной!
Обе ткани, как известно, относятся к разряду деликатных. Инструкция по их обработке тонко вшита в боковой шов. Вот каким боком я ему ассистировала – шелковым! Но администратор меня ни о чем не спрашивала, а только провожала завистливым взглядом: ее возраст и экстерьер еще позволяли хотя бы дерматиновым краешком ему поассистировать…
Но вечером вполне благополучного дня я сама себе не позавидовала.
На период творческих встреч в городах и весях актеру, помимо роликов из его фильмов, полагалось иметь так называемую группу поддержки: сиротливо же одному два часа подряд на сцене. Приходилось ведь без спецэффектов удерживать на себе внимание, чтобы народ оскорбительно не разошелся по домам. А раскрывать тайны актерской кухни в один вечер – чревато. Пока довезут артиста до следующего Дворца культуры, «тряпочный телефон» доставит туда пикантные подробности его рассказов. Поэтому актерские байки экономно дозировались, но зато демонстрировались запасные навыки. Например, искусство декламации.
Аккомпаниатор Володя и был у любимого группой поддержки, сопровождая его в поездках. Он задумчиво перебирал клавиши, сочетая крещендо с диминуэндо в соответствии с драматургией читаемого артистом отрывка. И внешность его была тоже, словно в сторонке – никакая. Костюм серый, лицо и вовсе бурое, некрасивое. Почти все антропологические приметы аккомпаниатора оставляли желать лучшего. Одни только пальцы рук – пальцы пианиста, да интеллигентная манера держаться примиряли меня с его наличием в орбите любимого. А может, они дружили? Иначе как объяснить, что во время ужина в ресторане мужчины время от времени обменивались не только впечатлениями от вкусовых ощущений, но и многозначительными взглядами, выразительно сводя две пары глаз на моем восторженном лице? Что между ними могло быть общего? Не монтировались они – как мужские типы – в сознании наивной девочки. Это сейчас я знаю, что мужчины объединяются не по типажам, а по пристрастиям. Охотник к охотнику. Делец к дельцу. Развратник к развратнику. Они могут и не декларировать друг другу свои позиции, но угадывают по повадкам себе подобных. Позже выясняется, кто в чем лучше разбирается: в калибрах стволов или диаметрах сверл, а поначалу – один только звериный нюх на соплеменника.
Аккомпаниатор и во время ужина не брал резких аккордов. Касался столовых приборов деликатно, словно клавиш. Жевал тихо, смеялся беззвучно. Промокал рот салфеткой, будто ею прикрывался. Словом, вел себя, как загадочная салонная дама. И, согласно этому нелицеприятному сравнению, вызывал чувство настороженности.
– Посмотри, какая она красивая! Какие глаза! Сними очки, пожалуйста? Мы полюбуемся с Володей.
Не жеманничая, я покорно освободила переносицу. Любимый отодвинул тарелку и скрестил руки, положив их на край стола, воодушевленно призывая аккомпаниатора к эстетическому удовольствию. Тот тихохонько пилил ножом эскалоп, не отлынивая от него взглядом.
– Это не глаза. Это очи! – не унимался любимый.
Млея от шаблонных комплиментов, я думала, он мной гордится. Не скрывает перед посторонним человеком редкие чувства. Вот протягивает через стол руку и гладит меня по щеке – тонким, проникающим, как ранение, жестом. Смотрит при этом не в зрачки – в осоловевшее девчачье нутро. И ничего плохого в нем не сделает. Просто погладит. Почему же там навсегда останется рубец?
– Вот, Володя, какие бывают женщины! Это похлеще, чем коня на скаку или в горящую избу. Полететь вслед за мной, не зная адреса, в Карачаево-Черкессию!
Грубая лесть. Не согласна. Лучше лететь в неизвестность, чем под копыта коню. И гораздо лучше войти сюрпризом в гостиничный номер к любимому, лежащему там, допустим, с другой, чем в горящую избу. Хотя о вкусах не спорят. Всё зависит от того, каков градус мазохистского компонента у вашей психики. Либо с волдырями на теле, либо с синяками в душе – «каждый выбирает для себя», как писал поэт Юрий Левитанский. Вот! Для себя! Человек по природе своей эгоистичен. И проживает единственную жизнь. И если совершает выбор, то, значит, именно это выбранное ему и нужно. Даже когда идет на жертву. Или делает добро. По-другому, стало быть, не может – вот так создан, так воспитан. Ему будет плохо, если он не сделает добро. Ему! Плохо! Поэтому он берет – и делает себе хорошо. И поступок добрый – налицо, и себе, любимому, потрафил. Формула этого эгоистичного распорядка общеизвестна: чем больше отдашь, тем больше вернется. Видите, как? Подразумеваемые дивиденды, все эти «три» пишем, «два» в уме прямо указывают на подспудную, личную корысть – в каждом, отдельно взятом, добрейшем порыве. Тип вашей личности эти порывы и окрашивает, и дозирует. Та, что решительно вламывается в горящую избу – скорее, амбициозна. А та, которая с замиранием сердца тратит последние деньги, чтобы увидеть любимого – скорее чувственна. Обе хороши: всё для себя, для собственного удовольствия. Даже когда жена надевает красивое эротическое белье для мужа, она бессознательно практикует этот пикантный ритуал именно ради своей зоологической похоти: муж возбудится и предоставит ей в результате качественный секс. И не одна я так думаю, что интересно. Сократ задолго до меня возводил личный эгоизм в ранг добродетели.
К нашему столику подошла официантка с накрахмаленной «диадемкой» в безжалостно начесанных волосах. Подобострастно глядя на почетного гостя, предложила еще что-нибудь отведать. Вот и она тоже – для себя. Не столько забота о клиенте ресторана и безукоризненное исполнение своих служебных обязанностей, а сколько вполне оправданное эгоистичное желание освятить тусклое провинциальное существование лучами славы столичного любимца публики. Может, к ним еще лет эдак пять никто из звезд в меню не заглянет? А ей будет теплее, словно она его не просто обслуживала, а с руки кормила. И кому от этого хуже? Получается, что быть эгоистом выгодно. Мы нужны нашим близким удовлетворенными, радостными. Так что смело ублажайте себя – и другие к вам потянутся. Только, чур, никому не в ущерб! Эгоистничайте на здоровье, но так, чтобы никто от ваших действий не страдал. А то потом сошлетесь на меня, а я совсем не проповедница чужих страданий. Лучше уж свои.
После ужина мы вернулись в гостиницу и разошлись по номерам.
– Зайди ко мне через полчасика, – обыденно сказал он, скользнув рукой по моему предплечью и сжав локоть в довершение жеста.
Идя по коридору в номер, я трогала свой локоть там, где он его сжал. Будь я официанткой, я бы даже чай после него допила. Или хлебушек доела.
Потом сидела в неуютном номере и тупо разглядывала коврик, считая минуты. Мне нечего было в этой комнатенке делать, ведь я приехала к нему. Ах, да! – не в ущерб другому. Зато потом всё будет волшебно, и я узнаю его другим, и окажется, что я для него действительно несравненная. Просто он не мог встретить меня раньше. И в минуты блаженства он немножечко страдает – ему больно, что я не иду рядом с ним по жизни чаще, чем два раза в месяц. Да еще, вдобавок, не иду, а лежу. Вот где неразбериха. Хотя ложиться стараюсь красиво. Но какими бы непревзойденно-оригинальными ни были мои телодвижения, они не продвигают меня вперед по жизни. Скорее, тормозят. Стоп! – это я лишь сейчас понимаю. Тогда я еле вытерпела полчаса, почистила зубки, подкрасила губки и постучала к нему в номер.
– Прошу! – он открыл мне дверь широко и несколько опереточно.
Сделав два шага, я ошарашено замерла: у стола с напитками, как у рояля, сидел аккомпаниатор. Он перебирал в руках, подобно жонглеру, три граненых стакана и бутылку спиртного, аккуратно разливая всем поровну.
– Мне чуть-чуть!
Таким блиц-реагированием я не показала виду, что разочарована пребыванием в номере чужого человека, бурая кожа которого создавала впечатление безотчетной смури в помещении.
– Почему же чуть-чуть? Нам не жалко, – сказал Володя напряженно.
Какой гостеприимный! Неужели не догадывается, что людям хочется побыть вдвоем? И почему любимый до сих пор не удосужился ему намекнуть, что пора и честь знать?
– Ты так понравилась Володе, что я начинаю чувствовать себя лишним! – по-женски кокетливо пошутил любимый.
Аккомпаниатор натужно улыбнулся.
Мне не льстило, что я пришлась по вкусу бурому Володе. Он показался мне вообще малопригодным для какой бы то ни было любовной истории. И при чем тут я, если с моим предназначением все точки над «и» уже расставлены? Хотя бы в радиусе гостиничного номера, где это самое «и» сидело в плюшевом кресле, излучая оттуда, как радиатор тепло, нещадную харизму.
Хотелось сесть у ног любимого, притулив голову к его коленям, и замереть, как на картинке сусального художника позапрошлого века. Или полноправно усесться к нему на колени, как Саския к Рембрандту. Но я себя сдерживала. Вот уйдет восвояси несчастный Володя – и настанет мой выстраданный час. На этот раз всё будет по моей задумке, по эскизам, которые накидало мне воображение. В его безразмерных «мастерских» накоплено столько набросков и законченных по замыслу картин, что их никогда не рассортировать по реестрам. Не организовать выставку. Не распродать в музеи или частные коллекции. Всё остается при мне. А жизнь на каждую мою картинку упрямо, мастерски рисует свою – иногда карикатуру, иногда эпохальное полотно. Индивидуальное восприятие все-таки ограниченно. Когда я представляю, как всё будет происходить, я вижу лишь себя и любимого. Зная наверняка, как поведу себя в данном кадре я, неосознанно навязываю и мужчине милые моему сердцу стереотипы поведения. А жизнь видит целиком: и его, и Володю, да и мне отводит не главную, а лишь одну из ролей – и композиция получается менее однобокой. Но совершенно не такой, как хотелось мне! Даже если в развитии воображаемого сюжета попаданий – масса, все равно я частенько бываю раздосадована общей картиной.
Любимый балагурил. Володя мямлил. Никаких разговоров особых между нами не было: двум разным поколениям на общих фразах далеко не уехать.
– А ты раньше была на Домбае?
– Нет. И в этот раз вот не доехала.
– Придется приехать еще.
– Может быть.
– Природа здесь изумительная. Виды роскошные. Можно до Пятигорска доехать, до горы Машук, где Лермонтов стрелялся.
– Нет, не хочу видеть места убийства – ни Черную речку, где стрелялся Пушкин, ни Машук. Только названия красивые, как нарочно.
– Да, названия вполне романтические.
Надо сделать вид, что я ухожу к себе спать. Тогда Володя поймет. Уловит полутон – музыкант все-таки.
– Ладно, я пойду, – решительно двинулась я к двери.
Вопреки моим ожиданиям, Володя не пошевелился. Зато любимый метнулся за мной. Он прикрыл дверь номера, придерживая другой рукой меня, как будто я могла вырваться:
– Ты пошла пописать? Стесняешься Володи?
– Кого? Да нет…
– Oн тебе понравился?
Я молча смотрела в знаменитое лицо, словно видела его впервые.
– ??
– Ну… Как мужчина понравился?
А! Понятно. Ему хочется, чтобы я призналась, что лучше него нет никого. И что он до того мне родной, что при нем я не стесняюсь писать.
– Ни капельки, – честно потрафила я его амбициям.
– Он же симпатичный. В смысле, интеллигентный, – теребил меня мужчина, рядом с которым ни о чем постороннем думать было невозможно. Тем более, о других мужчинах.
– Да не нравится мне твой Володя совершенно! Чего он спать не идет, если такой интеллигентный? – мой голос стал выше на терцию.
– Тише-тише! Неудобно. Ладно, ты надолго к себе?
– М-м…
– Ну, возвращайся быстрее.
Войдя в свой номер, я посмотрелась в зеркало: глаза растерянные, но тушь не размазалась. Даром что заграничная. Даром-не даром, а очередь за ней в польском магазине «Ванда» на Полянке отстояла приличную. Вернее, неприличную, часа на три.
Так. Ушел, наверное. Все-таки почти полночь.
Дверь в заветный номер оказалась чуть приоткрытой, чтобы, как сообщница, впустить меня, нелегальную, без стука и шороха. Какой он молодец! Не писать я стеснялась при посторонних, хотя и это тоже, а встать под дверью Народного артиста, дожидаясь, когда он откроет. После двадцати трех часов посторонним возбранялось находиться в номерах официально проживающих в гостинице. Днем изображать ассистентку, оттачивая актерское мастерство, даже некоторое удовольствие доставляло. А тут в полночь, в коридоре – ни куража, ни адреналина. Как намыленный инженер из «Двенадцати стульев», случайно захлопнувший входную дверь и бессмысленно дергающий ручку.
Благодарная любимому за тактично оставленную открытой дверь, я проскользнула в номер. Если бы мне предложили угадать, что за картина предстанет перед моими глазами, я бы, выражаясь тогдашним молодежным сленгом, опарафинилась, то есть – не подтвердила наличие у меня смекалки. Опозорилась, проще говоря. Запусти он меня по тому коридору сейчас, я бы такой уровень «ай-кью» показала! Не то что в номер не заглянула бы, а прямиком к пожарной лестнице – и, срывая кожу с ребер, вниз и прочь!
Увидеть в номере аккомпаниатора опять я никак не ожидала. Более того, он неприятно видоизменился: пиджак снят, рубашка полурасстегнута, лицо одутловатeе, чем прежде. А поза, которую он позволил себе принять в кресле не своего номера, свидетельствовала о его полном и органичном слиянии с антуражем.
Oн улыбнулся смущенной улыбкой застигнутого за очень личным занятием человека. Потом встал, как учтивый белый офицер при виде дамы, склонил аккуратно стриженую голову, и я бы вот-вот услышала стук сведенных каблуков, если бы не увидела на его ногах… домашние тапочки! Клетчатые, уютные. Значит, все-таки уходил к себе. Зачем вернулся? Откуда в музыканте столько бестактности? Да как он только Шопена исполняет?
Из второй комнаты номера-люкса вышел переодетый в спортивный костюм любимый. Вот он выглядел вполне легально. Хотя тоже шуршал тапочками. Только не клетчатыми, а в крапинку.
Подмигнув Володе, он не грубо, но собственнически втянул меня в спальню и закрыл за нами дверь. Пришлось упираться – обеими руками в торс.
– Володя же здесь! Не надо. Пусть уйдет. Ну, подожди, я правда не могу так. Как будто он подглядывает!
– Ну и что? Он же об этом мечтает! Влюбился в тебя. Пару пассажей сегодня из рук вон плохо сыграл. Сбивался с такта.
И, не дав мне опомниться, продолжил:
– Он – мой хороший друг. Приличный человек, я давно его знаю. Давай я его позову, пусть он будет с нами?
В этот момент я предпочла бы оглохнуть на некоторое время и с полным правом ни на что не реагировать. Я даже упираться перестала. Улыбалась глупо, перебегая взглядом с его правого глаза на левый, словно не в одном, так в другом могла увидеть подтверждение, что он шутит. Но нет, взгляд его выражал безжалостное лукавство.
– Ты же большая девочка!
Хорошо, что за ужином угодливая официантка подливала мне вина. Спиртное я не уважала именно за тот эффект, который позволял сейчас противостоять происходящему: в раскисших мозгах моих застревали импульсы, поступавшие из окружающей действительности. Туда, как в вату, падали его слова:
– Давай его позовем. Ты для меня такая сексуальная… Мне хочется именно с тобой!
А я и не знала, что я сексуальная. Я ничем в себе не кичилась, а большой груди и вовсе стеснялась, сутулясь и чуть сдвигая плечи, чтобы не выпирала. А то просто девушка легкого поведения с тяжелой амуницией.
Наедине с народным артистом я чудовищно комплексовала, оставаясь зажатой. И зажимала меня… любовь. Вернее, представления о ней. Образчики книг, эталоны времени, примеры бабушек, наставления матерей – всем этим девичье достояние – целомудрие было возведено в категорию главной женской добродетели. Потеря девственности считалась самой невосполнимой утратой. Но трагедия заключалась не в этом, прискорбном, с точки зрения морали, факте, избежать которого все-таки мало кому удавалось. Девушек к определенному возрасту разрывало пополам. Мораль сжимала хрупкие ножки, а непреклонный инстинкт их раздвигал. И самым безболезненным было, если это ответственное мероприятие девушка добровольно вверяла достойному смельчаку, не горюя об этом после. Гораздо хуже приходилось тем, у кого эту самую хрустальную девственность, бесценный клад, отнимал силой какой-нибудь подвыпивший нахал. Об экстремальных, подсудных случаях речь не идет.
Что касается меня, несмотря на титанические усилия, эталона из моего случая не получилось: я не донесла до свадьбы пресловутый клад. Хотя усердно старалась следовать канонам: не потакала влюбленным в меня юношам, не злоупотребляла косметикой в целях привлечения к себе особей противоположного пола, взгляд из-под очков отпускала строгий. И никаких вечеринок, пьяных компаний, танцев и поисков приключений на одно круглое место. Как и положено литературной героине, я ежедневно, рискуя сделать его плоским, давила этим местом жесткий стул Театральной библиотеки. Наверстывала недоданное в общеобразовательной школе, повышала эрудицию, выписывая и заучивая иностранные слова, вчитываясь в бежевые, пахнущие пылью листочки старых изданий зарубежных пьес. А танцульки казались мне пошлостью, пережитком и умиляли разве что их гениальным воплощением на экране в фильме большого режиссера Глеба Панфилова «Начало», где всю правду о танцплощадке рассказывают натянутые жилы шеи и жадный взгляд блистательной Инны Чуриковой. Вот так выглядит девушка, когда ждет Принца – страшно и убедительно. Но подваливает к ней какой-нибудь женатый Леонид Куравлев в мешковатом костюме, с кривой ухмылочкой. Или того хуже – проходимец из «Ночей Кабирии» Федерико Феллини. Этого всего не хотелось категорически. Поэтому – в библиотеку, каждый день! И пусть кладом я уже не располагала, любовь по-прежнему представлялась мне возможной. И грезились возвышенные, вплоть до заоблачных, чистые до прозрачности, непременно взаимные чувства, не имеющие к соитию никакого отношения. Уже пару лет занимаясь плотской любовью, я всё еще мечтала о прогулках при луне, сплетенных руках, пылких признаниях и скрепленных кровью клятвах. Голова, напичканная умозрительно-прекрасной отравой, не давала упругому телу расслабиться и научиться получать удовольствие. Во время близости глаза мои закрывались не от наслаждения – от стеснения. Иногда я была даже противна себе самой. В любой позе, оправданной с точки зрения анатомии и эстетики, смотрела на себя со стороны и мысленно отворачивалась. Его красивое, дорогое лицо в эти минуты тоже видеть не хотелось. И даже приятные, судорожные волны, пробирающие бесконтрольно отдающееся страсти тело, ни на минуту не замывали мое закомплексованное сознание. Мне хотелось быть безупречно-красивой и целомудренно-живописной. Даже с беспомощно задранными ножками. И обязательно не такой, как его бывшие пассии. Конечно, я лучше. Вон как он смотрит! Разве можно хоть раз повторить подобный взгляд?
– Ты для меня необыкновенно сексуальна, – исповедально повторил мой герой. – Володя, конечно, стесняется, но ты ему поможешь, правда? Только не говори, что у тебя такого еще не было.
– Не было! – почти крикнула я.
– Тише, тише, что ты так нервничаешь? Я тебе верю. Но хочется попробовать… чтобы все вместе. Давай?
Интонации его голоса, заискивающие и в то же время настойчивые, плохо сочетались с лицом киногероя, и это мешало восприятию еще больше. Теоретически я понимала, чего от меня хотят, но туго соображала, как это «искрометное ревю» воплотить в жизнь. Подобного опыта у меня не было. Лишь однажды соприкоснулась я с этой животрепещущей темой всех времен и народов, и то – по касательной.
Мне позвонил как-то парень, состоявший в близких отношениях с моей однокурсницей. Неглуп, небездарен, учился на режиссерском факультете ВГИКа. Мною воспринимался, как чужое достояние. А потому – без претензий. Да и типаж его был не более чем дружбанский. Пару раз, когда он навещал свою девушку в институте, мы вели философские беседы, беспредметные и необязательные. И никаких лишних намеков – однокурсница была невыносимо красива, и он весь, бледный и худой, принадлежал ей, как палуба теплоходу. И вдруг однажды, когда институт мы закончили и пустились в большое плавание по жизни, в коем некоторым «теплоходам» уже сорвало пару-тройку палуб, Ваня позвонил мне и предложил, по старой традиции, пофилософствовать. Поскольку дело было днем, а кухонные посиделки считались в Москве богемным ритуалом, мысль попить вместе чаю не вызвала с моей колокольни ни малейшего диссонанса. Я продиктовала адрес, спустилась в булочную за популярным овсяным печеньем и заварила в керамическом чайнике крупнолистовой индийский чай – вымученных, одноразовых пакетиков тогда в природе, к счастью, не существовало.
Ваня приехал вовремя. Открываю дверь – на пороге двое: Ваня и…
– Привет! А это мой друг, тоже Ваня. Ты не против, если он с нами чайку попьет? – Ваня Первый интеллигентно улыбнулся, а Второй дополнил его улыбку своей – непримечательной, но милой. Я попятилась, и тезки, расценив мое замешательство, как приглашение, вытерли дружно ноги и скромно вошли.
Ваня Второй «всю дорогу» молчал, ерзая на табуретке и упирая руки в колени, чтобы было легче держаться прямо. Первый манерничал, подпуская обаяние, как пиротехник дым, выказывал эрудицию, суетился, подливая мне чаю, словно не он у меня, а я находилась у него в гостях. Определенную неловкость чувствовали, похоже, все. Чай выпит. Пора уже и разойтись по своим орбитам. И вдруг первый Ваня сумбурно и, я бы сказала, выспренне предложил мне… любовный экзерсис втроем. Я затихла в шоке. Никогда не думала, что от философии до разврата – один шаг.
Второй по-прежнему тупо улыбался. Значит, всё у них было оговорено заранее, на совете где-нибудь в Филях, где Первый обитал.
Я имела полное право обидеть «философов» ханжеским высокомерием, но, не вставая в позу, лишь резко встала со стула – и оказалась выше всего. Дружелюбно помолчав, тут же, на кухне, с куском овсяного печенья в пересохшем рту, я отказалась от пикантного этюда на заданную тему. Не аргументировала, не указала наглецам на дверь. Просто отклонила предложение. Мои доводы были просты, как полено: Первый, хоть уже и бывший, но любовник однокурсницы, а Второго я впервые вижу. И к обоим не испытываю ни малейшего интереса. Только недоумение. Возмущение как-то не прорезалось. Уж больно нелепый среди бела дня вариант. На розыгрыш больше смахивал. И тогда, инфантильно приняв мою тактичность за лояльность, друзья принялись меня уговаривать. Воодушевленными и страстными голосами. Из косноязычной массы их аргументов членораздельно прозвучал лишь один:
– Неужели тебе не хочется, чтобы тебя поцеловали в оба соска сразу?!
С их точки зрения, отказ от такого неординарного ощущения был архиглупостью. Наверное, именно там у них обоих находились эрогенные зоны. Хотя общепринятое представление не допускает подобного ареала чувственности у мужчин.
– Не хочется, – твердо ответила я.
Ну, не хотелось, ей-богу! И только двадцать лет спустя, вспомнив грустным, одиноким вечером ту зарисовку юности, я сама себе честно призналась, что сейчас эдакое предложение было бы, по меньшей мере, принято мной к обсуждению. Как, с кем, при каких обстоятельствах – другой вопрос. Если не ханжить, то один раз в жизни был бы женщине за всякие муки ея простителен. Главное, чтобы соски оставались еще на месте, когда вы на это решитесь.
Так вот какая тайна делала лицо аккомпаниатора Володи напряженным! Оба артиста тоже были друзьями, и случай им подвернулся в отрыве от дома и бдительных жен вполне аппетитный. Это равносильно тому, что рыскать по лесу оголодавшим и вдруг наткнуться на мангал с готовым шашлыком. А рядом, на пенечке – кетчуп и сочный лук колечками! Командировка для женатого мужчины – не место для испытания силы воли. А тест на беспринципность. Вызов собственной плоти. Поединок с самим собой. И героев тут мало.
Я резко вышла из спальни, не понимая, чем себя защитить. Любимый вышел за мной. Володя все еще держал стакан на уровне груди и делал вид, что он не в курсе происходящего.
Две зрелые, творческие личности стояли передо мной в домашних тапочках, не стараясь быть импозантными. Конечно – кто я такая? У них таких девочек по городам и весям, поди, несметное количество «заряжено». И большинство милашек рвались без колебаний отдать дань своему восторженному возрасту. Выразить приверженность искусству. Или пострадать за свое литературное воспитание.
– Ты же умная девочка
Я молча смотрела в пол. Их растоптанные тапочки мозолили глаза. Обладатели этого банального тотема семейной жизни устали от концертной обуви. Но даже если бы они сейчас надели ее ради моего соблазнения, это бы мало что изменило. Аккомпаниатор был по-прежнему неприятен, а любимый пугал чуждой назойливостью.
И вдруг в дверь номера постучали. Извиняясь за позднее вторжение, не входя, администратор прошептала страдальческим голосом:
– Там какой-то мужчина, Ваш постоянный поклонник, рвется пожать Вам руку. Я его уже и милицией стращала, а он чуть не плачет: мол, улетаю рано утром, как это так – жить в одной гостинице с таким артистом и не выразить свое уважение! Я, правда, сказала, что Вы уже спать легли и просили не беспокоить, но он говорит, что вычислил Ваши окна, а там свет еще горит. Настырный оказался! Ну, ради Бога, простите, просто измучил меня… Уверяет, что сам играет, только в Народном театре, где-то в Молдавии.
Мужчины переглянулись и издали чуть ли не разом характерный звук недовольства, похожий на покашливание.
– Надо было сказать, что у меня женщина в номере, он бы постеснялся, – раздраженно пробурчал атакованный артист.
Администратор развела руками. В это время с лестницы прозвучало басистое, ликующее:
– Дак я же сказал, что он не уснул еще! Иду на голос! Ну, на минуту буквально! – подходя к номеру, ударил себя в грудь очень крупный, симпатичный дядька с пузатой бутылью в плетеном каркасе. Он был похож на великана Пантагрюэля, вышедшего из-под пера Рабле, но в русской интерпретации.
Мне удалось под шумок выскользнуть из номера и убежать в свой. Закрывшись на ключ, я разревелась от перенапряжения и обиды.
Через некоторое время он постучал в дверь и подергал ручку. Мне страшно хотелось открыть и кинуться к нему, и пожаловаться ему на него самого, поскольку больше некому, и показать заплаканное лицо – пусть испугается, что сделал мне больно! Но я боялась увидеть за его спиной аккомпаниатора со стаканом молдавского вина и не открыла. Затаилась под дверью, как партизанка, и уговорила себя, что крепко сплю.
– Глупенькая, – позвал его голос негромко и нараспев, – мы бы сделали тебе хорошо. Винца бы попробовала. Ну, ладно, как хочешь. Спокойной ночи.
На следующий день мы улетали в Москву. Судя по лицам моих незадачливых обидчиков, они спали мало, пили много и, может быть, кому-то сделали хорошо. Пузатая пантагрюэлевская бутыль осталась у администратора в качестве раритета.
В течение всего полета соплеменники, постанывая и посапывая, вяло сражались в шахматы.
Я смотрела в иллюминатор. Меня успокаивало небо и вязкое безе белоснежных, чистых облаков.