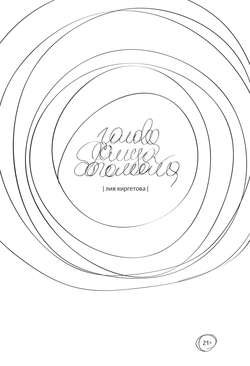Читать книгу Голова самца богомола - Лия Киргетова - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7:40
ОглавлениеТак не могло продолжаться долго: Агния выбрела из спальни, вначале вполне бодро помахала рукой, мол, привет, земляне, но уже минут десять спустя вдохновенно, заводя саму себя, портила мне настроение.
Ей мало внимания, – суть претензии, – а значит, покатилась с горы огромная бочка недовольства, подпрыгивает на ухабах, гремит.
Пусковой механизм «мне недостаточно» скоро сработает, взорвёт её и зацепит меня. Я проходил это.
Нас некому остановить, а останавливаться самим – не в свойстве человеческой натуры. И если одни умники на минном поле поводов для скандала ведут себя как сапёры-профи, то другие (а среди женщин других – большинство) – наоборот.
Ненавижу всё это.
Причина утренней истерики – незавершённость ночной, а причина ночной – несовершенство мироздания, не иначе: я заснул вчера сразу после секса, вырубился в долю секунды.
Многие имеют дурацкую привычку засыпать по ночам, хотеть спать в час-два ночи; особенно те, кто встаёт в семь.
А многие женщины имеют другую привычку: выяснять отношения именно после полуночи. Вампиризм, не иначе. Это – вторая категория людей. Именно в тот момент, когда первая категория, те-кто-хочет-выспаться, начинает зевать, вторая входит в раж.
И я уже готов на всё: признать любую вину, покаяться в грехах всех мужиков, женщин, стариков и детей, и северных оленей, и белых медведей, и шакалов, и сурикатов (хотя какие грехи могут быть у сурикатов)?
Когда вижу-слышу этот их сладко-горький вдох предвкушения, за которым следует выплеск «всего-о-чем-я-хотела-с-тобой-поговорить», выплеск, мешающий в одну кучу «ты так посмотрел», «а каково мне было в позапрошлом ноябре, когда ты…», «и твой Саня – тот ещё урод», и «ты даже не помнишь!», мои пьяные выходки и трезвые замечания, эту рыжую стерву-соседку с третьего этажа, мужа подруги Светы (редкостной кикиморы), который, в отличие от меня… Тогда я зверею.
Но в полвторого ночи я беспомощен. Очень хочу спать. Очень.
И думать о чём-то ещё, кроме мрачной констатации: «пять с половиной часов до будильника», «пять часов на сон, мать твою», «я убью её сейчас, если она не заткнётся, третий час ночи!» – невозможно.
Вчера я выдержал полчаса, затем попросил прощения: любимая, солнце моё, давай спать, утро вечера мудренее, тебе нужно выспаться, бла-бла. В ответ: «А за что именно ты извиняешься? Мне важно знать, что ты меня понял».
Я понял.
Трахнул её зло, но сладко. И отвернулся – баста! И храпел уже минуты через три, так что её возможный план по всхлипыванию и подвыванию с постепенно усиливающейся громкостью за спиной «у этой бездушной эгоистичной скотины» провалился.
Та-дам! Утро! Продолжение банкета. Вдруг из маминой из спальни кривоногий и хромой. Завтрак со сверлом в голове. Теперь на плакате демонстрации протеста ядовито-фуксиевым по лимонно-жёлтому: «Вот ты вчера вырубился, а я не спала всю ночь».
– Мог бы и мне сварить кофе.
Первая утренняя фраза моей милой. Мог бы. Но не сварил. Не хотел. Успеть хотел. Свалить. До.
Нет, стоп! Не позволю себе ввязаться в очередной перетык взаимными наездами. Эти дамы, самозабвенно захлёбывающиеся потоком эмоций, – они же могут часами, сутками, годами вещать.
«Эти дамы» – подумал, а ведь какое-то время назад Агния была для меня особенной.
Любопытный момент: когда влюблён, – ищешь, видишь в женщине всё то, что отличает её от остальных. А когда страсть с уважением проходят, – наоборот. Находишь десятки одинаковостей, ставишь прочитанную книгу на полку в ряд. Видишь вдруг на корешке книги логотип растиражированной серии.
Она стала «они все». И то, что хочет от меня не-единственная, становится лишь одним из бессмысленных, навязчивых, нелогичных лозунгов большой демонстрации членов профсоюза неудовлетворённых.
Раньше я пытался понять их конечную цель, но её нет, как бы им ни казалось обратное. Каждая их история – просто история себя-бабы, принцессы, которую «не разглядел очередной козёл».
Козёл разглядел как раз. Но это уже – другая история.
Они чувствуют в мужчине эту всегда слишком раннюю, слишком скорую потерю желания, спад эмоций: было много, стало меньше; но какая же беспросветная глупость – говорить об этом вслух. Требовать. Спрашивать.
Это – самоубийство. Хуже, чем показать весь целлюлит сразу плюс три складки на животе, морщины у глаз и на шее, растяжки, небритые ноги и подмышки, то, что они так старательно прячут и устраняют; это – хуже, как же они не понимают?
Можно подумать, оттого, что я в сотый раз услышу, как изменился в последнее время, насколько всё раньше было не так, и бла-бла-бла, у меня появится интерес, влюблённость или эрекция. Наоборот же!
Тупость – требовать сохранения формы при вытекании содержания, это лишь продалбливает дыры в и без того зыбком, текучем, вечноменяющемся «мы»; много чёрных дыр – и ничего не остаётся внутри, всё вытекает, испаряется, ускальзывает, остаётся тоскаа-а-а-а.
Объясняли бы им с детства, что человек считает значимым чаще всего то, что чувствует он сам. Вся система отношений была бы иной. Миллионы людей тратили бы драгоценные часы и годы не на демонстрацию и описание своих эмоций, а на их проживание и на то, что вызывает, создаёт чувства у небезразличного тебе человека.
Кому это всё надо: я так страдаю, я так вижу, я так мучаюсь, я так уязвима, я так живу, потому что когда-то..? Никому. Не по пятьдесят шестому кругу хотя бы.
Бытовые спектакли о самой себе – это не то, что вдохновляет мужчину продолжать чувствовать желание. Держать внимание на объекте. Они быстро приедаются. Становятся отвратительными занудной повторяемостью и посекундной предсказуемостью. А когда актриса – десятая по счету? А текст мизансцен – один на всех.
Принцесса. Женщина-загадка. Угу. Транслятор трепетного чувства, вещатель душевных тонкостей, сирена взаимопонимания, рупор эмоций, источник шума. Заткнуть – единственное желание. Её или уши.
Агния. Теперь я зову её Агонией про себя. Вторая женщина, которую я любил. Для меня это значит долгое пребывание в уверенности, что без неё мне – кранты. Когда любишь не только глаза, грудь, задницу или то, как она стонет, а ещё подбородок, уши, пальцы на ногах, неровный прикус и негромкий храп.
Но я больше не хочу на ней жениться. У меня, видимо, нарушен кислотно-щелочной баланс: мне то кисло от её гримас до изжоги в желудке, то щёлочь её слов разъедает мозг.
Двадцать секунд – и я уже злой. Я вроде как вынужден делать то, что не хочу. Слушать, говорить, вникать. А зачем? Для чего мне это? Какое, на хрен, право она имеет портить мне настроение?
Тридцать три – это же лучший возраст в жизни. Золотой возраст потребления секса. Ты уже на пике своего мира, ты интересен всем женщинам от пятнадцати до восьмидесяти восьми, ты умеешь стоять, сидеть, улыбаться, смотреть и говорить.
Решать. Соблазнять.
Осознание весёлого победительного момента вседозволенности становится приоритетом. Иногда хочется эмоций, таких же как в восемнадцать, и даже немного жаль, что теперь ты их контролируешь, управляешь ими.
В восемнадцать так искренне переживаешь, не думаешь о будущем, не просчитываешь варианты, но ты ничего не стоишь ещё, не знаешь жизни, любишь в первый раз, комплексуешь. А теперь можно всё.
Ищешь остроту, при вседоступности самого процесса, любишь женщин. Но чаще влюбляешься на четверть сердца, все остальные камеры заполнены пройденным опытом, там погибшие друзья, победившие тебя враги, проблемы со здоровьем, там – двенадцать тысяч прожитых суток, и осталось чуть больше, если повезёт, а таких вот, топовых в плане формы и возможностей, – пара-тройка тысяч.
И быть рабом существующего порядка вещей – не хочется, но бороться с этим порядком – мутное дело. Расслабиться и получить удовольствие внутри системы, ни к чему не относиться всерьёз, или обойти её, ускакав на оранжевом верблюде в свою Внутреннюю Монголию, – дело высоты духа, а дух – как гиря, как долбаные сто тонн тянут вниз меня, вот прямо сейчас, напротив этой женщины, переходящей на ультразвук.
Не держать дух на весу – падает на ногу. Держать на весу всё время – сил не хватает, или отвлекаюсь, забываю просто.
Люблю женщин, да, но такую, чтоб не прибавила свой вес к весу гири моего духа, пока не встречал. Как забег на предсказуемую до идиотизма дистанцию: начинаем вот отсюда, старт по свистку, и финиш за поворотом. Отношения. Вместо чего-то другого, настоящего, живого.
Игра без смысла, пустая, пустая, тупая игра ни во что. В бабскую войнушку. Как в неё не втянуться?
– И молока мне не оставил, разумеется. Ты вообще обо мне думаешь хотя бы иногда?
– Да не ори ты, сейчас схожу тебе за молоком.
– Вот и сходи! И я не ору! Сам не ори! Ты не умеешь любить! – вдогонку в спину бросила.
Вышел в магазин, едва удержался, чтобы не хлопнуть дверью. Я и вправду не думал о ней. И о молоке. Не в первый раз слышу это «не умеешь любить». А спроси этих идиоток, кто, по их мнению, «умеет любить», – называют героев ванильных мелодрам и тех своих приятелей, которым сами же наставили рога, или вообще не дали ни разу.
«Уметь любить» для них – наверное, что-то типа жертвенности. Моей.
Молчать и мычать. Пьеро. Или этакий всепрощающий папочка.
Они с упоением впериваются в свои любимые сериалы вроде «Секса в большом городе», не вникая в то, что если им по телевизору показали архетипичную истерику, цикличные монологи вагины, то это не потому, что такое поведение – норма жизни, а потому, что хорошее знание потребностей целевой аудитории делает этот продукт бестселлером.
Женщинам всего мира телевидение продаёт истерики. Поддерживает тренд.
О чём я думаю? Точно, войнушка бабья. Я на коне в красных шароварах с шашкой наголо. Стыдно. Мелко. Тупею. Кретин я.
Вот мой брат Артём воевал на Первой чеченской. Артиллеристом. Сержант. Наводчик. Вернулся обратно, одинаково равнодушный и к смерти и к жизни, пил до синих чертей месяца три.
Поначалу, после возвращения, очень любил меня, мне тогда четырнадцать было, разница у нас – шесть лет. Учил жить, защищал, да и не лез никто ко мне ни во дворе, ни в школе, с таким братом-то. Я им гордился.
Короткие рассказы, морщась, матерясь и наливая следующую, про Моздок и САУшки, самоходные артиллерийские установки, обстрел Грозного и адский Новый 1995– й год, месиво и хаос.
Короче, Тёма видел и Грозный в январе, и Аргун в марте, и чёрта лысого.
Война для Тёмы – наглухо закрытая тема, вход через люк, то есть через бутылку водки. Мать боялась подходить к нему первые полгода, вроде и родной и чужой, – говорила, – и мой и ничей.
Орал по ночам: Два снаряда, огонь! Работаем по окнам! Есть!
Хотел вернуться обратно, от Второй чеченской его оттащила беременная Наська, жена, затем сын, солнечный мой племяш Ванька, затем понимание того, что хуже проигранной войны может быть только предательски проигранная, сданная на хрен с потрохами война.
– Я не знаю, – говорит, – сколько на мне душ. Чехи – не чехи, не знаю. Может сто, может пятьсот, а может и три десятка всего. Накрывали по кварталам, чтобы пехоте дорогу дать. А кто там в этих домах был? Так что мне выставят счет на том свете. Там и узнаю. Военный билет выдаётся только в одну сторону, Вадька.
Из учебки в Мулино он ещё писал письма, часто и много: «Два солдата из стройбата заменяют экскаватор, один мулинский солдат заменяет весь стройбат».
Писал про сержантщину, местный вариант дедовщины, приколы разные армейские, школа жизни, все дела.
А потом 81– й мотострелковый дважды краснознамённый попал в окружение в ту самую новогоднюю ночь, Тёме повезло, но Новый год он больше не отмечал ни разу. И писал мало. Матери только. И рассказывал редко. Видимо считал меня совсем зелёным и тупым. Ну да, я – чмо малолетнее, он – герой.
– Вот ты пойми, мы же из учебки все, и мехвод, и я, да чё там – на весь полк четыре «афганца», понимаешь? Чехи-то – матёрые псы, там и наёмники, и оружие, одних гранатомётов – жопой ешь, они нашу разведку из них расстреливали по одиночке – нет, тебе не понять, не экономили они, короче.
Мы на самоходку вешали ящики с кирпичами и землёй, даже на крышу. Броня-то не танковая у нас, ящики эти нам жизнь спасли потом.
Сидит, смотрит в пол, маленький, на полголовы ниже меня, худой, небритый. Сплёвывает. Глаза синие у него, отцовские, мама называла их васильковыми. Мутные васильки какие-то, увядшие.
Мама умерла в мои восемнадцать, от меланомы. Быстро, жутко, вырезали кусками кожу, затем перестали, метастазы во всех органах, боли дикие. Последние два месяца она почти не вставала, лежала и выла, получеловек уже. Отец умер три года назад. У меня его цвет глаз, серый.
Тёме повезло с Наськой, золотая жена. Она больше ухаживала за нашей матерью, чем мы с ним вдвоём.
После похорон матери отец переехал к своей маме, к бабуле. Тихо доживать. Брат с семьёй заселились в родительскую квартиру, так и не сделали ремонт толковый до сих пор. Шифоньер советский в трещинах, чемоданы со старой одеждой в кладовке, масляная краска на стенах в туалете. Живут.
– Полк просто впустили в центр города, одня броня вошла без пехоты, без выстрелов. И встала. Рядами и колоннами. Нас не тормознули нигде, встаньте, дети, встаньте в круг, и начали новогоднюю карусель. Горели как спички. Ни карт, ни плана, ни задач чётких, ни линии огня.
За ночь остались кучки отдельные, выходили по одному. Для большинства это был первый бой, а чё, маршем из Моздока. Там ещё тренировались пару дней в чистом поле, стыдно вспомнить. Противник оказался совсем не условным, Вадька. Блин, такой мистер Малой вместо бойцов: буду пагибать маладым, – сплёвывает, наливает, пьёт, не морщась. – От ужаса мотострелки палили без разбора, и по своим и по чехам, паника, везде трупы, танки горят, БМП горят, «Тунгуски» горят, связи нет, командиров нет, куда бежать – непонятно.
В радиообмене только «Двухсотый, двухсотый, двухсотый, двухсотый. Ялта-56! Курьер-47, мать-перемать, Днепр-44, Гришка! Суханов! Ээх!». Боевики в эфире гуляли, как хотели, БТРы наши уводили в мышеловки.
Санитарные машины разбомбили ещё на входе, с собой кроме промедола и бинтов ничего, разведка вперёд ушла, её расстреляли, кто-то выполз по одному, по двое.
Комполка Ярославцева ранило, командует вроде как Бурлаков. Его ранило – передали Айдарову. И это всё за сутки. Попали, короче. Мы, 131– я, да рохлинцы.
Нам говорят: «Накройте квартал вдоль Богдана Хмельницкого». Мы херачим. Полупрямой наводкой. Дальность по прицелу, направление по вспышкам. Кого мы там накрыли? Толку всё равно никакого, мясорубка. Пушечное мясо из учебки.
Ещё в Моздоке солдат подошёл, спросил, как к автомату магазин присоединить. Ну, вот куда таких было отправлять? – наливает, пьёт, сплёвывает. – Ночью уже сидим в кювете, от боекомплекта возимого шесть зарядов осталось. Жрать хочется, спать тоже. Но жить хочется больше всего, сидим молча. Гильза на лотке, снаряд в стволе, радиостанция на приёме. С Новым годом, дорогие россияне. Такая хрень, – молчит, и по глазам понятно: он это видит. – Первого вырывались как могли. Я сам видел – БТР один вылетел, наш, конечно, но без опознавательных. Так наши же танки его расстреляли в упор со ста метров. Свои своих. В клочья с трёх стволов, – на меня ни разу не взглянул, рассказывает потустороннему Кому-то. – Орудие моё умерло десятого января, а расчёт весь выжил, командира только контузило.
Слушал молча его. Артиллерия – боги войны. Трудно быть богом.
Но всё сложней. Мне было стыдно одно время. За то, что я не воевал, даже не служил. А потом стало всё равно.
Тёма редко звонит. Не принимает помощи. Работает в автосервисе, бухает редко, но метко.
Он мужик, да. Он мой старший брат, да. Ну и что? Нам не о чем говорить, ни о работе, ни о бабах, ни о бабках, ни о мечтах. Поржать не о чем. И мне обидно. Обидно и зло. Я вроде и не виноват ни в чём, а как бы хуже его. Полумужик вроде как. Недомачо.
К войне очень хочется быть причастным, когда она неподалёку, когда своих касается. Вирус войны – безумия, метафизики, одиночества, коллективного разума – волчья тропа от человека к животному. Разрушение личности, девальвация будущего на гражданке.
Меня пугает случайность смерти, очевидная там. Эта случайность отменяет для меня все законы кармы. Ты – мать Тереза, но в тебя летит осколок. Ты – дерьмо, но пуля просвистела мимо.
Брат всегда будет лучше меня одним только этим – причастностью к войне. Единственное, что отличает нас в мою пользу – наглухо вбитое в брата знание, что он не хозяин своей жизни, что главное решает – не он. Во мне этого нет.
Я не знаю, кто ближе к истине.
Мачо – не мачо. Когда захожу в любое помещение: клуб, офис, в любое, автоматически оглядываю людей, не особо осознанно прикидывая, кто из мужиков мог бы надрать мне задницу, и, конечно, кого из женщин я бы трахнул. В идеале – без разговоров.
Знакомишься, сразу видишь её главную потребность, и вроде ничего плохого в этих потребностях нет, но всё так банально лежит в сфере формы, а не содержания, что искренне грустно.
Хочу замуж. Хочу денег. Хочу быть принцессой.
Минута прошла, как познакомились, а сразу чётко ясно, как и куда можно прицелиться, пульнуть, потом отступить и дать себя полюбить. Только и этого уже не хочется.
Кем быть любимым – разница большая.
Так легко говоришь, что думаешь; выражаешь симпатию, честные, искренние эмоции; так же легко отходишь в сторону. Это – убийственная штука для женщин, как подойти и сказать на ушко: я знаю, что ты хочешь в туалет; я знаю, что ты хочешь, чтобы я завалил тебя прямо здесь; я знаю, что ты хочешь услышать: «Малышка, я пришёл в твою жизнь, чтобы сделать тебя счастливой, я буду решать все твои проблемы и никуда не уйду. Никогда».
Я знаю, чего хотят женщины, и это скучно, обламывает с первой минуты. Они хотят генерального директора своей жизни, опекающего, преданного, с вечным стояком, властного и нежного, богатого и щедрого, ручного и независимого, делового и хозяйственного, психоаналитика и хулигана, плохого для всех, но хорошего для единственной. Вещь и господина в одном. Восхищаться и не психовать, что сбежит.
Хозяина, который заслуживает того, чтобы служить ему. Если женщина себя уважает. Если нет, то она бессмысленно служит кому попало. Тащит на себе.
Отсидевший мужик нужен десяткам баб. Отсидевшая баба – никому. Алкоголик пропивает дом, баба будет упрямо нянчиться с ним. Алкоголичка сдохнет под забором в одиночестве.
Рынок. Спрос и предложение, ничего личного. Мужик за полтинник – вполне. Баба – адьос!
Они заложницы системы эм-жо, поэтому нам и мстят.
Живём в плохо завуалированном кастовом обществе с жёсткой социальной моделью.
Сейчас мне доступно многое в этой модели. Жаль, что не всё.
Если помечтать, не ограничивая себя, то этот день я бы провёл так: вначале в хорошей компании полетал бы на МИГе-25 или на «Чёрной Птице» за штурвалом, с виражами и всякими бочками-штопорами.
Потом – уже на мегаскоростном дельтаплане – пронёсся над степями Монголии. Посмотрел бы, как падают несколько небоскрёбов. Нет, много небоскрёбов.
Трахнул бы Анжелину Джоли поставив на колени, сзади бы взял на фоне развалин догорающего мегаполиса. Сзади, с её губами, нелогично, конечно. Ладно, разворачиваем Анжелину.
Пообедал бы неаполитанской пиццей, обжигающе-горячей, только что приготовленной. Винцо хорошее калифорнийское. Фуагра с яблочным пюре или малиновым соусом от какого-нибудь Бокюза.
Снова за штурвал, и досмотрел бы до конца закат над Гранд Каньоном, пролетая в метре от скал.
Офигенный секс – неважно где, но уже не с Джоли, а с маленькой горячей Евой Лонгорией – посадил бы сверху её и поскакали.
И чтобы, засыпая, знать, что завтра утром отправлюсь на сафари в Кению или Зимбабве. С предвкушением приключения засыпать.
Вернулся в реальность, открывая дверь, принёс молоко и булочки. Пей, любимая. Ешь, солнышко. Свалил бы сию секунду, но закатит истерику вдогонку, будет звонить с упрёками, знает, что могу ещё полчаса провести дома.
Такое чувство, что я сам в себя сру. И эти Авгиевы конюшни уже не разгрести.
В моей жизни, наверное, нет Событий, таких вот, с большой буквы. Может быть, потому что всё идёт естественно, не особо революционно, не через ступеньку. Смерть матери разве только – Событие. Отца – нет. Единственный момент, заставивший меня подумать о том, что у меня нет ничего по-настоящему своего, отрубивший меня от корней, зачеркнувший принадлежность к семье. Нет семьи, – думал я тогда, – а что есть? То, что я теперь должен сделать сам? Создать. Взрослый теперь, да?
Или у меня неправильные критерии События. Недозначимость всего. Для кого-то и первый секс – Событие. И повышение. И свадьба, для женщин. Рождение ребёнка. Покупка машины – Событие. Измена даже, точнее – уличение в измене, как у Женьки, приятеля. Для кого-то и шмотка или девайс. Или пожрать, блин. Событие.
Я так ничего и не сделал. С такой бессмысленной вовлечённостью делая якобы необходимое ничего каждый день.
Агнии теперь всегда недостаточно. Можно биться лбом о стену, выполнять бессмысленные условия, устраивать сюрпризы или грубо посылать – ей всегда всего недостаточно.
Её бесконечные неоправданные ожидания заставляют меня замечать, что на ней плохо сидят джинсы, что на ней – плохо.
И даже если иногда бывает хорошо, как сегодняшней ночью, то это лишь ещё отчётливее проявляет утренний облом.
Я хочу её – другую, может быть позапрошлогоднюю, может быть второго или третьего месяца срока наших отношений, может быть даже летнюю, но не это вот, не эту, реальную – уже нет, уже нет.
– Ты можешь объяснить мне в двух словах, чего ты хочешь?
– Это не имеет смысла, важно, чтобы ты хотел этого сам, – талдычит с упорством макаки, вставляющей во время интеллектуального теста для обезьян квадратную палку в круглое отверстие.
– Чего «этого»?
– Быть со мной по-настоящему. Обнять меня, например, утром, поцеловать.
– Я хочу. Я обнимаю тебя, потому что хочу.
– Нет. Потому что я тебя прошу об этом, – говорит с интонацией, вызывающей у меня зудящее напряжение от воспоминания об училках в средней школе.
Долгая пауза. Мне омерзительно скучно, огромный насос выкачивает кислород из лёгких, вытягивает серотонин и эндорфины, обесцвечивает кровь, забирает молекулы кислорода, я прикидываю, сколько времени в неделю я трачу на эти разговоры, и на кой чёрт?
– У меня есть обычные человеческие потребности, мне нужно, чтобы ты позвонил мне просто так в течение дня, написал смс. Ты сидишь в аське, ну что ты мотаешь головой? Я же вижу. Неужели трудно написать любимому человеку пару слов? Или ты не хочешь? Не хочешь, да?
Может быть, тебе уже неприятно меня трогать, так ты скажи прямо! Нет? Да?
Мне, знаешь ли, тоже не нравится выпрашивать твоё драгоценное внимание. Можно подумать, мне больше делать нечего, как клянчить подачки! Нет, ты скажи, просто скажи и всё!
Я что, прошу что-то невероятное? Луну с неба? Бриллиантовое колье? А? Всего-то пару раз в день немного тепла. Это так сложно? Раньше такого не было, ну что ты смотришь в сторону? Ты как робот!
Смотрю на два растения с незапомненным названием на полке и думаю, что у них есть невидимые уши и интимная жизнь. Интимная жизнь растений меня отвлекает и умиротворяет, даже сама фраза – «интимная жизнь растений».
Днём они растут, делают кислород, делают этот, как его, фотосинтез, а по ночам занимаются симпатичным радостным растительным сексом.
Думаю, интимная жизнь растений в этом доме страдает от наличия у них невидимых ушей. Они скукоживают тычинки и сушат свои пестики с горя. От голоса Агнии они замирают, у них пропадает эрекция.
Да. Я её не хочу уже давно. Редко хочу. Всё реже и реже. Кто хочет – это? Дорогая, давай-ка я не буду на тебя смотреть, чтоб ты треснула сейчас, милая, на фига я терплю эту хрень, да ещё в понедельник, надо не забыть проверить отчёт Санин, так, всё, изыди, изыди, демон, лучше бы она начала утро с минета, как иногда делала ещё полгода назад.
Орёт. Слышит только себя. Может быть, я недостаточно изобретателен?
Представляю: просыпается утром, топает в туалет, ощущая странное неудобство при ходьбе, останавливается и с изумлением извлекает из себя записку. Прямо оттуда. Аккуратно свёрнутую трубочку. В клеточку лист, как в школьной тетради. «Доброе утро, я очень хочу секса, перестань трахать мозг своему мужику с утра пораньше, чтобы он хорошенько отымел тебя сегодня вечером. С наилучшими пожеланиями. Твоя вагина». Не оценит, боюсь, креативчика моего.
– Почему ты не смотришь на меня, когда я с тобой разговариваю? Никогда! Оу, да! Ты бы видел сейчас свой взгляд! Тебе весело? Как ты так можешь? За что, я не понимаю, за что? Ты делаешь из меня истеричку, я не была такой раньше. Почему бы тебе не открыть свой рот и не сказать мне что-нибудь? Просто не обнять и не успокоить?
Я сама себя ненавижу уже, мне на хрен не надо ни смс твоих, ни звонков. Конечно, у тебя всегда есть дела поважнее. Я – идиотка. Ну и чёрт с тобой, смотри куда угодно, делай, что хочешь, я устала, я так устала от всего этого.
Слёзы. Снова.
Думаю, что когда бабы плачут, то представляют себя со стороны. Причем, стопудово, совсем не так, как это выглядит на самом деле.
Её картинка, наверняка, такая: хрупкие руки, тонкие пальцы, бледные щеки, грустные глаза, милая домашняя пижама; он смотрит и понимает, что снова ранил меня в самое сердце. Довёл до слёз. Надо всхлипнуть, но несильно, как бы сдерживаясь. И отвернуться, нет, лучше выйти в ванную.
Выходит.
Интересно, он понял вообще, что я заплакала? А вдруг нет? Вот теперь он не мог не услышать, как я всхлипываю. Не идёт, козёл. Всхлипнуть ещё раз, уже погромче. Посмотреться в зеркало: не покраснел ли нос.
Не слышит. Всплеск злости. Сейчас я ему устрою.
Она возвращается в комнату, плач Ярославны во мраморе, и в этот момент, вот прямо в ту секунду, когда она появляется в дверном проёме, я хочу её ударить. За то, что засоряет моё пространство, за то, что терплю эти спектакли, за эту неистребимую коровью мимику и стопроцентно предсказуемую смену масок: пройти мимо, показать мне зарёванное лицо, – и теперь я должен отреагировать, если не хочу продолжения.
Не хочу. Но что-то заставляет меня сидеть неподвижно и молчать.
Ни капли не жалко её. Кто их научил этому? Кто их так сурово обманул в детстве?
Кто сказал им, что вся эта бесконечная драма под названием «Я хочу рассказать о своих чувствах» кому-то может быть интересна? Или любимое: «Ты сказал то-то и то-то. – Я этого не говорил. Я имел в виду совсем другое. – А я услышала именно это, и какая разница, что ты имел в виду, если я так чувствую»?
Она не то что не трогательна, её не то что не хочется утешать и защищать, её не хочется – видеть. Не слышать. Не возвращаться сюда вечером. Не звонить.
Я же не могу всё время чувствовать одинаково. Иногда сил и эмоций море, иногда – абсолютное обезвоживание. Ноль. Особенно по вечерам. Сидишь, невосприимчивый, как под наркозом, ковыряешь ужин. Ничего не чувствуешь. Ничего не хочешь.
И подошла бы, обняла молча, киношку бы включила, тоже молча, – нет. Всё наоборот.
Начинаются вопросы, пристальные минорные взгляды: тебе скучно со мной? У тебя что-то случилось? Или моё «любимое» : о чём ты думаешь? Ну, скажи, о чём, я же вижу, что-то не так. Это из-за меня? И началось.
Сидеть, молчать, думать: какого хрена какого хрена какого долбаного хрена какого хрена какого хрена.
Нельзя, нельзя спрашивать: «Ты меня любишь? Ты меня ещё хочешь? Тебе со мной не скучно»? Никаких «почему ты не»? Как же не понять-то, что от этих вопросов – только враньё, что я сам всё скажу, сам всё сделаю, если захочу, а нет – так вопросами этими гвозди в крышку гроба вколачивать, ртом её искажённым, напряжённым, срывающимся звуком голоса – гвоздь вошёл, дерево мягкое, гвозди входят мягко.., входят, чёрт!
Может трахнуть её прямо сейчас, развернуть, наклонить, выдолбить из неё занудство это цикличное, так, чтобы пусто стало, пусто и тихо. В подушку её – ртом и словами, утопить говорение в подушке, поставив на колени, взять сзади, да.
– Вот вчера я тебя просила купить рыбы…
Какая рыба? О, господи, какая рыба на хрен?! Поднимаю глаза до уровня её шеи и подбородка. Рот. Говорит.
Мысленно засовываю в него рыбину. Немного мультяшную, щадяще к картинке. Щуку. Или карася? Нет, щуку.
Вначале головой вперёд, изо рта торчит хвост, нет, лучше наоборот – она издаёт звуки, так мне это видится, торчащая наружу щучья голова говорит со мной и кивает.
Жабры, и прозрачные красные глаза нарисованные, – свежая щука, хорошая. По щучьему веленью, по не моему хотенью, я все ещё сижу внутри сказки, которая закончилась.
Убрал рыбу мысленно, поднял глаза выше, столкнулся с обиженным взглядом. Нет ни рыбы, ни сказки. Осталась Агония.
Вот о чём мне с ней жить? О чём мне с ней спать? Мне надо – о чём-то. Не о рыбе.
Да можно и о рыбе, в конце-то концов, не о квантовой же физике с ней, не о смысле же жизни.
Какого хрена какого хрена какого хрена? Сдуваюсь, больше не могу, да. Или я должен быть мудрее. Кому я должен?
– Любимая, а как ты думаешь, время – это, всё-таки, феномен или ноумен?
– А чёрт знает, дорогой. Мне кажется, что оно не материально. Хотя вот Шрёдер, ну, помнишь, «Шесть дней творения и Большой взрыв», доказал влияние гравитации на время. Видишь ли, пока есть процесс, есть и время. Так что пока мы с тобой в процессе, время – это феномен, а как только мы из процесса выйдем, то тогда и поймём, если, конечно, будет возможность понимать. Ты, кстати, дочитал «Дао физики»?
– Нет ещё, добью в выходные, «Дао, которое может быть выражено, не есть вечное Дао»?
– Дао что ты говоришь?
– Передао мне масло, ага, и ветчину тоже, спасибо.
– Что ты так смотришь хитро?
– Думаю дао она мне сегодня или не дао.
Ну, пусть не такой диалог, хорошо. Но почему же так примитивно-то всё? Ведь умная же баба, красивая и умная. Куда это прячется со временем?
Кто-то крупно простебался над женщинами, надоумив их вместо слов и разумных действий устраивать театр одного актёра. Идиотская пижама, висящая на заднице мешком, дорогая, вот что вижу я.
И когда ты так наклоняешь голову, то твой второй подбородок выдвигается из шеи ящичком, и вкупе с красным носом и опухшими глазами делает тебя уродиной.
Стоит тётка, неблизкая, чужеющая с каждой секундой моего рассматривания, и хочет любви и ласки. А меня плющит.
Им всем надо раздать памятку, брошюру. По эффективному управлению мужиками. Оттого что я услышу, что я чего-то не хочу или уже три дня или пять недель не делаю, я не захочу. Я расхочу напрочь.
Могу поставить себе напоминалку: дважды в день звонить и спрашивать: как настроение, малышка. Утром целовать и вечером тоже, раз в два дня подойти и обнять, раз в три – трахнуть, раз в две недели трахнуть с особой тщательностью.
Если нужно – так, то нет вопросов, разумеется. Запишу, и если не забуду – сделаю. Без желания. Всё, что затребовано с педалью газа, вжатой до упора в чувство вины – умирает. Закон такой.
Если нужно, чтобы мужик хотел-любил, то принимаем меры молча, дамы. Дистанцируемся. Молчим и улыбаемся, не потому что вы дуры, или мы – козлы, а потому что требовать эмоций – глупость.
От чувства вины я, конечно, могу замереть в глубоком пардоне, но ненадолго. Я сам знаю, когда облажался, а когда нет. Пилить – себе дороже.
И отдельная категория в памятке – такая: если ты, звезда моя живая, мой лучезарный серафим, произнесла фразу: «Неужели тебе сложно бла-бла-бла для любимого человека?», то знай точно, что человек, которому это вкручивается в уши бананом или железным болтом, в зависимости от интонации, не любит тебя вот прямо в данный конкретный момент.
И, более того, он слышит это и думает: «Для любимого человека? А-а, ну-ну». В лучшем случае. Или матом уже. Или просто отключает уши и мозг. Но – не любит.
Желание укротить, подрихтовать, научить, приукрасить, сократить, улучшить, критиковать, оценить, изменить – это признаки нелюбви. Без вариантов – нелюбви проявления. Себялюбия суть.
То, что мы любим, меняет – нас, возможно – до полной потери эго.
Относительность тут невозможна. Или – или. Да или нет.
Если нас ничто не меняет, значит мы ничего не любим.
Я отвлёкся, но Агния этого не заметила.
– Тебе совершенно плевать на меня.
– Нет, солнце моё, я тебя люблю.
– Если бы ты меня любил, то всё бы было не так.
Она права? Она не права. Или я и вправду её не люблю совсем? А если так, то что? Валить?
– Всё, успокойся, – заставляю себя встать, сделать три шага навстречу, обнять, погладить по голове, поцеловать в щеку, приподнять лицо за подбородок двумя пальцами.
– Ну, зачем ты себя снова накрутила, а? Успокаивайся, малыш, напридумывала себе чёрт знает чего, всё-всё. Ну? Давай не будем ссориться дальше? Да?
Она кивает, облегчённо всхлипывает, а во мне щёлкают зубами четыре железные акулы, их металлические челюсти ловят пустоту, скрипят, и я ощущаю внутри лица, внутри ушей, пик зудящего напряжения.
Скрежетать, да, что-то во мне скрежещет. Дао?
Я ещё раз целую её, теперь в губы, отмечая вкус яичницы, заставляю себя целоваться дольше, чтобы у неё не было повода снова возопить и возвести руки к небу; я не хочу ни секунды больше быть здесь.
Дурр-ра! Мне не нужны её слёзы, мысли и тело.
Кто придумал все эти байки о пути к сердцу мужчины через желудок, наверное тот же чувак, который научил их казаться трогательными. Импотент сраный! Какой желудок?
Мне нужно три вещи: возбуждение, интерес и азарт, даже тревога, недополученность, незавершённость. Но возбуждение – больше всего.
Его нет. Расстреляно. Похоронено в грёбаной пижаме. С мишками и сердечками. С желудками, точнее, и мишками.
– До вечера, детка, я позвоню. Давай не будем больше ссориться. Я люблю тебя.
– И я тебя люблю, но мы ещё не договорили.
Какого хрена какого тупого хрена, а?
Отдельный респект Антуану де Сент-Экзюпери.
«Дорогой Антуан, ты просто забыл добавить, что речь шла о домашних животных и детях, а не о половозрелых особях женского пола, не так ли?
Неделю назад ко мне подошла девушка, с которой я спал однажды, и сказала, что я в ответе за неё, потому что приручил. Вчера одна дама, с которой я не спал и даже не собирался, сказала мне то же самое и захлюпала носом мне в пиджак, испачкав лацкан. Пардоне муа, Антуан, не вижу никакой логики, я слышал эту фразу от тридцати восьми девушек, но я не понимаю, Антуан, на каком основании они считают себя приручёнными? Я не хочу и не способен морально и физически быть в ответе за этих идиоток.