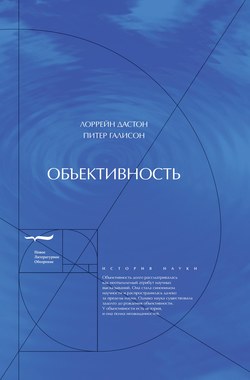Читать книгу Объективность - Лоррейн Дастон - Страница 12
Глава 1
Эпистемологии взгляда
Слепое зрение
ОглавлениеУ объективности есть история. Она не всегда определяла науку. Объективность не тождественна истине и достоверности и моложе их обеих. Объективность сохраняет артефакт или варьирование, которые могли бы быть стерты во имя истины. Она не решается отфильтровывать шумы, подрывающие определенность. Быть объективным – значит стремиться к знанию, которое не несет в себе следы познающего, – знанию, не отмеченному предрассудком или умением, фантазией или суждением, желанием или стремлением. Объективность – это слепое зрение, видение без умозаключения, интерпретации или рассуждения. Только с середины XIX века ученые начинают стремиться к этому слепому взгляду – «объективному взгляду», охватывающему случайности и асимметрии, разрушенную симметрию всплесков-корон в экспериментах Артура Уортингтона. Эта книга – о возникновении объективности как новом способе исследования природы и новом способе быть ученым.
Начиная с XIX века объективность имела своих пророков, философов и проповедников. Но ее своеобразие и странность наиболее отчетливо прослеживаются в повседневной работе тех, кто ее практиковал. Ее можно в буквальном смысле видеть в важнейшей практике научного производства образов. Изготовление изображений не единственная практика, состоявшая на службе у объективности: целый арсенал других техник, включающий статистический вывод, двойное контрольное клиническое испытание, самопишущие приборы, был задействован, чтобы удержать субъективность на расстоянии[70]. Но ни одна из этих техник не является такой давней и повсеместной, как создание образов. Мы решили рассказать историю научной объективности, взглянув на нее через призму изображений, взятых из долгой традиции изготовления научных атласов, этих первосортных коллекций образов, определяющих наиболее важные исследовательские объекты той или иной дисциплины.
Взгляните на эти три изображения из научных атласов: первое из них позаимствовано из атласа флоры XVIII века, второе – из каталога снежинок конца XIX века, третье – из собрания магнитограмм Солнца середины ХХ века (ил. 1.1–1.3). С первого взгляда становится понятным, что эти образы были изготовлены по-разному: гравировка на медной доске, микрофотографирование и использование инструмента выделения контура. Опытный взгляд, современный каждому из этих образов, вносил в них систематический смысл. Эти три изображения составляют синопсис нашей истории. Они схватывают больше, чем просто цветок, снежинку и магнитное поле. Каждый из них кодирует технологию научного видения, предполагающую автора, иллюстратора, производство и читателя.
Каждое из этих изображений – продукт определенного кода эпистемической добродетели. Мы будем называть подобные коды (смысл которых еще только предстоит прояснить) «истина-по-природе», «механическая объективность» и «тренированное суждение». Как свидетельствует датировка образов, мы имеем дело с исторической серией, и одним из основных тезисов этой книги станет утверждение о том, что данная серия размечена вторжениями новизны. Наука истины-по-природе существовала прежде, чем возникла наука объективности; тренированное суждение в свою очередь было реакцией на объективность. Но то, о чем пойдет речь, представляет собой скорее историю инноваций и распространения, чем монархического наследования. Возникновение в середине XIX века объективности как эпистемической добродетели не упразднило истину-по-природе, как и поворот к тренированному суждению не означал устранение объективности. Вместо аналогии последовательной смены политических режимов или научных теорий, празднующих свой триумф на развалинах своих предшественниц, представьте появление новых звезд, которые не занимают место старых, но изменяют саму географию неба.
Ил. 1.1. Истина-по-природе. Колокольчик. Campanula foliis hastatis dentatis, Carolus Linnaeus, Hortus Cliffortianus (Amsterdam: n. p., 1737), table 8, SUB Göttingen, 2 BOT III, 3910 a RARA (выражаем благодарность Государственной университетской библиотеке Геттингена). Рисунок выполнен Георгом Дионисием Эретом, гравюра – Яном Ванделааром. Изображение основано на тщательном наблюдении, проведенном и натуралистом, и художником. Эта иллюстрация для научного труда, ставшего вехой в истории ботаники (и до сих пор используемого таксономистами). Она стремится изобразить скорее лежащий в основании растительного вида тип, чем его индивидуальный экземпляр. Это образ характерного, существенного, универсального и типического: истина-по-природе.
Ил. 1.2. Механическая объективность. Снежинка. Gustav Hermann, with microphotographs by Richard Neuhauss, Sneekrystalle: Beobachtung und Studien (Berlin: Müchenberger, 1893), table 6, № 10. Отдельная снежинка представлена во всех своих особенностях и асимметриях. Это попытка отобразить природу путем минимального, насколько это возможно, вмешательства человека: механическая объективность.
Ил. 1.3. Тренированное суждение. Вращение Солнца 1417, август – сентябрь 1959 г. (фрагмент). Robert Howard, Vaclav Bumba, and Sara F. Smith, Atlas of Solar Magnetic Fields, August 1959 – June 1966 (Washington, DC: Carnegie Institute, 1967) (выражаем благодарность обсерватории Института Карнеги в Вашингтоне, округ Колумбия). Этот образ магнитного поля Солнца совмещает результаты работы сложного оборудования с «субъективным» сглаживанием данных. Авторы полагали, что подобное вмешательство необходимо для устранения артефактов: тренированное суждение.
Эта серия подчинена глубокому историческому ритму. В определенном строгом смысле каждая последующая стадия предполагает предыдущую и строится на ее основе, одновременно являясь реакцией на нее. Истина-по-природе являлась предварительным условием для механической объективности, а механическая объективность – условием для тренированного суждения. По мере расширения репертуара эпистемических добродетелей каждая из них переопределяла остальные. Но здесь нет четкой гегелевской арифметики: тезис плюс антитезис равно синтез. Ситуация гораздо более хаотична: каждый элемент продолжает оставаться в игре и взаимодействовать с другими элементами. Ученые конца ХХ века могли и порой действительно стремились к истине-по-природе при создании научных образов, но они не возвращались при этом (да и не могли бы этого сделать) к идеалам и практикам своих предшественников из XVIII века. Значение истины-по-природе было пересмотрено в свете существующих альтернатив, которые порой воспринимались весьма конкурентно. Суждение, например, понималось по-разному до и после объективности: то, что когда-то было актом практического разума, стало вторжением субъективности – оборонительным или вызывающе дерзким.
В отличие от статичных таблиц парадигм и эпистем это история динамических полей, в которых появление новых тел изменяет конфигурацию и форму уже присутствующих, и наоборот. Реактивная логика этой последовательности продуктивна. Вы можете по желанию начать играть на клавикорде XVIII века в любой момент после его возрождения около 1900 года, но после двухсотлетнего господства фортепьяно вы не сможете услышать его так, как он воспринимался в 1700 году. Последовательность превращает историю в основу настоящего, но не просто в виде минувших процессов, достигших к настоящему времени неподвижного состояния (каким образом вещи оказались такими, какие они есть), а как источник напряжения, который поддерживает настоящее в состоянии движения.
Эта книга описывает, как три указанные эпистемические добродетели (истина-по-природе, объективность и тренированное суждение) влияли на изготовление образов в научных атласах с начала XVIII по середину ХХ века в Европе и Северной Америке. Область действия этих добродетелей простирается далеко за пределы образов, а сами атласы отнюдь не исчерпывают сферу научных изображений[71]. Мы ограничили наше рассмотрение образами из научных атласов по следующим причинам: во-первых, мы хотим показать, как эпистемические добродетели пронизывают научные практики и становятся для них предписаниями; во-вторых, потому, что научные атласы занимали центральное положение в научной практике различных дисциплин в разные периоды; и, наконец, в-третьих, потому, что научные атласы устанавливали стандарты восприятия и изображения феноменов. Изображения в научных атласах – это образы в действии, и так было на протяжении столетий во всех визуальных науках – от анатомии до физики, от метеорологии до эмбриологии.
70
О статистическом выводе: Gerd Gigerenzer, The Empire of Chance: How Probability Changed Science and Everyday Life (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), p. 70–122. О клинических испытаниях: Anne Harrington (ed.), The Placebo Effect: An Interdisciplinary Exploration (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997); Harry M. Marks, The Progress of Experiment: Science and Therapeutic Reform in United States, 1900–1990 (Cambridge: Cambridge University Press, 1997). О самопишущих приборах: Lorraine Daston and Peter Galison, «The Image of Objectivity», Representations 40 (1992), p. 81–128; Soraya de Chadarevian, «Graphical Method and Discipline: Self-Recording Instruments in Nineteenth-Century Physiology», Studies in The History and Philosophy of Science 24 (1993), p. 267–291; Robert Brain «Standards and Semiotics», Timothy Lenoir (ed.), Inscribing Science: Texts and Materiality of Communication (Stanford: Stanford University Press, 1998), p. 249–284.
71
Литература о роли визуального в науке чрезвычайно обширна. Особенно полезны следующие работы: Martin Rudwick, «The Emergence of a Visual Language for Geological Science, 1760–1840», History of Science 14 (1976), p. 149–195; Bruno Latour, «Visualization and Cognition: Thinking with Eyes and Hands», Knowledge and Society 6, (1986), p. 1–40 (русский перевод: Латур Б. Визуализация и познание // Логос. 2017. № 2 (27). С. 101–162. – Примеч. пер.); John Law and Michael Lynch, «Lists, Field Guides, and the Descriptive Organization of Seeing: Birdwatching as Exemplary Observational Activity», in Michael Lynch and Steve Woolgar (eds.), Representation in Scientific Practice (Cambridge, MA: MIT Press, 1990), p. 267–299; Michael Lynch, «Science in the Age of Mechanical Reproduction: Moral and Epistemic Relations between Diagrams and Photographs», Biology and Philosophy 6 (1991), p. 205–226; Gordon Fyfe and John Law (eds.), Picturing Power: Visual Depiction and Social Relations (London and New York: Routledge, 1988); Jonathan Crary, Techniques of Observer: On Vision and Modernity in the Nineteenth Centuty (Cambridge, MA: MIT Press, 1990) (Крэри Д. Техники наблюдателя / Пер. с англ. Д. Потемкина. М.: V-A-C press, 2014); Ann Shelby Blum, Picturing Nature: American Nineteenth-Centuty Zoological Illustration (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993); Jennifer Tucker, «Photography as Witness, Detective, and Impostor: Visual Representation in Victorian Science», in Bernard Lightman (ed.), Victorian Science in Context (Chicago: Chicago University Press, 1997), p. 378–408; Peter Galison, Image and Logic: Material Culture in Microphysics (Chicago: Chicago University Press, 1997); Nicolas Rasmussen, Picture Control: The Electron Microscope and the Transformation of Biology in America, 1940–1960 (Stanford, CA: Stanford University Press, 1997); Caroline A. Jones and Peter Galison (eds.), Picturing Science, Producing Act (New York: Routledge, 1998); Alex Soojung-Kim Pang, «Visual Representation and Post-constructivist History of Science», Historical Studies in the Physical and Biological Sciences 28 (1997), p. 139–171; Klaus Hentschel, Mapping the Spectrum: Techniques of Visual Representation in Research and Teaching (Oxford: Oxford University Press, 2002); Soraya de Chadarevian and Nick Hopwood (eds.), Models: The Third Dimension of Science (Stanford, CA: Stanford University Press, 2004); Jennifer Tucker, Nature Exposed: Photography as Eyewitness in Victorian Science (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2004). По вопросу тренировки научного взгляда до сих пор классической остается работа: Ludwik Fleck, Entstehung und Entwicklung einer wissenshaftlichen Tatsache: Einfürung in die Lehre von Denksitl und Denkkollektiv (Basel: Benno Schwabe, 1935) (русский перевод: Флек Л. Возникновение и развитие научного факта: введение в теорию стиля мышления и мыслительного коллектива. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999. – Примеч. пер.). См. также: Ilana Löwy (trans. and ed.), The Polish School of Philosophy of Medicine: From Tytus Chalubinski (1820–1889) to Ludwik Fleck (1896–1961) (Dordrecht: Boston, 1990).