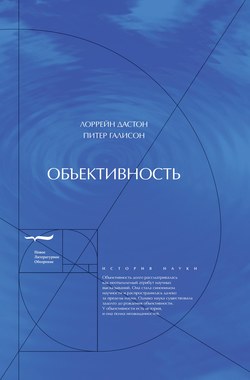Читать книгу Объективность - Лоррейн Дастон - Страница 14
Глава 1
Эпистемологии взгляда
Новизна объективности
ОглавлениеНаучная объективность имеет на удивление короткую историю. Она впервые возникает в середине XIX века и в течение нескольких десятилетий не только становится научной нормой, но и утверждается во множестве научных практик, включая изготовление изображений для научных атласов. Каковым бы ни было господство объективности в науках начиная приблизительно с 1860 года, она никогда полностью не подчиняла (и до сих пор не подчиняет) себе все эпистемологическое поле. До объективности существовала истина-по-природе, после нее появилось тренированное суждение. Новое не всегда вытесняет старое. Некоторые дисциплины были быстро завоеваны новейшей эпистемической добродетелью, другие же сохраняли верность старым добродетелям. Отношения между эпистемическими добродетелями могут быть отношениями сдержанной совместимости, но могут приобретать характер соперничества и конфликта. В одних случаях можно следовать нескольким добродетелям одновременно, в других ученые вынуждены осуществлять выбор между истиной и объективностью или между объективностью и суждением. В этой связи возникают определенные противоречия.
Эта ситуация хорошо знакома нам по моральным добродетелям. Различные добродетели – например, справедливость и милосердие – признаются таковыми в разные исторические периоды. Требования справедливости и милосердия могут с большой долей вероятности вступать в конфликт в культурах, которые признают их обе. Для Шейлока из «Венецианского купца» слово, данное человеком, налагает на него обязательство; Порция же считает, что милосердие не ведает принуждения. Исторически развивающиеся коды добродетели (будь то моральной или эпистемической) не связаны друг с другом жестко, но при этом не обладают и строгой внутренней согласованностью. Эпистемические добродетели имеют отличительные особенности в качестве идеалов и, что особенно важно для нашей аргументации, в качестве специфических в историческом смысле способов изучения и изображения природы. Будучи идеалами, они могут более или менее мирно сосуществовать. Но на уровне выбора отдельных рутинных операций – какой инструмент использовать, ретушировать ли фотографию, игнорировать ли точку контура, как обучать молодых ученых наблюдению – могут возникать конфликты. Не всегда получается служить одновременно и истине, и объективности, точно так же как в некоторых случаях бывает сложно примирить справедливость и милосердие.
Скептики встретят нас валом возражений. Не является ли утверждение, что объективность явилась нововведением XIX века, равносильным утверждению, что тогда же родилась и сама наука? Как насчет Архимеда, Андреаса Везалия, Галилея, Исаака Ньютона и множества других светил, которые работали в более ранние эпохи? Как наука, достойная называться этим именем, может существовать без объективности? И как могут быть разделены, а тем более противопоставлены истина и объективность?
Все эти возражения проистекают из отождествления объективности с наукой tout court. Принимая во внимание господствующую позицию, которую объективность заняла в современных руководствах по эпистемическим добродетелям, подобное отождествление, вероятно, выглядит вполне убедительно. Но оно неточно ни исторически, ни концептуально. С исторической точки зрения это отождествление игнорирует свидетельства употребления и использования: когда именно ученые начали говорить об объективности и каким образом ввели ее в свою работу? Концептуально оно строится на основе синекдохи, когда тот или иной аспект объективности замещает собой целое на основе ad hoc принимаемого решения. В качестве критерия объективности могут выступать эмоциональная отстраненность, автоматические процедуры регистрации данных, обращение к квантификации, вера в независимую от человеческих наблюдателей фундаментальную реальность. Действуя подобным образом, не составит труда составить длинный список предшественников объективности, правда ни один из них не оперировал понятием объективности во всей его полноте, не говоря уже о соответствующих практиках. Целью нетеологической истории научной объективности должна быть демонстрация того, как все указанные элементы оказались соединены вместе (например, отнюдь не очевидно, почему эмоциональная отстраненность должна быть объединена с автоматической регистрацией данных), обозначены одним словом и преобразованы в специфические научные техники. Более того, отдельные случаи не представляют для нас большего интереса. Мы хотим знать, когда объективность стала вездесущей и неоспоримой.
Свидетельством новизны научной объективности в XIX веке является уже само это слово. Слово «объективность» имеет причудливую историю. В европейских языках однокоренные ему слова происходят от латинских наречной и прилагательной форм obiectivus/obiective, введенных в XIV веке схоластическими философами Дунсом Скоттом и Уильямом Оккамом. (Субстантивированная форма возникает намного позднее, к началу XIX века.) С самого начала obiectivus/obiective сопоставлялась с subiectivus/subiective, но изначально эти термины обозначали почти в точности обратное тому, что они обозначают сегодня. Слово «объективный» указывало на вещи как они представлены сознанию, а слово «субъективный» – на вещи, существующие сами по себе[75]. До сих пор можно обнаружить следы этого схоластического словоупотребления в тех пассажах «Размышлений о первой философии» (Mediationes de prima philosophia, 1641), где Рене Декарт противопоставляет «формальную реальность» наших идей (то есть соответствуют ли они чему-нибудь во внешнем мире) их «объективной реальности» (то есть степени реальности, которой они обладают в силу их ясности и отчетливости вне зависимости от того, существуют ли они в материальной форме)[76]. Даже словари XVIII века еще содержат отголоски этого средневекового словоупотребления, звучащие столь странно для современных ушей: «Поэтому о вещи говорят, что она существует ОБЪЕКТИВНО, когда она существует не иначе, как будучи познанной или как Объект Ума»[77].
В течение XVII–XVIII веков слова «объективный» и «субъективный» выходят из употребления. Изредка как о технических терминах о них вспоминают метафизики и логики[78]. Именно Иммануил Кант сдул пыль со старой схоластической терминологии «субъективного» и «объективного» и вдохнул в нее вторую жизнь и новые значения. Но кантовские значения были дедушкой и бабушкой (а не близнецами) привычных для нас значений этих слов. Кантовская «объективная действительность» (objektive Gültigkeit) отсылала не к объектам внешнего мира (Gegenstände), а к «формам чувственности» (время, пространство, причинность[79]), являющимся условиями опыта. И его привычку использовать слово «субъективный» как приблизительный синоним для «только эмпирические ощущения» объединяет с более поздним употреблением этого слова только презрительный тон, с которым его произносят. В целом для Канта граница между объективным и субъективным соответствует границе между универсальным и партикулярным, а не между миром и сознанием.
Однако имела место еще и рецепция кантовской философии, зачастую преломленная через призму других традиций. Именно эта рецепция способствовала обновлению терминологии объективного и субъективного в начале XIX века. В Германии философы-идеалисты Иоганн Готлиб Фихте и Фридрих Шеллинг изменяют кантовские различения, исходя из собственных целей; в Британии поэт Сэмюэл Тейлор Кольридж, у которого был слабый немецкий, но большие амбиции, представил землякам новую философию как возобновление философии Фрэнсиса Бэкона; во Франции Виктор Кузен прививает Канта Декарту[80]. Посткантовское использование терминологии было настолько новым, что некоторые читатели поначалу посчитали его просто ошибкой. Кольридж на своем экземпляре «Принципов философской естественной науки» Генриха Штеффена (Grundzuge der philosophischen Naturwissenshaft) написал следующее: «Штеффен без нужды запутал свои рассуждения странным использованием слов „Субъективный“ и „Объективный“. Его Субъективность равняется Объективности прежних философов, а его Объективность – их Субъективности»[81]. Но уже к 1817 году сам Кольридж делает эту варварскую терминологию своей, интерпретируя ее способом, который впоследствии станет обычным: «Совокупность всего, что является просто ОБЪЕКТИВНЫМ, мы впредь будем называть ПРИРОДОЙ, ограничивая этот термин его пассивным и материальным смыслом, т. е. включающим все феномены, посредством которых ее существование становится нам известным. С другой стороны, совокупность всего, что является СУБЪЕКТИВНЫМ, мы можем охватить словом „Я“ или „ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ“. Оба понятия с необходимостью противопоставлены друг другу»[82].
С 1820–1830‐х годов словарные статьи (сначала в Германии, затем во Франции и, наконец, в Англии) начинают определять слова «объективность» и «субъективность» почти знакомым нам образом, зачастую с указанием на философию Канта. Например, в 1820 году немецкий словарь определяет объективное как «отношение к внешнему объекту», а субъективное как «личное, внутреннее, присущее нам самим в противоположность объективному». Но еще в 1863 году французский словарь характеризует подобные определения как «новое значение» (диаметрально противоположное старому, схоластическому) слова objectif и приписывает качество новизны «философии Канта». Когда в 1856 году английский писатель Томас де Квинси публикует второе издание своей «Исповеди англичанина, употреблявшего опиум», он мог написать об «объективности» следующее: «Это слово, почти непонятное в 1821 году [дата первого издания], в высшей степени схоластическое и, как следствие, столь явно педантичное, но, с другой стороны, чрезвычайно важное для точного и широкого мышления, стало с тех пор настолько общеупотребительным, что едва ли нуждается в каком-либо оправдании»[83]. Около 1850 года «объективность» в своем современном значении утвердилась в основных европейских языках вместе со своей наследственной противоположностью – «субъективностью». Оба слова поменяли свои значения на 180 градусов.
Возможно, скептики примут во внимание любопытную историю слова «объективность», но не будут ею слишком впечатлены. Этимология полна странностей, признают они, но новизна слова не означает новизну вещи. Задолго до существования словаря, определившего различие, которое к 1850 году стало известно как различие между объективным и субъективным, разве оно, по сути, не признавалось и не фиксировалось? Скептики могут указать на анналы эпистемологии XVII века, на Бэкона и Декарта[84]. Чем, в конце концов, являлось проводимое Декартом и другими различение между первичными и вторичными качествами, если не ранним случаем оппозиции объективное/субъективное. Как насчет идолов пещеры, рода, рынка и театра, которые Бэкон определяет и критикует в «Новом органоне» (Novum organum, 1620): не образуют ли они подлинный реестр субъективности в науке?
Эти и подобные им возражения основываются на допущении, что история объективности и история эпистемологии совпадают. Но наше утверждение состоит в том, что история объективности является подмножеством (хотя и чрезвычайно важным) более продолжительной и более широкой истории эпистемологии – философского исследования препятствий на пути к знанию. Не любая философская диагностика ошибок является упражнением в объективности, потому что не все они проистекают из субъективности. Существуют другие ведущие к заблуждению пути в естественной философии XVII века, так же как имеются другие способы потерпеть неудачу в науке XX – начала XXI века.
Возьмем случай различия первичных и вторичных качеств, как оно вводится Декартом в «Первоначалах философии» (Principia Philosophiae, 1644). Декарт отдает преимущество величине, фигуре, длительности и другим первичным качествам перед вторичными качествами, такими как запах, цвет, боль, вкус. Первичные качества – это идеи, которые умом воспринимаются более ясно и отчетливо, чем вторичные. Тем самым, декартовское различение проводится между ментальными сущностями, т. е. в области, которую авторы XIX века могли бы назвать (и назвали) «субъективной»[85]. Или обратимся к идолам Бэкона: только одна из четырех категорий (идолы пещеры) характеризует индивидуальную душу и поэтому может претендовать на субъективный статус в современном смысле (остальные категории идолов указывают на ошибки, присущие человеческому роду, языку и теориям). Бэконовское средство против идолов пещеры не имеет ничего общего с подавлением субъективной самости. Скорее, оно обеспечивало баланс между склонностями к противоположным крайностям: классификаторы-объединители и классификаторы-разделители, традиционалисты и инноваторы, аналитики и синтезаторы[86]. Его эпистемологический совет – сделать все возможное для противодействия односторонним склонностям и пристрастиям – отдается эхом в моральном наставлении, данном в «Опытах»: «Может пригодиться и старое правило: гнуть природу в противоположную сторону, чтобы тем самым выпрямить; но это лишь тогда, разумеется, когда противоположная крайность не будет пороком»[87].
Важно здесь то, что контекст, в котором существовала эпистемология XVII века, существенно отличается от того, в котором ученые XIX века стремились к объективности. Существует история того, что можно было бы назвать «нозологией» или «этиологией» ошибки, от которой зависят диагноз и терапия. Субъективность не относится к тому же типу эпистемологических недугов, что и дряхлость чувств или же давление власти (чего боялись ранние философы), и она требует специальной терапии. Какой бы причудливой ни была пятисотлетняя история терминов «объективный» и «субъективный», они всегда образуют пару: нет объективности без подлежащей сдерживанию субъективности, и наоборот. Если субъективность в ее посткантовском смысле обладает исторической спецификой, то же самое относится и к объективности. Словарь ментальной жизни докантовской философии чрезвычайно богат. Но он сильно отличается от словаря XIX–XX веков. «Душа» (soul), «ум» (mind), «дух» (spirit), «способности» (faculties) – это только первичная констатация разнообразия в английском языке, требующая дальнейшего рассмотрения нюансов и даже категорий, присутствующих и в других народных языках и латыни.
Как и приведенные выше концепты, посткантовская субъективность – особая категория. Она предполагает индивидуализированную, единую самость, организованную вокруг воли. Это сущность, которая не является тождественной ни рациональной душе философов XVII века, ни ассоцианистскому уму их последователей века XVIII. Те, кто использовал посткантовские понятия объективности и субъективности, открыл новую разновидность эпистемологического заболевания и соответствующее ему лечение. Прописывать это посткантовское лечение (объективность) бэконианскому недугу (идолам пещеры) – это все равно что лечить растяжение лодыжки антибиотиками.
Хотя это и не является темой нашей книги, мы признаем, что наше утверждение новизны объективности для XIX века имеет следствия и для истории эпистемологии, и для истории науки. Оно никоим образом не отрицает оригинальность эпистемологов XVII века, Бэкона и Декарта. Наоборот, оно усиливает их оригинальность скорее прочтением в их собственных терминах, чем молчаливым переводом (с неизбежными искажениями) их странных тревог в привычные для нас заботы. Эпистемология может быть переопределена так же, как этика в современной философии: как хранилище разнообразных добродетелей и видений блага. Не все они одновременно имеют прочные позиции, или, по крайней мере, не всем им одновременно придается важное значение. Каждая добродетель и каждое видение блага изначально являются продуктом определенных исторических условий, даже если их моральные притязания пережили породивший их контекст[88].
Исходя из этой аналогии, мы выделяем отдельные эпистемические добродетели – не только истину и объективность, но и достоверность, точность, воспроизводимость, – каждая из которых имеет собственную историческую траекторию и характеризуется особыми научными практиками. Историки философии показали, что придание важнейшего значения достоверности может происходить за счет принижения значения истины, а историки науки продемонстрировали, что точность и воспроизводимость могут двигаться в противоположных направлениях[89]. Раз объективность мыслится как одна из нескольких эпистемических добродетелей, различных как по своему происхождению, так и по своим последствиям, становится проще представить, что она может иметь свою собственную историю, которая образует только часть истории эпистемологии как таковой. Мы вернемся к идее эпистемической добродетели ниже, когда будет рассматривать вопрос об этическом измерении научной объективности.
Но скептики не успокаиваются. Даже если объективность, могут они возразить, не сопротяженна эпистемологии во времени и пространстве, разве не является она необходимым условием любой науки, достойной носить это имя? Почему математическую натуральную философию Ньютона или скрупулезные микроскопические исследования Антони Ван Левенгука не рассматривать в качестве одной из глав истории объективности? Скептики будут настаивать, что объективность трансисторична, что она пользовалась уважением во все времена и что история объективности не более чем история самой науки.
75
Вот что, например, пишет Оккам против существования универсалий: «Универсалия не есть что-то существующее, обладающее предметным бытием (esse subjectivum) ни в душе, ни вне ее, но существующее в ней (душе) только как представление (esse objectivum). Она есть нечто мыслимое, имеющее такое же [существование] в представлении, какое внешняя вещь имеет в предметном бытии» (перевод с латыни А. Богомолова. – Примеч. пер.) Commentary on Sentences, цитируется в Oxford English Dictionary, compact ed. (New York: Oxford University Press, 1971), s. v. «Objective».
76
Rene Descartes, Meditationes de prima philosophia [1641], Œuvres de Descartes, ed. Charles Adam and Paul Tannery (Paris: Cherf, 1910), vol. 7, p. 42 (см. русский перевод: Декарт Р. Размышления о первой философии, в коих доказывается существование Бога и различие между человеческой душой и телом // Декарт Р. Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1994. Т. 2. С. 35. – Примеч. пер.). О средневековых истоках философии Декарта см.: Calvin Normore, «Meaning and Objective Being: Descartes and His Sources», in Amelie Oksenberg Rorty (ed.), Essays Descartes’ Meditationes (Berkley: California University Press, 1986), p. 223–241.
77
Ephraim Chambers, «Objective/objectivus», Cyclopaedia, or, An Universal Dictionary of Arts and Sciences (London: J. and J. Knapton, 1728), vol. 2, p. 649.
78
Если судить по словарным статьям, в Англии, Германии и Франции с конца XVII века наиболее общим употреблением «объективный» и однокоренных ему слов было описание микроскопных линз. Начиная с 1755 г. «Словарь английского языка» Сэмюэла Джонсона в качестве одного из значений слова «объективный» дает следующее: «принадлежащий объекту, содержащийся в объекте». Это определение будет дословно (включая иллюстрирующую цитату из «Логики» Исаака Уатта) воспроизводиться и в XIX в. См., например: John Ogilvie, The Imperial Dictionary (Glasgow: Blackie and Son, 1850), s. v. «Objective». Для оценки параллельного изменения значения можно упомянуть различение между объективными (метафизическими) и субъективными (логическими) истинами, вводимое Христианом Августом Крузиусом в: Die philosophischen Hauptwerke, vol. 3, Weg zur Gewißheit und Zuverlässigkeit, ed. G. Toneli (1747; Hildesheim: Olms, 1965), p. 95. Более общую характеристику докантовских значений в философских текстах см. в: Michael Karskens, «The Development of the Opposition Subjective Versus Objective in the 18th Century», Arhiv für Begriffsgeschichte 36 (1993), p. 214–256. См. также: S. K. Knebel, «Wahrheit, objective» in Joachim Ritter and Karlfried Gründer (eds.), Historishes Wörterbuch der Philosphie (Basel: Schwabe, 2004), vol. 12, cols. 154–163.
79
Так у Дастон и Галисона. Строго говоря, согласно Канту, к формам чувственности относятся только время и пространство. – Примеч. пер.
80
Rene Wellek, Immanuel Kant in England 1793–1838 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1931); Joachim Kopper, «La signification de Kant pour philosophie française», Archives de philosophie 44 (1981), p. 63–83; Frederick C. Beiser, The Fate of Reason: German Philosophy from Kant to Fichte (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987); François Azouvi and Dommique Borel (eds.), De Königsberg à Paris: La réception de Kant in France (1788–1804) (Paris: Vrin, 1991); Rolf-Peter Horstmann, Die Grenzen der Vernunft: Eine Untersuchung zu Zielen und Motiven des deutschen Idealismus (Frankfurt am Main: Hain, 1991); Sally Sedwick (ed.), The Reception of Kant’s Critical Philosophy: Fichte, Shelling, and Hegel (Cambridge: Cambridge University Press, 2000). О научной рецепции терминов «объективный» и «субъективный» см. главу 4.
81
Samuel Taylor Coleridge, Biographia Literaria, or, Biographical Sketches of My Literary Life and Opinions, ed. James Engell and W. Jackson Bate (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1983), note 3, vol. 1, p. 172–173; Peter Galison, «Objectivity is Romantic», American Council of Learned Societies Occasional Papers 47 (1999).
82
Samuel Taylor Coleridge, Biographia Literaria, or, Biographical Sketches of My Literary Life and Opinions, ed. James Engell and W. Jackson Bate (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1983), vol. 1, p. 254–255.
83
Thomas De Quincey, The Confession of an English Opium Eater [1821], The Works of Thomas De Quincey, 2nd ed. (Edinburgh: Adam and Charles Black, 1863), vol. 1, p. 265. По иронии словоупотребление самого де Квинси возвращается к схоластическим значениям: «Эти образы [воды] меня преследовали настолько сильно, что я боялся, как бы состояние мозговой водянки или некоторая склонность к ней не обратились в нечто (пользуясь метафизическим словом) объективное, а чувствующий орган не стал проецировать себя в качестве собственного объекта» (ср. с русским переводом [сделанным по первому изданию], в котором оказались утеряны важные для Дастон и Галисона смысловые оттенки: «Эти образы меня преследовали, и я начинал бояться [хотя медикам, возможно, это покажется смешным], что в них объективируются симптомы водянки или начало водянки и что орган восприятия отражает самое себя». Цит. по: Квинси Томас де. Исповедь англичанина, употреблявшего опиум. М.: Научно-издательский центр «Ладомир»; Наука, 2000. С. 240. – Примеч. пер.
84
Историки философии регулярно используют словарь объективного и субъективного для анализа работ Бэкона и Декарта. См., например: Bernard Williams, Descarte: The Project of Pure Enquiry (Hassocks, England: Harvest Press, 1978) и Peres Zagorin, Francis Bacon (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1988).
85
Rene Descartes, Principia Philosophiae [1644], 1.68–69, Œuvres de Descartes, ed. Charles Adam and Paul Tannery (Paris: Vrin, 1982), vol. 8, pt. 1, p. 33–34; cf. vol. 9, pt. 2, p. 56–57 (русский перевод: Декарт Р. Первоначала философии // Декарт Р. Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1989. Т. 1. – Примеч. пер.).
86
Francis Bacon, Novum organum [1620], The Works of Francis Bacon, ed. Basil Montagu (London: Pickering, 1825–34), 1.liii-lviii, vol. 9, p. 204–206 (русский перевод: Бэкон Ф. Вторая часть сочинения, называемая Новый Органон, или истинные указания для истолкования природы // Бэкон Ф. Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1978. Т. 2. – Примеч. пер.).
87
Francis Bacon, «Of Nature in Men» [1612], The Works of Francis Bacon, ed. Basil Montagu (London: Pickering, 1825–1834), vol. 1, p. 132 (цит. по: Бэкон Ф. Опыты, или наставления нравственные и политические // Там же. С. 438. – Примеч. пер.).
88
Martha C. Nussbaum, The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press, 1986); Isaiah Berlin, The Crooked Timber of Humanity: Chapters in the History of Ideas, ed. Henry Hardy (London: John Murray, 1990); Bernard Williams, Shame and Necessity (Berkley: California University Press, 1993); J. B. Schneewind, The Invention of Autonomy: A History of Modern Moral Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press, 1998); Stuart Hampshire, Justice is Conflict (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000). Другие примеры эпистемических историй, которые работают скорее как модели хранилища, чем разрыва, см. в: Jan Hacking, «„Style“ for Historians and Philosophers», Studies in History and Philosophy of Science 23 (1992), p. 1–20; John V. Pickstone, Ways of Knowing: A new History of Science, Technology and Medicine (Chicago: University of Chicago Press, 2001).
89
Что касается историков философии, см.: Bernard Williams, Descartes: The Project of Pure Enquiry (Hassocks, England: Harvest Press, 1978); Nancy Cartwright, How The Laws of Physics Lie (Oxford: Clarendon, 1983). Относительно историков науки см.: Peter Galison, How Experiments End (Chicago: University of Chicago Press, 1987); M. Norton Wise (ed.), The Values of Precision (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995).