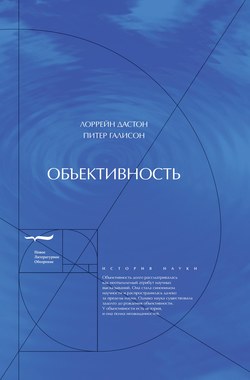Читать книгу Объективность - Лоррейн Дастон - Страница 7
Объективность и ее история
Тарас Вархотов, Станислав Гавриленко, Константин Иванов, Александр Писарев
«Объективность» и ее метод
Оглавление«Эпистемические добродетели» представляют собой, одновременно, регулятивный идеал, – в равной степени морального и эпистемологического толка – и материальную форму, которую историк может обнаружить в научных практиках. Здесь раскрывается одна из важнейших методологических установок Л. Дастон и П. Галисона: по мере возможности оперировать исключительно установками и объяснениями самого исследуемого поля, но доверять им настолько, насколько эти установки и объяснения находят воплощение в наблюдаемой практике. В результате исследуемый материал рассматривается как подвижная система дескрипций (примеров), являющихся, одновременно, прескрипциями, – практик, являющихся нормами, но нормами ровно в той мере, в какой они являются практиками. Все выделяемые авторами «Объективности» «эпистемические добродетели», как и входящие в них более локальные установки и требования, являются (и интересны именно в той степени, в какой они таковы) одновременно направляющим (regulative, guiding) и непосредственно существующим в практике, реально присутствующим (literal) идеалом, – каким, например, была машина для механической объективности.
Так понятые эпистемические добродетели открывают перед нами модель исторической эпистемологии без линейной периодизации и линейных причинно-следственных объяснений: авторы уходят, насколько это только возможно, от избыточной концептуализации и стремятся погрузить читателя в мир мутирующих исследовательских практик, двигаясь по следам которых мы можем пытаться – с неизбежными ограничениями – рационализировать, отчасти следуя в этом за самими носителями практик, отчасти пользуясь нашим собственным аналитическим аппаратом, а также понимать, что они делали, как они делали и почему они это делали.
«Что», «как» и «почему» переплетаются в практике настолько плотно, что распутывание этого сплетения неизбежно грешит произволом, тем самым «вмешательством воли», которому противостоит идеал смирения себя в эпистемической добродетели механической объективности. Поэтому Л. Дастон и П. Галисон не доводят эту работу до конца, стараясь дать на страницах книги максимум места самой научной жизни, практикам изготовления научных изображений – главного героя этой книги, наряду с раскрывающейся в них самостью ученого – и уходят от «окончательных» объяснений и концептуализации, оставляя, как и в реальной жизни, все границы нечеткими, а маркеры и индикаторы неспецифичными по отдельности: эпистемические добродетели никогда не воплощаются полностью; однажды появившись, они не сменяют друг друга, но остаются наряду с появившимися ранее, хотя и отличаются по степени социального влияния в разные периоды времени и т. д.
Такого рода нечеткости, являющиеся весьма последовательной практикой авторов «Объективности» и характерной чертой их метода, разумеется, могут вызывать досаду, если не раздражение у «позитивно» мыслящего читателя, для которого работа исследователя ассоциирована прежде всего с внесением ясности и порядка в предмет: классификациями, строгостью, непротиворечивостью и т. д. (хотя, например, самой Л. Дастон такой взгляд на работу историка представляется архаичным и «диким» (bizarre) – см. цитату выше в прим. 1 на с. 8). Однако, как бы мы ни относились к предложенной Л. Дастон и П. Галисоном методологической модели истории науки, нельзя сказать, что эта модель не обоснована авторами, а допускаемая ими неоднозначность является следствием недоработки авторов или слабости их метода.
Во-первых, нечеткость границ и маркеров диктуется самим предметом исследования, – ведь для авторов «Объективности» их материал является прежде всего исторической научной практикой, из которой мы, аналитически, можем извлекать отдельные компоненты (инструменты, этические идеалы, изображения, концепции научных объектов и т. д.), но при этом должны помнить, что любое такое извлечение не может служить заменой (равно как и выступать в качестве «сущности») исследуемых практик, представляющих собой актуальные (взятые в действии) связи между этими компонентами. Эта позиция довольно отчетливо заявлена Л. Дастон и П. Галисоном в ответе на критику оппонентов, – «научные атласы, скорее, дают примеры, а не просто предписания способа видеть»[42]; exemplify (снабжать примерами), а не prescribe (предписывать) в данном случае лаконично и просто выражает весьма сложный методологический постулат авторов «Объективности»: изображения – это не причины и не следствия (не инструкции и не выражения), а и то и другое сразу, это практики, и, как и любые практики, они воспроизводятся, производя действие и одновременно предлагая тем самым определенный образец действия. Практика описывается через тщательную реконструкцию примеров, которые приоткрывают («снабжают примерами») некоторую целостность, но лишь во всей полноте микроисторической реконструкции – «не все локально»[43], но нелокальное не обязано быть простым.
Во-вторых, как гласит вынесенная в качестве эпиграфа к данному предисловию цитата, отправной точкой для формирования эпистемологии является специфический страх. Этот «страх» относится не к психологии, это эффект столкновения определенным образом устроенного вида (человека) с миром, чем бы он ни был, и понимания того, что инструментарий человека в этом мире ограничен, а мир не приспособлен для его познания и жизни. «Эпистемология уходит корнями в этос, который одновременно является нормативным и аффективным или аффективным, потому что нормативным»[44]. Эмоции здесь суть следствие неизбежности, – эпистемология является ответом на неизбежный вызов (и поэтому ответ аффективен), и страх порождается этой неизбежностью, а форма ответа вплетается в «этос», в форму жизни, включающую все доступные нам средства и практики. Понятно, что изменения в форме жизни могут вызывать изменения в так понятой эпистемологии, которая, в свою очередь, способна преобразовывать этос. И поскольку практики (формы жизни) меняются медленно и редко отбрасываются полностью, различные эпистемологии сосуществуют рядом друг с другом, скорее накапливаясь и конкурируя, нежели сменяя друг друга и образуя цепь.
Наконец, в-третьих, невзирая на последовательный отказ от схематизаций и интерпретирующих стратегий, Л. Дастон и П. Галисон вовсе не отказываются от поиска своеобразных – пусть и не принимающих форму закона или четко зафиксированного явления – инвариантов, хотя и не переносят на них центр тяжести. По их собственному признанию, «…„Объективность“ не является кейсовым, биографическим или микроисторическим исследованием, по крайней мере не в любом привычном смысле этих слов… История объективности простерта сквозь страны, языки и столетия, – и, следовательно, ей не хватает сверхплотного внимания к исследованию конкретной лаборатории или больницы. Вместо этого она охватывает физику, метеорологию, биологию, химию, астрономию, математику и медицину; это отнюдь не ограниченное дисциплинарное кейсовое исследование… Она движется, преодолевая тупики, в поисках локального объяснения или, того хуже, причинно-следственного объяснения для того, что на самом деле является глобальным явлением»[45]. Микроисторические расследования, обилие тщательно и элегантно разобранных примеров, аллюзий и параллелей между самыми разными областями науки и других областей культуры, – собирают, по выражению авторов, «мезоскопическую, движущуюся по поверхности, этико-эпистемическую» историю науки, которая стремится быть «беспощадно историчной», «заставляющей нас переосмыслить многое из того, что мы принимали как должное по поводу истории науки и создания истории»[46].
Однако быть «беспощадно историчным» не значит сосредоточиться на микроистории и отказаться от вскрытия макрозакономерностей. Эпистемические добродетели и связанные с ними типы самости ученого, пусть и историчны, т. е. имеют свое начало и, возможно, завершение, – в этом качестве они локальны во времени, – но в рамках пространственных типов порядка они оказываются нелокальными и пересекают языковые, государственные и дисциплинарные границы. Согласно, возможно, несколько натянутой, но иллюстративной интерпретации одного из критиков «Объективности», ее авторы рассматривают объективность, являющуюся важнейшим элементом (научной) эпистемологии, не как «концепт», т. е. предельное понятие, представляющее собой объясняющий, но не имеющий объяснения императив Разума, а как «сеть убеждений» (web of beliefs), которая, будучи вплетена в другие «сети убеждений», встроенные в практики, меняется вместе с изменениями убеждений и практик, что происходит непрерывно ввиду того, что «убеждения», в отличие от «концептов», не являются априорными и, соотносясь с действительностью, обновляются, оказываясь локально «истинными» или «ложными»[47]. Соответственно, инварианты существуют, но существуют как историчные, а не априорные объекты, и любое правило, связанное с человеком, имеет «историю до» и «историю после», а любой инвариант культурного пространства локален в культурном времени.
42
Lorraine Daston, Peter Galison, «Objectivity and Its Critics», in Victorian Studies, Vol. 50, No. 4, p. 667, и пример того, как это работает, ниже по тексту цитируемой статьи.
43
Ibid., p. 675.
44
Ibid., p. 671. Курсив как в оригинале.
45
Ibid., p. 674–675.
46
Ibid., p. 677.
47
Stephen P. Turner, «Webs of Belief or Practices: the Problem of Understanding», in European Journal of Sociology / Archives Européennes de Sociologie, 2010, LI, 3, p. 406–410.