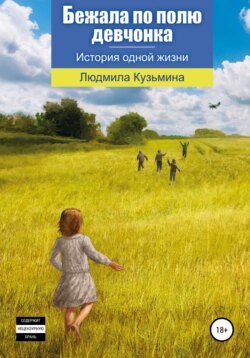Читать книгу Бежала по полю девчонка - Людмила Андреевна Кузьмина - Страница 16
Часть I. ВЕРХНИЕ КАРАСИ
Я пошла в школу
Оглавление1 сентября 1947 года я переступила порог школы как полноправная ученица, но уроки почему-то не запомнила. Наверное, я уже привыкла к школьным порядкам в предыдущий год, то и дело навещая подружку Зойку Конюхову во время переменок. Школа-то была рядом с нашим домом.
Мою первую учительницу звали Александра Тимофеевна, и была она женой директора нашей маленькой школы Павла Михайловича Рохмистрова, и оба они не походили на деревенских жителей. Были это, видимо, представители старой сельской интеллигенции, к ним относились все с большим уважением. Да и вообще учителей в деревнях уважали за их благородное дело. Половина деревенских дедушек и бабушек, в том числе и наша бабка, грамоту в царское время не освоили, в школе никогда не учились, а тут побегает ребятёнок в школу, глядишь – и грамотный становится, и книжки читает не хуже взрослого! А кто научил? Учитель!
Директора мы побаивались. Очень строгим казался, хотя я не помню, чтобы он проявлял эту строгость по отношению к нам. Он занимался своими директорскими делами, непосредственно не касаясь учебного процесса.
Александра Тимофеевна, напротив, была мягкой, доброй, не придирчивой. Но мы её слушались, на уроках сидели тихо. Бывало, какой-нибудь ученичок-малолеток от грубой деревенской пищи громко пукал во время урока. В классе обидный и злорадный смех. Мальчишке стыдно. Александра Тимофеевна не смеялась, говорила:
– Ну что тут смешного? Подумаешь, пукнул. Нюхай, друг, хлебный дух!
И продолжала вести урок как ни в чём ни бывало. И если кто-то действительно бедокурил, шумел и шалил, она тоже не кричала, не ругалась, а просто отсылала нарушителя дисциплины постоять за печку-«голландку». Многим это даже нравилось: за печкой тепло и уютно.
Учиться в школе мне понравилось. Для меня наступил новый этап жизни, появились постоянное дело и забота. Ну сколько можно носиться по селу, порой не зная, особенно холодной зимой, куда себя приткнуть?
Постаралась и моя мама выделить эту особую дату – 1 сентября. Она сшила мне школьное платье и белый фартучек, купила где-то в городе узкие розовые ленточки для кос. До этого я вплетала в косы, как многие девчонки, цветные тряпочки за неимением городских лент.
Ах, эта мама-мастерица! Каких усилий ей стоило, чтобы обшивать и одевать всю нашу семью! И когда только она научилась так ловко шить, вышивать, рукодельничать? Ведь с 14 лет работала. И всегда я вспоминаю мою маму, сидящей за шитьём, если она была не на работе. Наверное, она испытывала удовлетворение, приодев меня в обнову. Только я-то вот не ценила этих её усилий. Я вовсе не была кручёной-верчёной девчонкой, но, живя, можно сказать, на улице, трудно было соблюдать опрятность в одежде – где-то всё равно испачкаешься или порвёшь платье. И мама моя сердилась, могла влепить пощёчину или шлёпнуть по спине или по попе. А я росла очень обидчивой, копила обиду на маму. Ну за что она меня шлёпнула? Разве я виновата, что попался гвоздь, разорвавший мне подол платья? А грязь? Она везде есть. Других ребятишек на селе родители и ремнём стегали, и за уши драли, а им хоть бы что. Только почёсывались. Я – нет. Меня не так часто и наказывали, а я боялась наказаний. Не любила новой одежды, боясь, что непременно её порву или испачкаю.
Вот и тогда праздничное настроение от первого школьного дня было испорчено неприятностью. Возвращаясь из школы домой, перед самым нашим домом я споткнулась и упала в грязную лужу, испачкав мой чудесный белый фартучек. Жалко фартучек, и мама заругает! Я громко заревела и не решалась ступить во двор. Ох, попадёт ведь мне! Однако на сей раз я не была наказана. Мамы не было дома. А бабушка, выглянув в окно на улицу и узнав причину моего рёва, беззлобно крикнула:
– Ну иди домой! Счас застираем. Делов-то!
Вороша мою память, я сейчас удивляюсь тому, что на всю мою долгую жизнь сохранила в памяти такую ерунду, приключившуюся со мной. А первое сентября 1947 года и первый школьный урок не запомнила совсем.
Современные дети даже представить не могут, в каких условиях мы учились. Но в городах в то далёкое время хоть школы были похожи на школы.
Я расскажу про деревенскую школу.
Это была обычная бревенчатая изба, в которой, как говорили, раньше жила раскулаченная и высланная семья, с одной комнатой-классом и небольшими сенями. Вместо раздевалки в сенях гвозди, вбитые в стену, на которые мы вешали свои пальтишки.
На урок нас созывал звон колокольчика – такого, какой подвешивали на шею лошади, когда она паслась на лугу. Назывался колокольчик «бо´талом». Заканчивался урок по словам учительницы: «Урок окончен. Перемена». И не обязательно 45 минут урок длился. Часов у учительницы не было. Сделали определённые задания по предмету – идите, гуляйте. Я видела у моей мамы тетрадки, в которых она довольно подробно записывала конспект урока. Тема урока, кого спросить, новый материал и т. д. Ведь она тоже какое-то время работала учительницей младших классов.
Классная комната отапливалась печью-«голландкой». Я не помню, чтобы нам во время занятий было холодно. Значит, печку топили исправно. Да и то сказать, на Урале дрова не проблема, жили мы в лесном краю.
Школьные парты, сколоченные из толстых досок и выкрашенные чёрной краской, были тяжёлыми – с места не сдвинуть, но вполне удобными, с наклонной поверхностью для письма, с выдолбленной ямкой для чернильницы и желобками для ручек.
В качестве чернильницы служил обычный стеклянный пузырёк с самодельной пробкой, который можно было ненароком опрокинуть и испачкать тетрадку и себя чернилами. Но у кого-то были и так называемые чернильницы-непроливайки – тоже из стекла, при этом верх этого сосудика представлял конус, вдающийся внутрь чернильницы, что и препятствовало случайному проливу чернил. Естественно, конус имел круглое отверстие, через которое можно было обмакнуть перо.
Помнится, что чернил мы никогда не покупали. Они были приготовлены самой учительницей из фиолетового или синего красителя, растворённого в воде, и хранились у неё в шкафчике в обычной бутылке. Когда у кого-то из школьников заканчивались чернила, учительница сама наливала их по пузырькам и непроливашкам.
Кстати сказать, не всегда у нас были тетрадки – они были дефицитны в ту пору. Частенько учительница сшивала разрозненные листочки, оставшиеся не записанными в прежних чьих-то тетрадках. В некоторых случаях ей приходилось дополнительно разлиновывать тетради в линейку наклонными линиями в соответствии с правилами наклонного письма.
И к каждой тетрадке полагался листочек промокательной бумаги для подсушивания написанных букв. Написал страницу – прежде чем перевернуть лист, аккуратно промокни её, а то размажется вся твоя писанина.
Но вначале почти полгода мы писали простым карандашом. Затем, привыкнув держать пишущее устройство в руках, брали для письма деревянную ручку со стальным пёрышком. И тут надо было следить, чтобы при обмакивании пера в чернильницу, на нём не набиралось слишком много чернил (для этого надо было лишнюю жидкость стряхивать с пера обратно в чернильницу), а то при письме сорвётся досадная клякса прямо на тетрадный лист и испортит твою работу. Какое уж тогда «чистописание»!
При таком непростом процессе письма, пожалуй, самым зловредным и трудоёмким школьным предметом было именно «чистописание». Так и называлось. Никаких прописей не было. Учительница, самолично разлиновав наклонными линейками наши тетради и написав в качестве образца элементы букв – палочки, кружочки, крючочки, задавала нам в классе и на дом воспроизвести то же самое по две-три строчки. И это было так трудно! Карандаш не слушался в руках, грифель часто ломался. Освоив палочки, кружочки, крючочки, переходили к написанию букв – прописных и заглавных. Опять ух как трудно выписывать их! Не справился с заданием, криво написал, пиши ещё несколько строчек. Нудное занятие, что и говорить.
Не хватало на каждого и учебников. Я, например, не помню, чтобы у меня дома были собственные учебники. Их учительница выдавала по очереди: в один день одному ученику, в другой – следующему. Всю учебную работу выполняли обычно в классе, а на дом учительница в каждой тетрадке собственноручно записывала задания: прописи и примеры по арифметике.
Поскольку я читала уже бегло, букварь мне домой не давали. Писать я тоже научилась довольно сносно. Учительница отмечала мои тетрадки красной ленточкой. Это означало, что в моих тетрадках полный порядок – одни пятёрки.
На первых уроках арифметики требовалось такое простейшее учебное пособие, как счётные палочки. Их выстругивал дома кто-то из старших. А можно было самим просто наломать их из тонких прутьев, надёрганных из банного веника. Но хотелось, чтобы палочки были красивыми, одинаковыми. Моя мама сшила для них красивый мешочек с завязками. Вообще к школе я готовилась старательно, ничего не забывая, что велела сделать дома учительница.
С письменными заданиями по арифметике я справлялась успешно. Но помню, очень не любила устный счёт на уроках, особенно вычитание. Случалось, путалась в ответах. Что касается знания таблицы умножения во втором и третьем классах, то вызубривала её – аж от зубов отскакивало. Зубрилка я была с первых дней моей учёбы.
Очень я любила урок пения. И не важно, что´ надо было петь. Вот Александра Тимофеевна запевает народную песню: «В тёмном лесе, в тёмном лесе». И мы подхватываем: «За´ лесом, за´ лесом!» Я была довольно музыкальна, мелодии схватывала и запоминала на лету и одно время всем говорила, что, когда вырасту, буду артисткой.
Второй и третий классы я училась в другом «школьном здании». Это была такая же бревенчатая изба на другом краю площади. Классная комната, как и в первом школьном здании, была одна, поэтому учились школьники разных классов в первую-вторую смену.
Сменилась у меня и учительница, теперь учила Татьяна Ильинична Мохерева. Она была из Непряхино и в течение учебного года жила в тесной боковой комнатушке в этом же доме и вместе с нею жила её племянница Галя Расщектаева.
Мне всегда были интересны «новенькие». Ведь они приезжали из неведомых мне краёв, и, значит, от них можно было узнать о чём-то новом и интересном. Вот появилась из Вознесенки моя двоюродная сестра Галька, и я стала с нею дружить, забывая свою закадычную подружку с малых моих лет Зойку Конюхову. А теперь я подружилась с Галей Расщектаевой.
Сейчас я не вспомнила бы многие подробности этих моих ученических лет и тем более не вспомнила бы фамилии своих одноклассников, но передо мной лежит моя первая школьная фотография, довольно некачественная по нынешним понятиям, естественно чёрно-белая, сделанная каким-то заезжим фотографом. И я даже помню, как боялась, что мне вдруг не достанется фотография, и когда я её получила, то первым делом на обратной чистой стороне, вверху, своим детским, неопределившимся почерком написала: «Фотографировались в В-Карасях во втором классе 23 апреля 1949 года». Мы фотографировались весной, в конце учебного года, и значит, перешли все в третий класс, но я написала, что фотографировались во втором классе. Далее следовали пронумерованные 34 фамилии учащихся. Причём, чтобы не получились ряды фамилий вкривь и вкось, я старательно нанесла простым карандашом линейки. Надписи делала чернилами. И видно, что писала в два приёма: надпись вверху более яркая, наверное, в классе писала, а перечисление фамилий, заканчивающееся внизу фамилией учительницы Татьяны Ильиничны Мохеревой, сделано по линейкам дома. Оттенок чернил другой, и перо более тонкое.
Ну какая я молодец была! Все одноклассники и учительница теперь словно воскресли. Помню каждого, со всеми хорошими и плохими привычками и поступками.
Наверное, нас не предупредили о том, что будут фотографировать. Мы смотримся все одетыми кто в чём, очень по-деревенски, как привыкли бегать на улице и одеваться дома.
Я в блёклом платьице и сама тщедушная такая, волосы зачёсаны на прямой пробор, сзади, помнится, и коса была – увы, не такая толстая и длинная, как у моей подружки Зойки Конюховой. Бывая у неё дома, я однажды спросила, почему у неё такая длинная коса, может, она чем-то волосы мажет и они лучше растут, чем у меня? Зойкина мама засмеялась и сказала:
– Соплями мажет. Попробуй и ты свои волосы соплями смазывать!
И я ведь поверила! Дома доложила эту новость моей бабушке, и она смеялась. Всегда я отличалась какой-то внушаемостью и подражательностью. Помню в класс пришла медсестра и должна была всем ученикам сделать прививки от чего-то. Одна из учениц Вера Мурзина, испугавшись укола, запаниковала и залезла под парту. И я сделала то же самое. Учительнице пришлось проявить немалые усилия, чтобы вытащить меня из-под парты, – уговаривала, сердилась, стыдила, но я, даром, что маломощная по сравнению с учительницей, цепко ухватилась за спинку парты. Учительница тянула меня, и я двигалась вместе с партой (а парты у нас были ох и тяжёлые, сбитые из толстых досок). Медсестра улучила момент и, подняв мою кофточку, быстро сделала укол под лопатку. И было не больно, но совершённое насилие надо мной вызвало в моей душе бурную реакцию. Ухватив учительницу за талию и уткнувшись носом ниже её груди, я стала кричать. И даже потом, придя домой, я плакала, жаловалась бабке, что в школе в меня воткнули большую иглу и что мне якобы очень больно даже сейчас, и я, может быть, умру. И ведь к ночи у меня поднялась высокая температура, мне и впрямь было плохо, меня вырвало! Бабка меня чем-то отпаивала. Богатое у меня воображение, однако, было. На другой день выяснилось, что ни у кого из учеников никакой реакции на укол не было. Только у меня.
Несколько мальчишек и девчонок на фотографии демонстративно выставили учебники или тетрадки. Для чего – непонятно. Но так захотелось, чтобы и книжки с тетрадками попали на фотографию. Кстати, мы обращались с учебниками и тетрадками бережно, как с ценностью. Учебники были не у всех – их не хватало. И тетрадки порою были сшитые учительницей из разнородных листов – их тоже не хватало. Я вспоминаю, как в третьем классе я сбавила старания в учёбе, стала писать небрежно, в результате в моих тетрадках появились четвёрки и даже тройки. И однажды дома мой папка решил посмотреть мои тетрадки, увидел мазню и кляксы, рассердился (наверное, он был не трезв) и бросил тетрадку в топившуюся печку-«голландку». Помню моё чувство недоумения: как же так можно? Тетрадь – в печку? Ведь мне её дала учительница, и, наверное, теперь мне не на чем будет писать? Выручила мама. Она сшила мне другую тетрадку. У неё хранились тетрадные листки на всякий случай ещё с тех времен, когда она работала учительницей и в детском саду…
И какие же мелочи мне вспоминаются! И зачем-то я пишу об этом? И если кто-то из моих одноклассников или их потомки прочитают эту мою книгу, пусть не обижаются на меня за то, как я здесь, возможно, негативно представляю моих одноклассников. Они так запомнились мне в моём детском восприятии.
Вот вспомнила, что мой одноклассник Максимов имел привычку есть свои козявки из носа, называя их «су´шенками». Эко, чего запомнила!
Многое может напомнить давняя фотография. Со мной учился мальчишка по фамилии Люцер – немец из высланных волжских немцев. Если не путаю, он жил с какой-то роднёй, потому что его мать разбилась в шахте, упав на рудоспуске. Я запомнила похороны этой несчастной женщины в гробу с обвязанной головой. Маленький Люцер, ему было тогда лет пять или шесть, окаменело стоял у гроба и не плакал. Какая-то бабка растормошила его: ты, мол, поплачь, больше ведь никогда не увидишь свою мамку. И вдруг мальчишка весь сморщился и так безутешно и жалобно заплакал, что я разозлилась на бабку: зачем-де его «разжалобила». Мальчонку пришлось увести от гроба. Это было во время войны, когда женщины допускались к работе в шахте – мужчин не хватало, а женщины просились в шахту, потому что за этот тяжёлый труд давали талоны на продукты.
И вспомнился мне ученик-переросток по фамилии Щелконогов, по кличке Щелкан. Его неоднократно били взрослые за воровство, чаще всего чего-нибудь съестного. Мать не могла прокормить сына и дочь. Щелкан с задатками главаря был обозлён на весь мир.
Он был довольно любознателен. Помню, расспрашивал меня даже о пионерах-героях. Но мой статус лучшей ученицы в классе разъярил Щелконогова, и он стал всячески издеваться надо мною. Однажды сильно меня толкнул, я упала, больно ударившись о парту. Учительница вступилась за меня, и именно в это время в школу зачем-то пришёл директор Павел Михайлович – его Щелконогов за угрозу исключить из школы боялся. О приходе директора сообщила Татьяна Ильинична. И чтобы Щелкан не выскочил из класса, она заслонила собою дверь. Щелкан сильно толкнул учительницу в грудь, выскочил из класса и где-то спрятался от директора.
Хронический второгодник Щелкан начинал учиться с моим братом Геркой, потом с другим братом – с Женькой, затем стал учиться в классе, в котором училась я. Всячески обзывался, делал мне разные пакости. А кличку он мне дал «Помещица»! Как я понимаю теперь, эта кличка носила «классовый» характер и задевала честь всей нашей семьи. Мы жили в большом доме большой семьёй и в относительном достатке, с папой и мамой, а у Щелкана были только мать и младшая сестра, а в доме голодуха и бедность. И Щелкан решил выместить на мне свою «классовую» злобу. При этом пригрозил, что, если я пожалуюсь дома или учительнице, он меня побьёт по лицу цепочкой от стенных часов. Запугал меня насмерть. Я боялась ходить в школу. Об этом каким-то образом узнал брат Женька и объявил Щелкану войну. Более сильный Щелкан избивал Женьку до крови, но Женька в течение длительного времени дрался с ним ещё и ещё. И Щелкан отстал от меня. А потом он в очередной раз что-то натворил, его исключили из школы, и он куда-то исчез из села.
Я мало что знала в последующие годы моей жизни о своих бывших одноклассниках. Может, просто не помню. Но хорошо помню, что мы, ребятня, вступили в эту жизнь, приняли её как данность и не подозревали, что она может быть другой. Ох, где же вы, те ученики? Наверное, многие уже в земле.