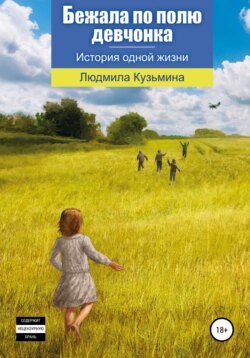Читать книгу Бежала по полю девчонка - Людмила Андреевна Кузьмина - Страница 3
Часть I. ВЕРХНИЕ КАРАСИ
«Вот моя деревня, вот мой дом родной»
ОглавлениеЛето 2009 года. Случилось так, что мы с моей двоюродной сестрой Галиной съехались на Урале в родных нам местах. И я предложила сестре:
– Давай, может быть, напоследок – лет-то нам уже сколько! – съездим на денёк в Верхние Караси.
Сказано – сделано. Родственник Галины Анатолий согласился отвезти нас на своей машине. Не доехав десятка метров до села, свернули направо от дороги в сторону деревенского кладбища. Моя это была идея. Ибо только тут мы сегодня могли встретить своих односельчан в бытность нашего детства.
И вот мы бродим по заросшим травой дорожкам между могил. Вот они – Панковы, Карташовы, Боронины.
А вот и учителя наши – Павел Михайлович и Александра Тимофеевна Рохмистровы.
А вот хозяйка нашего дома Вьюгина Антонина Арсеньевна, её не стало в 2004 году. Я с нею виделась в предыдущий мой заезд. Кто же теперь владеет нашим домом? Сегодня узнаем.
Много знакомых имён. И я даже взялась переписывать с крестов даты жизни знакомых односельчан. По этим датам я смогу потом восстановить «историческую память» в моей голове.
Потом Анатолий подвозит нас к нашему дому. О, Господи! Стоит мой дом! И дом не брошен, как некоторые другие дома. И в нём, судя по новым постройкам во дворе, живёт хозяин. И постаревшая сосна в палисаднике с каким-то усталым видом тянется ветвями вверх. И напротив нашего дома сильно обветшавший, видать, бесхозный дом Карташовых – весь скукожившийся, как бы уменьшившийся в размерах, с тёмными от времени воротами.
Но сколько изменений вокруг! Главное изменение – широкая, добротно мощёная дорога, по которой стремительно, почти сплошным потоком проносятся разномастные легковые (грузовых почему-то гораздо меньше) машины, да их столько, что трудно найти миг, чтобы безопасно перейти дорогу.
– Ну задолбали совсем! – в сердцах воскликнула моя сестра. Ведь нам то и дело надо переходить и на ту, и обратно на эту сторону дороги и успеть за неполный день обойти село и окрестности. Зачем нам это надо? Ну, скажем, чтобы оживить память о тех местах, где прошли самые первые годы нашего более или менее сознательного детства.
Мы с сестрой стоим на обочине дороги – сильно пожилые, со всякими скрытыми в наших организмах хворями, с трудным дыханием, с потускневшими от времени глазами, но своим внутренним взором уже видим устремлённые на нас юные, распахнутые миру глазёнки – тоже наши глаза семидесятилетней давности…
Итак, вот моя деревня – Верхние Караси.
А ещё когда-то были Нижние Караси, Сладкие Караси, деревня Карасинская. И все эти сёла, деревни, как уже можно догадаться, располагались по течению реки Караси. А река-то не ахти какая глубокая и длинная вытекает из озера Малое Миассово. Какая рыба там только ни водилась! Караси, само собой. Увесистые, крупные. А ещё мелочь, годящаяся на уху: пескари, ерши, плотва. И потребитель этой мелочи – метровые щуки!
В годы 50-е прошлого XX-го столетия в селе – я это помню – создали рыболовецкий колхоз «Пламя». В селе организовали рыбокоптильню за высоким забором. Помню и толстенного дядьку, начальника этого заведения – мы, детвора, звали его коптильщиком. Вероятно, его непомерная толщина была следствием болезни, но худосочные послевоенные жители за глаза ворчали: «Его бы самого закоптить, сало-то с боков свисает!» Но, встречаясь с ним, уважительно здоровались, а заведующий клубом во время демонстрации какого-нибудь фильма выносил ему два прочных стула. Одного стула для широкой задницы коптильщика было мало, а хлипкая лавка для всех зрителей под его весомым телом грозила обломиться. Впрочем, дядька был добрым и не обижался на дразнилки хулиганствующих мальчишек. Он просто не обращал на них внимания.
Ну так что же? Река Караси взяла своё название от рыбы карась? А вот и нет! Это тюркское слово: «карасу» означает «тёмная вода». Правда, в краеведческой литературе я встретила подхваченное интернетом другое толкование: мол, это река с чистой прозрачной водой, берущая начало из чистого источника. По-моему напутали. Слово «кара» с тюркского означает «чёрный»: пустыня Каракум – чёрные пески в Средней Азии; город Карабаш, получивший название от горы, переводится как «чёрная голова». Да и сама я, живя в Верхних Карасях и купаясь в речке, не помню светлой, прозрачной воды. Река вырыла себе русло в богатой перегноем почве, течение её медленное, дно илистое, и даже в солнечную погоду вода казалась тёмной, хотя и была чистая. И башкирам-кочевникам, заселявшим обширные края Южного Урала ещё задолго до прихода русских и давшим свои названия рекам, озёрам, горам, можно верить, когда речь заходит о топонимике края. Их топонимика точно отражала приметы того или иного географического объекта. При кочевой жизни башкир эти названия позволяли быстрее ориентироваться на местности.
Что касается самого села, у него есть своя история.
В 60-е годы XVIII века казаки Чебаркульской крепости основали станицу Верхне-Карасинскую. Места были отличные: сосновый и берёзовый леса, ягоды-грибы, окружающие озёра полны рыбой, а плодородная земля давала хлеб и овощ. К концу XIX-го века построены школа, часовня, водяная мельница.
Что ещё надо для благоденствия растущих казацких семей? Казаки верно служили царю и Отечеству и участвовали во всех военных походах того времени. Вернувшись после окончания войны 1812 года с победой, на широкой площади в центре станицы они заложили двупрестольный каменный храм во имя Святой Троицы и Архангела Михаила. Храм был построен и освящён в 1831–38 годах. И стоял храм более ста лет, пока большевики во время гонений духовенства в 30-х годах двадцатого века не снесли его до основания, оставив обширную площадь опустевшей, а село духовно осиротелым.
Бывшая казачья станица в XIX веке росла и богатела, постепенно превратилась в большое село. Из специальной краеведческой литературы известно, что в 1833 году оно имело название Большие Караси, было центром Карасинской волости. В нём насчитывалось 300 мужских душ. Женщины и дети в статистику не включались как активно не работающее население.
И так было до революции.
Не знаю, насколько можно верить туристической карте Челябинской области, изданной в советский период в 1986 году, на которой нанесены достопримечательности и памятные места, связанные с революционными событиями и с Гражданской войной. На карте село Верхние Караси отмечено красным флажком, а в примечании внизу сказано, что в 1898 году здесь находилась подпольная типография первой марксистской организации Урала. Мемориальную доску будто бы на доме повесили. Я пыталась выяснить, на каком доме такая доска висела, но никто из жителей села достоверно ответить не смог. Да уж! Большевики «искрили» из-за границы, и при наличии железной дороги через всю Россию с запада на восток их номера ленинской газеты «Искра» распространялись агентами. А на местах по материалам газет подпольно издавались прокламации, несли потом смуту в народ. И не только тихо, мирно действовали большевики, но случались и громкие дела. Так, в 1908 году на станции Миасс, лихо и по-разбойному со стрельбой, агенты большевиков (их называли «эксы», то есть экспроприаторы) грабанули золото с почтового поезда для партийных нужд. Об этом деле услышал даже Максим Горький, обитавший в то время на Капри в Италии. Ну а к 1917 году по-настоящему «из искры возгорелось пламя» – и в 1918 году заполыхал пожар Гражданской войны по всей России. И кроваво развивались события и на Южном Урале…
Во время Гражданской войны в окрестностях В. Карасей шли бои между частями 26-й стрелковой дивизией красных и волжской группой белых. 19 июля 1919 года закрепились красные. Да и на всём Южном Урале в 1919 году установилась Советская власть.
В Верхних Карасях сражавшиеся на стороне белых казаки были вытеснены из села, большей частью уничтожены как противники Советской власти. Только за один день ОГПУ арестовало и расстреляло 22 казака.
Не избежало село и насильственно проведённой по всей стране коллективизации сельского хозяйства и раскулачивания богатых семей казаков. Доподлинно знаю, что в 1929 году арестованы и расстреляны 9 казаков и один священник, их семьи высланы на север Западной Сибири, а их дома заняли представители Советской власти. Но, как показала дальнейшая история, созданный в 1929-м рыбоколхоз «Пламя» большой пользы государству не принёс, и колхозники жили впроголодь.
Село возродилось, главным образом, благодаря притоку переселенцев из других мест Урала.
На Урале с давних пор старатели по берегам рек промывали золотоносные пески, а в шахтах горнорабочие добывали рудное золото. Известна в Верхних Карасях шахта «Ольгинская», но она просуществовала недолго: с 1903 по 1910 год. Из-за бедного содержания золота в руде её закрыли и законсервировали. К тому же она оставила недобрую память из-за плохой оснастки крепёжным материалом стенок внутри штреков. Помню, рассказывал отец со слов старожилов села: однажды осыпавшейся и просевшей горной породой завалило главный «ствол» шахты, а в одном из забоев, к счастью, неглубокого залегания, находилось несколько шахтёров. Живы ли они? Пробурили узкую скважину, через неё услышали голоса – шахтёры дали знать, что все живы, сидят в полной темноте без надежды самим выбраться из-под завала. Первым делом через узкое отверстие скважины на верёвках им спустили воду, еду и для поднятия настроения спирт, а затем стали нагнетать с помощью помпы свежий воздух. Приняли решение бурить более широкое отверстие в стволе шахты, чтобы на канатах поднять шахтёров наверх, однако для этого дела нужно затратить несколько дней. Всё село, не говоря о близких, переживало. Каждый день через узкую скважину подбадривали земляков, передавали продукты, воду и водку, а в ответ на эти действия из-под земли слышалось пьяное пение. Жёны и матери шахтёров не спали ночами, молились за благополучное спасение мужей и сыновей. Ведь неизвестно, как обернётся бурение скважины, опасались новых обрушений породы, которая заживо похоронит горняков. Но всё прошло удачно. Шахтёры внизу привязывались к верёвке, и по одному их вытягивали наверх. От долгого сидения в темноте они ослепли, самостоятельно не могли передвигаться. Их несли на носилках по домам, рядом с носилками шли рыдающие жёны и матери, а спасённые, хоть и ослабевшие и слепые, от выпитого спиртного и радости своего спасения из-под завала пели! И отлежались потом, зрение восстановилось.
За давностью лет, может, не всё так складно и правильно я излагаю, но такую историю со счастливым концом оставила шахта «Ольгинская».
В 30-е годы уже при Советской власти геологами и старателями в районе Непряхино были разведаны новые месторождения золота. В созданное Непряхинское рудоуправление, кроме самого Непряхино, вошли Верхние Караси, Малое Куйсарино, и началась промышленная добыча золота. Потребовалась дополнительная рабочая сила на шахты. И, как говорит пословица, «не было бы счастья, да несчастье помогло». Начавшаяся принудительная коллективизация, раскулачивание сильно ударили по хозяйствам жителей сёл, где создавались колхозы. Многие семьи, спасаясь от колхозного разора, потянулись в районы золотодобычи. Так, в Верхних Карасях оказалось много выходцев из Вознесенки, прародины Кузьминых и многих наших знакомых в тот период времени – Борониных, Конюховых, Баталиных, Карташовых и других. Некоторые семьи были связаны родством. Так и селились на одной улице. Вспоминали родную Вознесенку с ностальгическим чувством утери земли обетованной. Только и слышно было в разговорах: «Вот раньше жили!»
Я пыталась выяснить, а чем Верхние Караси хуже Вознесенки? И не находила ответа.
Лично я, войдя в этот мир значительно позднее, принимала свою жизнь как данность. Мне не с чем было её сравнивать, и если что-то происходило в жизни, значит, так надо было – не важно кому.
И я понятия не имела, какой такой храм стоял в центре села, да ещё и рядом с нашим домом, как выглядел храм и зачем он был нужен. На обширной площади нам, ребятишкам, хорошо было собираться и играть, да и взрослая молодёжь, бывало, играла в лапту или городки. И только недавно узнала я, что каменный храм в Верхних Карасях разрушили при Советской власти в 30-е годы, как рушили многие и многие храмы в нашей стране, изгонялись и уничтожались священники во имя новой коммунистической идеологии и поставленной сверхзадачи: «Мы наш, мы новый мир построим». Зачем нам Бог и Церковь, мы сами будем почти как боги: «отречёмся от старого мира» и построим новый. Ну и что строили? Да вот, например, из камня разрушенного храма построили горно-обогатительную бегунную фабрику в Куйсарино.
В мои детские годы однажды вместе с моими братцами меня занесло в район Куйсарино недалеко от шахты «Майская». Вначале издалека я услышала страшный грохот и скрежет, потом, подбежав поближе к металлической решётке ограждения и заглянув сквозь неё в темноватое помещение, я увидела, как два чудовищно огромных колеса «бегают» в огромной чаше и дробят-перемалывают камни. Было такое у меня ощущение, что я по-гулливеровски маленьким лилипутиком попала в страну великанов.
И, словно смутный сон, вспоминаю такую картину. Иногда с подружкой мы забегали в соседний с нашим дом Булатихи, нелюдимой и немногословной старушки. Её взрослая дочь Клавдия, напротив, отличалась чересчур бойким нравом, зналась со всей деревней, да и со многими за пределами деревни. У неё подрастала хорошенькая трёхлетняя дочурка Галинька. Рассказывали, что Клавдия родила её «от залётного молодца», вроде бы от милиционера из Чебаркуля. К «тёте Клаве» мы по-соседски забегали. На селе ведь – как? Можно запросто, без всякого приглашения зайти в любой дом.
Однажды мы с подружкой долго засиделись в горнице – пили чай. Клавдия открыла дверь в соседнюю комнатку. Свет в неё не попадал с улицы через окна, всегда закрытые ставнями. И в этой темноте я увидела на стенах очень большие «картины каких-то необычно строгих дяденек в длинных материях». Таких «картин» я ещё никогда не видела. А это были иконы святых, и как я теперь понимаю, храмовые иконы. Возможно, из снесённого храма. Булатиха хранила их у себя. Интересно, где они теперь – эти старинные иконы? Тогда я была мала, не спросила, не узнала, так это или не так? Прошедшее время меня не интересовало.
Наверное, от прежних времён осталась на реке мельница. Казаки жили оседло и для прокорма своих семей имели земельные наделы и сеяли хлеб. А раз так, то и мельница была нужна. Вот и поставлена на реке такая водяная мельница, которую мы видели главным образом в книжках с картинками. А я видела её в детстве, но что-то не помню мельницу работающей. В мою бытность всё взрослое население было занято в золотодобыче, обширные поля за рекой заросли травой. Муку горнякам привозили откуда-то из района и распределяли по талонам.
И теперь хватит историй, пора снова вернуться в моё нынешнее время.
Мы с сестрой стоим на крепком мосту. Той давней плотины уже нет. Река расширилась, и она полноводна и справа от моста, где когда-то стояла мельница. Но я опять внутренним своим взором вижу невдалеке деревянные, шаткие мостки, с которых деревенские женщины полоскали выстиранное бельё, и здесь, ниже плотины, река была совсем мелководной – можно было перейти её вброд по каменистому дну на противоположный берег.
А сейчас мы с сестрой видим на крутом спуске берега двух мужиков с удочками, расположившихся на травке. Впрочем, один мужик, по всему видать, был сильно нетрезв, он не сидел, а почти безжизненно возлегал. Сестра прямо с моста затеяла переговоры с более вменяемым мужиком: мол, мы вот из здешних мест, жили давным-давно, и река была совсем не такая. В ответ ей мужик с удочкой что-то отвечал. Зашевелился и другой, и вдруг пополз навстречу нам по крутому склону, срываясь и падая, вероятно, надеясь что-то получить от нас на выпивку или даже, может, выпить за встречу с землячками. Я испуганно потащила сестру прочь от нежелательного контакта. Да и что они, пришлые и явно моложе нас, могут нам рассказать?
Попробую рассказать о том, что было в те далёкие годы, когда наша семья жила в Верхних Карасях.
Тогдашний мост при ближайшем рассмотрении – это была плотина. Стоящие вертикально и плотно подогнанные толстые брёвна перегораживали реку и повышали уровень воды в русле реки слева от плотины. Здесь же была предусмотрена система водосброса, регулирующая поток воды. Это было необходимо для работы мельницы правее плотины. Когда открывали шлюзовое устройство, поток воды попадал на лопасти мельничного колеса, колесо крутилось и приводило в действие жернова внутри помещения мельницы, и жернова перемалывали зерно в муку.
Русло реки слева от плотины-моста называлось «канал», потому что участок реки примерно в 100 метров вдоль берегов был действительно укреплён под водой толстыми брёвнами.
Вода в канале была довольно чистая без всякой тины и ила, хотя течение из-за преграждающей плотины небыстрое. Если присовокупить к этому то, что левый берег, напротив дома Панковых, был пологим и покрыт мягким ковром травы, то получилось отличное место для купания сельской ребятни. К тому же и у берега было неглубоко – настоящий «лягушатник». Если дальше идти в воде по пояс, то наткнёшься на брёвна, под водой уложенные на стояках горизонтально вдоль берега. Мне трудно объяснить, почему так, а не этак укрепляли берег от сползания грунта в реку.
Ну а по другую сторону плотины, за мельницей, уровень воды был гораздо ниже, чем в верхнем «канале». Вода с шумом падала вниз с высоты мельничного колеса и текла по каменистому дну. Мелкий камень насыпали, видимо, специально. Течение здесь было довольно быстрым, но совсем не глубоким – примерно по колено взрослому человеку. Под камнями, ближе к плотине, прятались скользкие налимы. При хорошей сноровке их можно было ловить голыми руками, переворачивая камни и хватая рыбу за жабры.
Дальше вода снова текла по илистому руслу, которое постепенно углублялось, ещё ниже по течению находился омут – глубокая яма, может, какая горная выработка с давних времён. Говорили, что там тонули иногда люди.
За пределами села река приобретала обычный вид и лениво текла в дальние края среди зелёных берегов. И там, за сколько-то километров, находилось бывшее казачье село Нижние Караси. Ну а впадала небольшая река Караси в широкую водную артерию Южного Урала – реку Миасс.
В Верхних Карасях я была мала. Село казалось очень большим, окрестные поля безразмерные, дали неоглядные, деревья большими. И моя свобода то и дело поначалу ограничивалась взрослыми: туда не ходи, это не делай.
И всё равно я раскрывала для себя мир, а он постепенно входил в меня своими красками, запахами, событиями.
Вот – наш дом. Как будто всегда был нашим. Это сейчас мне интересно знать, когда и кем он был построен и что было в нём до того времени, когда наша семья поселилась в нём.
Покопавшись в семейном архиве, я нашла любопытный документ: договор 6-го июля 1943 года по соглашению с Непряхинским поселковым Советом об обмене двух домов, принадлежащих А. А. Кузьмину (то есть моему отцу) на Куйсаринской бегунной фабрике, на один дом в самом центре села. О том, что поначалу у моего отца было аж два дома, я не знала. В бытность моего детства история нашей семьи нимало не интересовала меня, и я никогда не задавала моим родителям вопросов типа: а что тут было до нас?
Позднее я бывала в деревеньке Малое Куйсарино, расположенной на восточном берегу озера Малое Миассово. Ужасно неказистая деревенька, населённая в основном башкирами. Домишки-развалюшки. Размолоченная тележными колёсами дорога, вся в ямах и рытвинах, заполненных жидкой грязью.
Ну и что там за два дома, принадлежащие моему отцу?
В другом, более раннем договоре – месяцем раньше – есть свидетельство о покупке моим отцом у Непряхинского приискового управления этих домов, и есть подробное их описание.
Цитирую: «Первое, одноэтажное деревянное здание в две комнаты, используемое поселковым Советом для школы, вполне оборудованное и пригодное для этих целей. В помещении имеется русская печь, очаг и чулан в исправном состоянии. При входе в помещение имеется тамбур, состоящий из сеней и чулана. Помещение крыто тесовой крышей, ремонта не требуется. Наружные и тепловые рамы застеклены, ремонт не требуется».
Как указано в документе, этот дом был куплен за три тысячи рублей.
«Второе деревянное помещение, использованное ранее Непряхинским горным управлением под общежитие, представлено одной комнатой и предназначается для квартиры учителей. Недостатком этого здания является отсутствие завалин и требуется капитальный ремонт крыши до 1 ноября сего года. Кузьмин А. А. обязуется его произвести. Внутри помещения имеется очаг– голландка».
Видимо, совсем плох был дом, какая-нибудь времянка, потому что за него назначена цена в 250 рублей. А может, его столь малая оценка дана с вычетом стоимости предстоящего капитального ремонта за счёт покупателя.
Кое-какие пояснения относительно этих двух школьных домов могу дать. В одном доме, собственно школе, прежде до своего замужества работала моя мама-учительница, а в другом помещении-времянке она жила.
Смотрю на фотографию в семейном альбоме. На ней – школьники и моя мама-учительница в центре. В детстве меня эта фотография забавляла смешными рожицами маминых учеников. Словно они нарочно гримасничали перед фотографом.
– Мам! А чего это они все строят рожи? – спрашивала я маму.
– Они не строят рожи. У них лица такие. Это – башкирята. Я их тогда учила. Хорошие ребятишки, старательные.
Словом, это были школьники Куйсаринской школы, а Куйсарино была башкирской деревней. Фотографировались школьники на фоне бревенчатой стены своей школы. Это школа? Да, такие школы были в то время по деревням. И я в такой училась. Позднее расскажу.
В те годы мой отец вёл дневник – очень ценный для меня документ сейчас. Ну кто бы мне сейчас рассказал, как устраивалась наша жизнь тогда?
1941 год. Война.
Предыдущая перед началом войны запись сделана моим отцом 9 июня 1941 года. Краткая, какая-то очень личная запись. Кем-то обижен.
Пишет: «Я понял окончательно жизнь. Люди беспощадны и эгоистичны все, остальное ложно и льстиво. Вперёд же к жизни, надеясь на собственные силы». И решительно-размашистая подпись: А. Кузьмин.
Отцу шёл 27-й год.
Мой отец наметил себе план самостоятельных занятий для прохождения курса по программе средней школы, чтобы потом поступить, чем чёрт не шутит, в высшее учебное заведение. Писал запросы даже в Москву. А у него за плечами всего семь классов образования. Смело замахнулся. Планы были нарушены войной.
Следующая запись в дневнике сделана 23 ноября 1941 года: «Сегодня в выходной ходил впервые на военные занятия. Всё это вызвано войной с немцами, напавшими на Россию 22 июня 1941 года в 4 часа утра с целью её захвата. Благодаря этому я и в гражданской обстановке работаю за троих чуть ли не круглые сутки. Это – коллектор-геолог, начальник участка и взрывник, не считая попутной обязанности зав. складом взрывчатых веществ».
Когда объявили войну, отец ушёл в военкомат и стал проходить военную подготовку в звании радиотелефониста. Мама и бабушка его добровольную явку категорически осудили. А семья? А трое детей? Вишь, чего выдумал? К их радости, отца от военной подготовки освободили, рассудив, что на золоте надо оставить работников-мужчин. Здесь – их основной фронт.
4 февраля 1942 года, как следует из дневниковой записи, отца назначили начальником Куйсаринского участка и участка имени 18-го съезда ВКП(б). Уже не до учёбы. Участки включали несколько шахт и открытых разработок небольшой глубины залегания, две бегунные фабрики. Множество рабочих на шахтах, три старательские артели на россыпях. И на фронт мужчин-шахтёров не брали. Стране необходимо было золото. И моему отцу, несмотря на отсутствие у него специального горного образования, но ввиду его практического опыта работы на горных объектах, сразу доверили ответственную должность. И дали бронь (освобождение) от призыва на фронт до 1 мая 1942 года. Потом эту бронь неоднократно продлевали вплоть до окончания войны.
…Работает «один за троих». Запись 30 апреля 1943 года: «Программа выполнена на 140 процентов. Получили переходящее Красное знамя Непряхинского приискового управления». Как это на 140 процентов? Надо понимать с перевыполнением на 40 процентов? В общем, вкалывал круглые сутки. Рассказывал потом, что, заканчивая смену, сдавал объект, можно сказать, самому себе, и по форме записывал в регистрационный журнал: «Объект сдал», указывал время – и расписывался. А ниже строчкой тут же писал: «Объект принял», указывал то же самое время, снова ставил подпись: Кузьмин. Не было у него сменщиков. Спал урывками в купленном куйсаринском домике.
Встала необходимость переселения семьи в Верхние Караси поближе к местам работы отца. Для этого и были куплены освободившиеся в Куйсарино два школьных дома. Учителей не хватало на всех, шло повсеместное объединение классов. Школьников распределяли по другим школам в ближайших деревнях. Ничего, мол, страшного, ножками школьники побегают за знаниями из своей деревни в соседнюю.
Про жизнь нашей семьи в Куйсарино я ничего не знала, да мы, дети, там совсем и не жили, оставаясь в Непряхино под присмотром бабушки. Пока отец готовился к переезду, на наше счастье, через месяц после покупки двух домов в Куйсарино освободился двухэтажный дом в центре Верхних Карасей. Тут же заключили новый договор об обмене купленных двух домов на этот освободившийся дом, который тоже требовал серьёзного ремонта.
Вот описание дома в договоре обмена домов:
«Верх здания деревянный, крытый железом. Низ – каменный.
Каменные стены надворных построек, огороды, полусадик и уборная.
Деревянные постройки, как то: амбар, завозня и несколько штук брёвен (остаток от сарая остаётся за сельсоветом в распоряжении школы).
Здание использовалось (вот!) как школа и для швейной мастерской промкомбината, а в настоящее время не используется из-за ненадобности.
Низ здания разделяют на кладовку и кухню. Кухня в данный момент занята под квартиру, а кладовка под инструменты промкомбината. Последние поселковый совет обязуется освободить к 10 сентября сего года.
Верх здания представлен одной комнатой, так как стены, разделяющие на три комнаты, отсутствуют.
Пол между верхней комнатой и кладовкой одинарный, требуется подвод второго пола. Потолок местами прогнулся, местами прогнил, требуется капитальный ремонт.
Наружные и тепловые рамы требуют ремонта, одной тепловой рамы нет, застеклённых внутренних рам в наличии имеется три штуки.
Кухня имеет русскую печь и очаг.
Верх имеет печь-голландку. Отопительные приборы требуют ремонта. Парадное крыльцо почти развалилось, требуется также капитальный ремонт.
Каменная стена вблизи парадного крыльца на протяжении 6 метров отсутствует. Сельсовет разрешает А. А. Кузьмину взять для восстановления последней камень из остатка стены возле школы. Ворота при дворе отсутствуют».
Как я полагаю, камень из остатка стены у школы – тот самый, что остался от сломанной в 1933 году церкви. Мой отец этот камень не использовал, а продлил деревянную ограду палисадника перед домом дальше за угол до соседского огорода. Мои братья вытащили гвозди внизу из трёх вертикальных досок в ограде с правой стороны нашего дома, «смотревшего» окнами на площадь. Доски оставались подвешенными на верхних гвоздях, их можно было сдвинуть в сторону, в образовавшийся лаз выбраться из огорода и бежать напрямки в школу.
Отец перед нашим переселением из Непряхино отремонтировал здание, укрепил пол, поставил ворота, привёл в порядок надворные постройки. Новые ворота я зрительно запомнила по жёлто-янтарному цвету досок; они ещё не успели потемнеть от времени.
Наш дом был необычным в деревне. До нашего вселения в нём не жили, а учились и работали. Как сказано в договоре, он использовался как школа и как швейная мастерская. И был он двухэтажный! Нижний полуподвальный этаж, каменный, отапливаемый печью и имеющий очаг, одновременно служил фундаментом верхнего этажа. Окна на уровне земли, пробитые в толстой каменной кладке полуподвала, достаточно хорошо пропускали дневной свет с двух сторон, с фасада и правого торца, если стать спиной к дому. Только надо было постоянно отгребать зимой снег от окон. Видимо, в нижнем этаже и располагалась упомянутая в договоре швейная мастерская с кладовкой, и в неё можно было попасть со двора через отдельный вход позади дома. Когда наша семья заселила этот дом, в нижнем помещении время от времени жили какие-то другие люди. Потом там жил наш дядя Фёдор с семьёй. Они приехали в Верхние Караси из Вознесенки, и на первых порах им негде было жить. Спустя какое-то время они приобрели собственный дом и уехали совсем недалеко от нас, и нижнее помещение стало безраздельно нашим.
Итак, это был родительский дом № 1. В этом доме с 1943 года по 1950 год обитала наша семья.
Летом полуподвальное помещение служило нам кухней. А мы, ребятишки, в ненастье любили устраивать там шумные игры, напустив пол-улицы своих друзей.
В холодное время года, чтобы не тратить дрова на отопление, мы в подвале не жили, а бабушка держала там народившийся молодняк от козы Маньки. Козлята как-то умудрялись запрыгнуть на довольно высокую лежанку. Зайдёшь, бывало, с улицы в темноватое помещение, забыв включить электрический свет, а с лежанки смотрит на тебя бесовскими глазами рогатая голова! Больше для собственного успокоения, крикнешь: «Кызь, отседа!», но козлик и не подумает соскочить с печки, ему там хорошо. Бывало, я играла с козлёнком. Он так забавно стучал копытцами, иногда подпрыгивал, как на пружинках, высоко или, принимая игру, шёл на меня бочком, нагнув голову: забодаю, мол!
И ещё одна история запомнилась: трагическая для нашей кошки Капли. Мы её взяли крохотным котёнком, потому и нарекли поначалу именем Капелька, а потом она выросла в нашей семье, оформилась вполне взрослой кошкой и стала Каплей. Зимой ей пришло время в первый раз окотиться. Окотилась почему-то в холодном подвальном этаже и родившихся котят перетаскала в холодный очаг с незакрытой по нашему недосмотру дверцей, и котята там задохнулись в золе. Бабушка наша стала чистить очаг от золы кочергой, а оттуда в ведро посыпались голенькие мёртвые котята! Ох и крыла на все корки наша бабушка неразумную кошку-мать!
Когда мы только поселились в доме, в этом нижнем помещении рядом с печкой в стене можно было заметить непонятный ход, заложенный досками. Жаль, что я по своему малолетству не могла ещё фантазировать, как это бывало позднее. Я бы нафантазировала что-нибудь необыкновенно-сказочное. Например, через этот ход можно было попасть в таинственную страну подземелья, в которой живут маленькие человечки.
Однажды доски убрали и ход открыли – и… ничего необыкновенного не оказалось. Из темноты несло затхлостью, сырой гнилью. Скорее всего, это была кладовка с того времени, когда в доме находилась швейная мастерская. В кладовку можно было попасть и со двора через отдельную дверь, но дверь эта всегда была закрыта на амбарный замок. Теперь помещение очистили, проветрили, пролом в стене нижнего помещения заделали, заштукатурили, и кладовка стала служить погребом, в нём хранили картошку и овощи с нашего огорода.
Двери в полуподвальную комнату и в погреб находились под навесом верхнего этажа; небольшая площадка под навесом выложена досками и огорожена от двора жердями. Здесь, в этой открытой нише можно было оставить грязную уличную обувь, тут же стояли вёдра, и находилась разная хозяйственная утварь, а на горизонтальных жердях можно было проветрить или просушить домашние половики и коврики.
С фасада верхнего этажа на улицу «смотрело» пять окон. Ещё три окна выходили на площадь с правого торца дома и два окна обращены во двор с противоположного торца. Окна, как у всех деревенских домов, имели ставни, но наш дом выглядел наряднее благодаря резным наличникам окон и украшенному резьбой козырьку над парадным крыльцом с правой стороны дома. Правда, при нас это крыльцо выглядело плачевно, ступеньки его прогнили, и поэтому ходить по нему было опасно, да и с этой стороны дома росла какая-то огородная зелень. Мой отец, произведя перепланировку дома, сделал другое крыльцо, где находился двор и дворовые постройки. Со стороны улицы дом обнесён невысокой деревянной оградой.
В договоре об устройстве дома на верхнем этаже записано: «верх здания представлен одной комнатой, так как стены, разделяющие на три комнаты, отсутствуют».
Одна большая комната, вероятно, была «школьной», и в ней обучались школьники младших классов. Мой отец восстановил три комнаты для нашего проживания, возведя разделяющие стены.
И сейчас, из нынешнего времени, я отправляю себя на экскурсию по нашему дому тех давних лет. Уж очень хочется, прежде всего для меня самой, воскресить ту среду обитания, в которой я росла и впитывала окружающий мир, постепенно расширяя его.
Итак, захожу во двор, поднимаюсь по крыльцу на открытую площадку вдоль «глухой» стены дома. С неё через наш двор и часть огорода открывается вид на очень просторную для села площадь, на трансформаторную будку, на соседние дома.
К ограждению площадки примыкает широкая лавка. На ней стоят вёдра с водой, и лежит что-то подручное для хозяйства.
Открываю массивную, утеплённую дверь слева и вхожу в продолговатые тёмные сени, где на крючках висит разная верхняя (то есть бытовая, обычная) одежда, на полу оставлена обувь – всё это, необходимое для выхода во двор и на улицу по всякой надобности. И обязательно лежит «голик» – это веник без листьев, им подметают пол, а зимой отряхивают снег с валенок.
В глубине сеней, прямо по ходу, видна дощатая дверца – это вход в холодный чулан. Туда пока не пойду.
И ещё одна дверь слева ведёт непосредственно на кухню верхнего этажа. С кухни и начинается наше тогдашнее жильё. Сюда своим фасадом выходит большая русская печь, боками она обогревает все три комнаты верхнего этажа, второе её назначение – приготовление еды для нашей семьи, и командует этим делом бабушка, ловко орудуя кочергой, ухватом, разного рода горшками и сковородками. И у бабушки всегда заготовлены сухие лучинки для растопки, и спички лежат в неглубокой выемке печи, и охапка поленьев принесена со двора заранее – всё должно быть под рукой. В том числе и посуда. На стене слева висит «посудник» с полочками для тарелок, мисок, кружек, стаканов, а под ним стоит небольшой шкафчик для кастрюль, чугунков и разного рода кухонной утвари. Тут же, левее печки, висит рукомойник и на гвоздике рядом с ним полотенце.
В деревенском быту использовались рукомойники, главным образом, двух типов. Первый и простейший представлял собой подвесной медный чайничек с носиком. Он неудобен тем, что свободна была только одна рука, второй рукой надо было наклонять чайничек, чтобы вода из него выливалась. У нас на кухне висел умывальник с ёмкостью для воды литра на три и металлическим гвоздиком-штырьком, плотно подогнанным к отверстию внизу ёмкости. Чтобы умыться, надо поддавать ладошкой этот «гвоздик» снизу вверх, и вода вытекает. Опустил «гвоздик», и он садится на отверстие для стока воды. Грязная вода попадает в металлическую раковину, а под ней стоит «поганое» ведро, и надо следить, чтобы оно не переполнялось, и вовремя освобождать его от грязной воды.
И здесь же на кухне, левее от двустворчатой двери, ведущей в следующую комнату, стоит простой обеденный стол, за ним, примыкая к стене, широкая лавка, и по числу едоков ставились дополнительно табуретки. Бывало, зайдёт кто-то из соседей или приедет какой гость издалека, во время семейной трапезы или чаепития его обязательно приглашают за общий стол.
Освещение на кухне обеспечивает единственное окно, выходящее во двор. Ну а в тёмное время суток во всех комнатах по мере надобности зажигали электрические лампочки без всяких абажуров или плафонов, как в городских домах.
В те годы свет часто отключали и, чтобы не сидеть в темноте, в доме имели запас парафиновых свечей. Помню, как бабушка делала их сама с помощью кустарно изготовленной кем-то формочки. Это была тонкостенная металлическая трубка с диаметром и длиной, какие нужно для свечи. С обоих концов трубка прикрывалась плотно подогнанными крышечками с двумя небольшими отверстиями в центре, через них продёргивались белый шнурок или толстая нитка достаточной длины. В трубку вливали расплавленный парафин, и после того, как парафин остывал и затвердевал, надо было аккуратно извлечь готовую свечку из трубки. Как извлечь? Так, чтобы не сломать её. Для этого обе крышечки снимали и шнурок осторожно тянули туда-сюда, тем самым ослабляли сцепление застывшего парафина с внутренней поверхностью трубки. И как только часть свечи выходила из трубки, можно было вытягивать её – опять-таки осторожно – своими пальчиками. Вытянули свечку, ножницами отрезали лишнее от шнура с обоих концов – свечка готова. Если же свечка ломалась или получался другой какой брак – не беда. Можно было использовать парафин бракованной свечки вторично. Кстати сказать, свечные огарки от использованных свечей тоже не выбрасывались и шли в переработку…
Иду дальше.
Из кухни через двустворчатые двери захожу в так называемую «мамину» комнату – это мы, ребятишки, дали ей такое название. Нашего папку в то время мы редко видели дома; он «пропадал» на работе. Взрослые называют эту комнату «большой». Она служит гостиной, но в ней слева у стены, в углу комнаты стоит родительская кровать, и, стало быть, это и спальня родителей.
Кровать такая, каких теперь, пожалуй, и не увидишь. Её легко можно собрать и разобрать, и на протяжении многих лет она переезжала по новым адресам проживания семьи – до самой смерти родителей служила им.
Основание для постели – разбирающаяся металлическая рама, с помощью болтов крепилась с двух сторон к спинкам кровати. Спинки кровати выглядят довольно нарядно, собраны они были из никелированных трубок разной толщины с блестящими шариками наверху. На основание-раму плотно уложены толстые доски, на крайнюю доску во всю длину кровати постелен так называемый «подзор», неширокая полоса белой ткани, украшенная мамой специальной машинной строчкой «ришелье». Подзор прикрывает пространство под кроватью так, чтобы со стороны не было видно, что там находится, а находиться под кроватью могло что угодно. Ну и понятное дело, на кровати постельные принадлежности: пуховая перина, простыня, одеяло, подушки в наволочках. На день поверх одеяла постелено голубое пикейное покрывало; взбитые попышнее подушки в изголовье кровати уложены одна на другую горкой и накрыты белой строче-вышитой накидкой.
В комнате этой четыре окна. Одно, сбоку, выходит во двор, три – в палисадник. Палисадник с невысокой деревянной оградой отделяет дом от улицы, и в нашем палисаднике – о! Ни у кого такого не было – растёт большая раскидистая сосна с прибитым к её стволу скворечником.
В доме горшки с цветами на подоконники не ставили. На зиму вставляли вторую застеклённую раму, от этого подоконники становились узкими. К тому же при больших уральских морозах даже в комнате стёкла иногда покрывались красивым серебристым узором – цветы могли замёрзнуть. А когда стёкла оттаивали, вода стекала на подоконник. Её отводили с помощью тряпичных жгутиков, уложенных под рамой вдоль подоконника, причём их концы опускались в подвешенную на гвозде ниже подоконника жестяную банку. По мере её наполнения кто-нибудь из взрослых воду выливал и банку вешал на место. Делов-то! Зато на полу не образовывались лужи.
Из мебели стоит в этой комнате прямоугольный стол для редких праздничных застолий с гостями или для наших школьных занятий, тоже редких – основные задания в младших классах мы выполняли в школе. И на этом столе мама кроила ткани для шитья одежды. Четыре прочных и без изысков стула вокруг стола завершают мебельную обстановку.
У окна, выходящего во двор, в «ногах» родительской кровати, в большой кадке росло экзотическое дерево – олеандр. Это на Южном-то Урале? Где только родители его откопали? Полагаю, досталось «в наследство» от школы, занимавшей этот дом. На дереве изредка появлялись розово-красные цветы. Потом кто-то сказал родителям, что цветы ядовиты, и они от греха подальше избавились от него. Вместо олеандра, тоже в большой кадке, укоренился аспарагус, игольчатое растение, но иголки были мелкими и не колючими. Плети аспарагуса быстро вытягивались, их с помощью бечёвок направили расти вверх к потолку. Они росли и через какое-то время этакой мохнатой «бородой Черномора» из сказки Пушкина тянулись по поверхности потолка. Был, конечно, и мусор на полу – осыпавшиеся засохшие иголки. Но это ничего! Веничком, веничком мусор выметался. Делов-то!
В другом углу комнаты растёт фикус с широкими кожистыми листьями, и рядом с ним перед окном стоит «мамина» швейная машинка «Зингер» на чугунной подставке каслинского литья.
Моя мама-мастерица, по-моему, владела всеми видами не только ручной, но и машинной вышивки. Занавески на окна, шторы на двери, скатерть на стол, парадные наволочки и накидку на подушки, упомянутый выше «подзор» для кровати из самых простых хлопчатобумажных белых тканей она украшала ручной вышивкой цветными нитками «мулине» или отделывала белой строчкой «ришелье» на швейной машинке.
Долгое время у нас не было ковра на стене. Родительская кровать стояла у стены в известковой побелке. После войны мама из тёмно-коричневого байкового одеяла смастерила ковёр, увидев который, все забегавшие соседки ахали. Узор для ковра мама нашла в журнале «Работница», в котором в виде приложения предлагались выкройки одежды и разного рода рисунки для рукоделия. Надо было придумать, как этот узор перенести на байковое одеяло. И мама придумала: от рулона чертёжной кальки она отрезала несколько широких полос, длина каждой полосы равнялась длине байкового одеяла. Таких полос получилось пять: одна полоса размещалась в центре ткани, по две симметрично закреплялись сверху и снизу от центральной полосы.
Мне сейчас трудно представить, как маме удалось из рисунка в журнале воссоздать крупно на кальке весь узор будущего ковра. Сделать это надо было очень аккуратно и так, чтобы срисованный узор «лёг» потом на ткань без искажений и смещений.
Распределив полосы кальки с нарисованным орнаментом поверх байкового одеяла, мама белыми нитками, как она говорила «на живульку», закрепила их на ткани, а потом все контуры цветов-лепестков и орнаментов поверх кальки белыми нитками прошила вместе с тканью одеяла, после чего кривыми ножничками выстригла уже ненужную кальку. На ткани одеяла остались обозначенные белыми нитками контуры узора будущего ковра. Дальше можно было в свободное от работы время заняться вышивкой, а свободного времени было мало, и готовый ковёр появился в нашем доме нескоро.
Чтобы замаскировать мрачный тон коричневой байки, годилась только яркая вышивка гладью с помощью цветных шёлковых ниток «мулине». Слева, в нижнем уголке ковра, несколько узоров мама вышила нитками другого оттенка, и они отличались по цвету от таких же узоров в трёх других уголках. Причина простая: ниток нужного оттенка не хватило, и достать их было негде. После того, как мама закончила свою длительную и кропотливую работу, белые нитки она выдернула. Ковёр получился нарядным и красочным. «Не тот оттенок» в левом нижнем углу в дневное время закрывала горка подушек.
На протяжении долгих лет ковёр украшал стену, у которой стояла родительская кровать, не только в Верхних Карасях, но и на Ленинском прииске, но и в Миассе, куда переезжала жить наша семья. Только в семидесятых годах мама приобрела магазинные ковры, а этот самодельный ковёр безжалостно был использован как подстилка на лежанке в огороде летом.
Я никогда не знала, где мама раздобыла такие разноцветные нитки, и откуда у неё появилась «зингеровская» швейная машинка с ножным приводом. Настоящий музейный экспонат по нынешним временам. Сейчас начинаю догадываться. Наверное, машинка была приобретена у располагавшейся в этом доме швейной мастерской.
Во время войны жители Непряхинского прииска и местная власть готовили разного рода посылки для отправки на фронт. Мама шила ватники-телогрейки, тёплые рукавицы, кисеты для табака. Материал и нитки ей выделяли.
В 1943 году ей поручили сшить и вышить знамя для уральского добровольческого танкового корпуса имени Сталина, формирующегося в Челябинске. А для вышивки и кистей ей, конечно же, выделили необходимые материалы, нитки и толстый золочёный шнур. Мой отец ездил в Челябинск на областной митинг 9 мая 1943 года как представитель от Непряхинского прииска. На митинге он передал воинам, отбывающим на фронт, наказы трудящихся Непряхинского прииска и сшитое мамой знамя. Возможно, знамя потом «участвовало» в Курской битве. А может, и до Берлина «дошло». Очень интересно было бы узнать его дальнейшую историю…
Продолжаю мою экскурсию по дому. От следующего помещения «мамину комнату» отделяет стена и круглая, обшитая чёрным металлическим листом печка-«голландка» с небольшой топкой, закрываемой чугунной дверцей. Мы называем её «галанка», не понимая истинного происхождения слова от страны Голландии, где такие печки устраивались для обогрева помещений. Ведь это только царица-русская печь была универсальной в суровых условиях России – и для обогрева, и для приготовления еды, и для выпечки хлеба и пирогов, и для просушки чего-нибудь, и спальное место-лежанка на ней было предусмотрено. Мама рассказывала, что в такой печке даже мылись.
Следующая комната – «наша», другими словами, детская, но мы, малышня, как-то не считали себя детьми. Мы – это мы, и комната не чья-нибудь, а безраздельно наша. Когда мы надоедали взрослым, они так и говорили: «Идите в свою комнату!» И родители предусмотрительно приделали на двери в нашу комнату крючок, ведь в их жизни бывали моменты, когда мы могли ворваться в их комнату в неподходящее время.
В комнате этой четыре окна. Два окна «смотрят» в палисадник на улицу. В простенке между окон стоит комод с бельём, а над ним висит небольшое зеркало. Два других окна справа, обращённые на площадь, всегда закрыты снаружи ставнями. Дело в том, что вплотную к стене и этим окнам стоят две детские узкие железные кровати моих братьев. Вероятно, из разговоров взрослых я услышала сказанное ребятам в шутку: ставни закрыты, чтобы ночью к ним в постель кто-нибудь с улицы не влез через окно. А я по моему малолетству все разговоры воспринимала всерьёз и была напугана.
Моя кроватка находится у противоположной стены. И тут же перед кроваткой в полу квадратная деревянная западня с металлическими петлями с одной стороны и с металлическим кольцом с другой, прикрывает ход на нижний полуподвальный этаж. Потянув за кольцо, можно западню откинуть и по наклонной, сбитой из крепких широких досок лестнице спуститься вниз. Чтобы мы, дети, не баловались с западнёй, пытаясь открыть, отец замкнул её на замок. И, как я уже рассказывала, в иные времена в нижнем подвальном этаже жили другие люди.
Мне было непонятно, зачем эта западня нужна, я боялась, что ночью ко мне в постель «кто-нибудь приползёт». И было дело, когда я играла на полу, а снизу кто-то из жильцов чуть-чуть приоткрыл западню и в щель посмотрел на меня. Я вскочила, побежала к бабушке на кухню и завопила:
– Там пол открылся! Кто-то хотел утащить меня! Я боюсь!
Укладываясь спать, я хныкала, показывая на западню:
– Боюсь! Боюсь! Ночью ко мне приползёт бука!
– Не придумывай! – говорила бабушка. – Кто к тебе приползёт? Вишь, какой крепкий замок навесил отец?
А я продолжала ныть:
– Мне на замок больно наступать! Я падаю из-за него!
Но и эту проблему решили просто, прикрыв западню толстым половиком.
Зимой мою кроватку передвигали подальше от окна и ближе к печке-«голландке». Я часто болела, а из окна на меня тянуло холодом. Когда у меня поднималась температура и болела голова, случалось, меня рвало. Мальчишек это сердило. Сердил и мой горшок под кроватью. Бабушка их увещевала:
– Ну а куда я дену Люську-то? На печку? Так там жарко, а у Люськи свой жар в теле. И на двор она ещё не может бегать. Она маленькая, а вы большие. Вот и терпите, пока она вырастет!
В летнее время мама устраивала нам, малышне, общую постель на полу и укладывала спать всех нас троих. И ничего. Спала я крепко. Ребята из шалости однажды закатили меня, спящую, под кровать на голый пол, и я даже не проснулась, а проснувшись, сначала испугалась, потом заплакала больше от обиды на братьев. Маленькой я росла обидчивая. По словам бабки, то и дело «бутусилась».
Наша комната соседствует с другой маленькой комнаткой, которую мы называем «тёмной», в ней поначалу не было окна. Единственное окно – наверное, то самое, про которое в договоре говорилось, что в нём отсутствуют застеклённые рамы – было заложено досками. Позднее окно папка восстановил, и стали видны школьная изба и площадь, но по традиции название комнаты мы не изменили: она так и называлась всегда – «тёмная». А между тем комната получилась светлой, к окну был придвинут столик, на котором рос столетник в горшке. Столетник, по-другому алоэ, мы называли почему-то «сад». Если случалось заиметь царапину где-нибудь на теле, так и говорили: «Надо помазать «садом».
Дверной проём из нашей комнаты в тёмную прикрывают только шторы из плотной ткани, мама повесила их «для красоты», и шторы обычно не задёргивались полностью. Наш папка во время ремонта дома рассудил, что двери здесь не нужны для лучшей вентиляции маленькой тёмной комнаты.
В этой комнатке спит бабушка, она же приглядывала за нами по вечерам, вставала и ночью, если кто-то из нас болел. И в ногах её железной скрипучей кровати стоит массивный сундук, заполненный разного рода одеждой, скатертями, полотенцами, шторами, тканями. И ещё у печки есть лесенка на лежанку – место очень хорошее для ребячьих шушуканий в зимнюю пору, когда надо было посекретничать и повозиться вне зоны видимости старших.
Из «тёмной комнаты» ведёт очень узкий – только протиснуться взрослому человеку – ход на кухню.
Такая вот «кругосветка» получилась из нашего жилья на верхнем этаже.
Когда родители принимали гостей издалека, мы, ребятишки, любили проделывать такой, как мы говорили, фокус: из кухни заходили гуськом в «мамину» комнату, медленно и степенно удалялись в «нашу», потом, прикрыв двери, стремглав пробегали «тёмную», попадали через узкий ход вновь на кухню и снова степенно шествовали в «мамину». И так несколько раз, пока взрослым не надоедала наша ходьба-беготня по кругу.
…После «кругосветки» верхнего этажа выхожу через кухню вновь в сени. Я упоминала про холодный чулан в глубине сеней. В нём хранились разнообразные бытовые вещи: какая-то рухлядь, бельевые корзины с грязным, предназначенным для стирки бельём, веники, тазики и мочалки для бани, цинковое корыто со стиральной доской, коромысло, верёвки – э, всего не перечислить. В чулане же есть узенькая лестница на чердак дома. Почему-то я боялась лазить туда, и за всё время, пока мы жили в Карасях, ни разу не побывала на чердаке. Наверное, братцы напугали меня какой-нибудь страшилкой про чертей. Они это любили делать. Сами-то они ничего не боялись.
Наш чулан особенный – он сквозной, двери у него с двух сторон. Вторая дверь из него ведёт на то самое парадное крыльцо, упоминаемое в договоре на домовладение. Дверь закрыта изнутри на замок и вот почему: парадное крыльцо отец так и не восстановил, видимо, в связи с перепланировкой жилых помещений наверху. Некоторые ступеньки у крыльца отсутствовали, а сохранившиеся ступени, местами прогнившие, могли под ногами обломиться. В том, что это парадное крыльцо, можно было убедиться по украшенному резными финтифлюшками козырьку над ним. Выход с крыльца «смотрит» на обширную площадь, в центре которой в 30-е годы ещё стояла каменная церковь. Теперь площадь выглядела как большая поросшая мягкой травой поляна – отличное место для ребячьих игр. Совсем близко от нашего дома деревенского вида дом, это школа с единственной классной комнатой, и в этой школе в две смены учились мои братья и я. Вторая школьная изба находилась на другом конце площади. Там мы учились в 3-м и 4-м классах. А школа-семилетка была только за семь километров в Непряхино. Но об этом после.
Я всё-таки приспособила парадное прогнившее крыльцо под свои девчачьи игры. Осторожно поднявшись на него со стороны огорода, я устраивала на сохранившихся ступеньках «выставку» моих сокровищ. В солнечном свете они казались мне действительно сокровищами. Это были найденные по огородам, на улицах, помойках черепки посуды, а также цветные стёклышки. Мы, ребятишки, их называли «сечками». Некоторые черепки от разбившихся фарфоровых чашек или блюдец, видимо, сохранились от былых благополучных для села времён; они были очень красивыми – синими с золотой каёмкой, или красными в цветочках, или белыми в зелёный горошек – и стократно возрастали в цене у нас, ребятни. Эти «сечки» особенно берегли.
Другим любимым моим местом, когда меня почему-то не пускали на улицу, была лавка на площадке крыльца с другой стороны дома. Забравшись на неё с ногами, я пускала с высоты мыльные пузыри и следила, как они, радужно переливаясь, медленно опускались вниз. Братцы научили меня, как можно было использовать для этого дела обычную деревянную катушку от ниток – мы называли её «тюрючок». В отверстие катушки надо было всунуть маленький кусочек влажного мыла, а в баночку или любую подходящую посудинку наливалась мыльная вода. Обмакивая «тюрючок» одним отверстием в эту воду, в другое отверстие надо было несильно подуть, пока не появлялся вначале маленький пузырёк. Продолжая осторожно дуть и медленно покачивая «тюрючок», добивались того, что пузырёк увеличивался всё больше и больше и, наконец, отрывался.
И раз я заговорила про «тюрючок», расскажу ещё об одном его использовании в моих играх. Однажды брат Женька сказал мне:
– Хочешь, я покажу тебе, как сделать радио?
Конечно, я хотела. Всё дело в том, что у нас не было игрушек, но очень хотелось разнообразить свою игру.
Женька взял пустой коробок от спичек, одну горелую спичку и длинную белую нитку, отмотав её от катушки из маминых швейных запасов. В центре крышечки спичечного коробка он продырявил гвоздём небольшое отверстие, через него продел нитку. Затем один конец нитки привязал к спичке, а другой неплотно к «тюрючку». Закрыл коробок крышечкой, при этом спичка с привязанной ниткой оказалась внутри коробка. «Радио» готово. Женька скомандовал:
– Возьми коробок и отойди подальше так, чтобы нитка натянулась. Но смотри, не сильно тяни, а то порвешь нитку.
«Ну и что за радио получилось?» – разочарованно подумала я.
А Женька, предварительно послюнив «тюрючок», стал его вращать. К моему изумлению коробок в моих руках громко затарахтел – ну прям, как радио из чёрной тарелки в нашем клубе! Такие непонятные тарахтящие звуки, бывало, неслись сквозь помехи в эфире. А если нитку натягивать то сильно, то слабо, то и звуки из нашего самодельного «радио» получались разной тональности и громкости.
– Теперь играй сама! – сказал Женька. Закрепил коробок на шпингалете оконной рамы и отдал мне «тюрючок». Женьке надо было бежать на улицу к ребятам.
Наше детское освоенное пространство не ограничивалось, конечно, домом. Ведь был ещё двор. А во дворе сарай и «стайка». В договоре на домовладение сарай назывался «завозней». Видимо, в иные времена, когда в хозяйстве имелась лошадь, туда «завозили» телегу и сани, хранили хомуты и сёдла, там же хранились лопаты и грабли, пилы и топоры, косы и вилы и т. д.
Впервые после скитальческой жизни нашей семьи и проживания в казённых домах у нас появился собственный дом, огород и двор и разного рода живность.
Помню, недолгое время по двору бегали куры во главе с петухом. Бабушка с криком «цап-цып-цып» выносила им корм и ставила тазик с водою. Куры и сами кормились, весь день хлопотливо рылись в мусоре, отыскивая что-то съедобное для себя; склёвывали, набивая себе зоб, и мелкие камешки, а на ночь удалялись на нашест в сарай. Там же, в сарае, куры неслись. Но иногда они – твари такие! – забирались под сарай, пол которого был настлан на каменном подклете, чтобы талая или дождевая вода не заливала сарай. Под сараем куры тоже неслись. В этом можно было убедиться по громкому их квохтанью после того, как яичко «выкатилось» из них. Но как залезть взрослому под сарай, чтобы собрать снесённые яички? А никак. Хоть пол в сарае разбирай. Лазили мы, ребятня. Несмотря на пыль и мусор под сараем, мне это нравилось. Ползёшь на пузе, чихая от пыли, и вдруг видишь сияющее белизной яичко. Бабушка давала мне обычно старую негодную мужскую шапку, и я набирала в неё яички.
Не знаю почему, куриное сообщество в нашем дворе не задержалось. Возможно, в зимнее время в холодном сарае их нельзя было держать, а в доме городить для них клетки было неспособно.
Сравнительно недолго у нас жила коза Манька. Её пахучее молоко мне совсем не хотелось пить, и бабка насильно заставляла меня, «золотушную», выпивать кружку тёплого ещё козьего молока от утренней дойки. Я плевалась и морщилась, но пила. По степени «противности» козье молоко я ставила на второе место после рыбьего жира: фу! До сих пор меня передёргивает от словосочетания «рыбий жир». Даже рассказывать неохота, как я проглатывала ложку этой мерзости.
Козу-дерезу с её рогами я нисколько не боялась из-за её смирного характера. Почему-то бабушка не всегда отпускала козу в деревенское стадо, и коза бродила в нашем дворе – весь двор был засеян её какашками в виде сухих совсем не вонючих шариков. В жаркое время Манька ложилась в тенёчке у плетня и постоянно меланхолично жевала травяную жвачку. Я очень любила играть с козлятами, манькиными детьми, не догадываясь, куда они так скоро исчезают, а у наших кроватей или на табуретках появляются с белой мягкой шерстью коврики из козьих шкурок, и время от времени мы едим варёное и жареное в печке козлиное мясо с картошкой.
Жизнь Маньки оборвалась в то время, когда родители купили у местных башкир корову по имени Флюрка, которая ежегодно телилась и давала много вкусного молока. Корову я побаивалась – уж очень она была большая, и навозные её лепёхи во дворе весьма неэстетично то и дело шлёпались из-под её хвоста на землю и пачкали двор, поэтому, бегая в огород или на улицу, надо было смотреть под ноги, чтобы ненароком не наступить на такую лепёху. Впрочем, взрослые, обычно бабушка, лопаткой закидывала коровьи лепёхи в навозную кучу около стайки, где жила Флюрка.
У Флюрки по весне рождался телёнок, он тоже вносил разнообразие в нашу детскую жизнь. Особенно мне запомнился игручий бычок Борька с боевым характером.
Новорожденный Борька поначалу жил у нас на кухне. Бабушка принесла его на руках совсем беспомощного и уложила на подстилке в углу. Выглядел он жалконько, вставал на дрожащих и подгибающихся ножках. Такого в стайке у коровы нельзя было оставлять. Во-первых, вёсны были холодными, но главным образом, его надо было побыстрее отнять у коровы, чтобы он не привык сосать её вымя. Наша Флюрка была кормящей матерью прежде всего для нас, а не для Борьки. Но и природа запрограммировала Флюрку поначалу на выдачу после отёла «моло´зива», водянистой, синеватой жидкости для новорождённого детёныша-телка. Бабушка сцеживала молозиво в подойник и приносила его Борьке. Пить из ведра он пока не умел. Отлив молозиво из подойника в ведёрко поменьше, бабушка обмакивала свои два пальца и совала их в рот телёнку, создавая ему иллюзию коровьего соска. Он начинал чмокать, тогда бабушка опускала пальцы в ведёрко с молозивом и другой рукой толкала голову телка туда же. Голод не тётка, телёнок вынужден был сосать бабушкины пальцы, какое-то количество молозива попадало ему в рот. Постепенно он привыкал питаться таким вот способом, а бабушка через несколько дней свои пальцы телку уже не давала сосать, просто наклоняла Борькину голову в ведёрко, и он пил, и при этом, наверное, от удовольствия, забавно крутил хвостом туда-сюда и переступал своими крепнущими ножками. Наблюдать за ним мне было интересно. Конечно, он и писался, и какал после еды, бабушка стелила в углу свежее сено, на котором Борька лежал, а рядом ставила «поганую» банку. Когда Борька готовился пустить струю, и удавалось уловить этот момент, то, подставив под его струю банку, не давали ручейку растечься по полу.
Борька рос, питался болтушкой, приготовленной бабушкой из давленной картошки, ещё чего-то с водой, пополам с молоком. Состав и количество Флюркиного молока тоже изменялись, и его могли пить уже и мы. С каждым днём Борька веселел, ему скучно было находиться привязанным в углу. Помнится, однажды он каким-то образом отвязался, я в это время играла в «маминой» комнате, а бабка ушла на улицу. Борька подбежал ко мне и толкнул своей головой в бок: наверно, просто хотел поиграть, но я испугалась, побежала в «нашу» комнату, Борька погнался за мной, я от него – в «тёмную» комнату и там догадалась залезть на печку. Борька смотрел на меня снизу вверх, словно удивляясь: чего это я? Но я просидела на печке, пока не вернулась бабушка.
Тем временем на улице солнышко пригревало, появлялась весенняя молодая травка. Борьку выпускали во двор, от радости бытия он взмекивал и оголтело носился по двору, пока не уставал.
Мы стали замечать, что Борька становится не только игручим, но и бодучим. Разбежится и так наподдаст лбом, что мало не покажется. И было дело, когда бычок повалил брата Женьку во дворе и стал валять его по земле. Женька вопил, но никак не мог подняться. Я, наблюдавшая эту картину через окно из дома, позвала бабку, она схватила подвернувшийся под руку веник и побежала вызволять орущего внука.
Почему-то бычок жил у нас не год, а дольше, и оформившиеся на его голове острые рожки пугали меня. Я боялась выходить во двор одна, когда там бегал непривязанный Борька. И однажды весной коза Манька, находившаяся тут же во дворе, серьёзно была травмирована Борькиными рогами. Она просунула через дыру в плетне голову и стала щипать травку в огороде по ту сторону плетня. Борька подбежал к козе и крепко саданул её рогами в бок. Манька попятилась назад, но запуталась в плетне своими изогнутыми рогами, крутила головой и так и сяк, не могла высвободить свою голову. Борька принял её отчаянные телодвижения за игру и стал бодать её по-настоящему и пропорол рогом Манькин бок. Из широкой раны ручьём хлынула кровь. Бабушка позвала с конного двора ветеринара, тот сердито сказал:
– А что я могу сделать? Видите, кишку видно через рану? Прирежьте козу, не дайте ей помереть плохой смертью!
От Борьки тоже решили избавиться. Его сдали в колхозный «коровий Освенцим». Был такой в Польше лагерь смерти во время войны. У частников в нашем селе скотина нормальная и ухоженая, а на колхозном дворе от бескормицы и болезней наблюдался «большой процент убыли поголовья скота». Колхозное начальство естественно боялось районных комиссий и проверок, поэтому то и дело обращалось к частникам с предложением сдать молодняк за предоставление каких-нибудь услуг.
В нашем хозяйстве вместо погибшей козы завели двух-трёх овец. Нужна была шерсть для носков, варежек и валенок. Помню, как мама или бабушка весной или летом, связав ноги овцы верёвкой и уложив её на бок на подстилку, присаживались на низенькую скамейку и широкими «овечьими» ножницами стригли шерсть. Овца сначала брыкалась, но постепенно успокаивалась. После стрижки смешно было смотреть на её враз похудевшее и голое тело.
Состриженная шерсть широкими полосами выкладывалась под навесом на сухих досках и хорошенько просушивалась. Затем её надо было перебрать, очистить от мусора и пыли, как следует растрепать и проветрить – шерсть делалась пушистой и объёмной. Хранили её у нас в старых ненужных наволочках или в матерчатых мешках.
Шерсть, состриженная с овцы, называлась «весниной» или «летниной», смотря по времени года, в какое она была сострижена: весной или ближе к концу лета. Отличалась такая шерсть длиной волокон и, помнится, такая шерсть по-разному использовалась. Например, какой-то вид шерсти отвозили «шерстобиту», который «катал» на заказ любого размера валенки. Он жил то ли в Непряхино, то ли в Чебаркуле. К нему относились все сельчане с особым уважением, ибо в деревенском быту в условиях холодного климата без валенок никак не обойтись.
Часть шерсти оставлялась для домашнего рукоделия – вязать тёплые варежки и носки. Этим делом в нашей семье занималась бабушка.
И всё же главным нашим приобретением в те годы была корова. Её, 1942 года рождения, родители купили в 1946 году у башкир, поэтому имя у неё было тоже нерусское: Флюрка. Чёрной масти, с белой звёздочкой на лбу. Кормилица наша на долгие годы. Без всего, что она давала нашей семье, нам бы всем пришлось туго, несмотря на работу родителей в Непряхинском рудоуправлении в золотодобыче. А Флюрка ещё и с государством делилась своей молочной продукцией.
По своему малолетству я не интересовалась житейскими вещами. Разбирая бумаги, оставшиеся после смерти родителей, я нашла много любопытного для себя. Казалось бы, что интересного в сохранившихся разного рода квитанциях и справках? Да вот, например, есть документы о нашей корове. Один документ – обязательство, датированное 1947 годом и предписывающее Кузьмину А. А. сдать в колхоз «Красная Армия» в Верхних Карасях за пять летних (дойных) месяцев 130 килограммов молока 4%-й жирности. Ничего себе! 26 кг молока каждый месяц. А в 1948 году за 9 месяцев надо было сдать 5,6 килограмма сливочного масла. Положим, Флюрка выдавала в первозданном виде только молоко и, надо сказать, оно было густое, пахнущее луговыми травами, жирность его была куда выше 4-х процентов. Поставишь молоко стоять в банке, и на поверхности образуется слой сливок чуть не с четверть объёма. Чтобы уложиться в норму 4%, при молокосдаче определяли жирность молока и делали пересчёт. Я помню некое заведение, вроде бы как лабораторию, именуемую в обиходе «молоканкой», на другом краю площади, недалеко от второй нашей школы. Туда и носили молоко, а я бегала смотреть, как работает сепаратор, разделяющий молоко на сливки и «обрат» – обезжиренное молоко.
Ну всё-то от нашей Флюрки шло в пользу. Вот, например, такое неприятное дело – убирать после Флюрки навоз. Причём ежедневно. И чаще всего папка или бабка выкидывали его из стайки широкой лопатой в навозную кучу в углу двора. А когда набиралась высокая горка, кучу куда-то увозили. Часть перепревшего навоза использовалась для устройства парников под огурцы в огороде, а также для удобрения почвы. Надо сказать, земля на Южном Урале и так была плодородная: чернозёмная, жирная. Если бы не короткое лето, воткнутая, как говорится, в землю палка прорастала бы и давала урожай.
Двор отделялся от огорода плетнём. В плетне – калитка. Надо было не забывать её плотно закрывать, чтобы скотина не проникла в огород и не потоптала бы грядки. Но это была лишь часть огорода, засаженная картошкой, и на паре грядок рос лук для летнего потребления в зелёном виде.
Малый огород был отгорожен от большого невысокой добротной каменной стенкой. Часть каменной стенки имела открытый проём, через который можно было пройти в большой огород.
А ещё у каменной стенки в малом огороде находилось очень нужное место – уборная. Только теперь, зная многоплановость нашего дома (бывшая школа и швейная мастерская), я понимаю одну странность уборной: в её удлинённом помещении было четыре «очка» для свершения нужды, и она не запиралась изнутри. Неудобство, потому как, если кто-то шёл по направлению к уборной, надо было голосом дать знать, что помещение занято. Спустя какое-то время отец приделал изнутри железный крючок. А ещё в углу уборной он приделал наклонный жёлоб под пол уборной непонятного мне назначения. Это был примитивный писсуар для мужчин.
Наш большой огород со стороны улицы был отгорожен забором, а от соседских – Селивановского и Булатовых – огородов граница проходила по межам. Большой соблазн для ребятни: этак ненароком забрести в чужой огород и полакомиться соседским овощем – чужое казалось слаще.
Однажды братцы вовлекли меня в это нехорошее дело. Мы поползли на животах между рядами картошки в Селивановский огород, чтобы надёр-гать не росшего у нас турнепса. Захотелось попробовать, что за овощ – этот турнепс. И ведь сошло нам! А вкус у турнепса оказался похожим на вкус брюквы, которая у нас росла. Так что больше мы к Селивановым не лазили. И то сказать: опасно! Увидят соседи – уши надерут. А стыдно-то как будет!
Основные огородные лакомства для нас ребятишек были огурцы, морковь и – о! горох, росший высокой стеной. Для того чтобы закрепить его плети в вертикальном положении, в землю втыкались длинные тычины (палки). Казалось, сколько его ни ешь, стручков меньше не становится. Ну а если надоедало лущить стручки, были ещё и толстые бобы, росшие из экономии места вдоль картофельных посадок. Бобами быстрее наешься. Однако от созревших тёмных бобов во рту оставался неприятный мясистый привкус – много есть бобов не хотелось.
А когда вдоль забора созревали подсолнухи, не было ничего лучше – свернуть головку одному из них, уютно примоститься на лавочке или просто на травке, ладошкой стряхнуть отцветшую шелуху и пожухшие лепестки с корзинки подсолнуха, обнажив попки чёрненьких семечек, и затем выколупывать их по одному и щёлкать, пока не надоест. Обычно не надоедало щёлкать, аж язык начинал болеть, а вокруг тебя, сидящей, образовывался слой выплюнутой шелухи семечек.
Ну и конечно, у кого-то в огороде росли ягоды, но не у нас. За ними бегали в лес, на пригорки. Но об этом после.