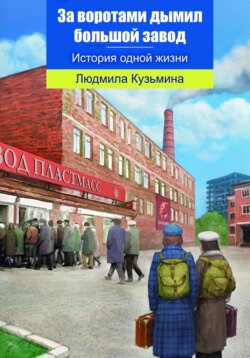Читать книгу За воротами дымил большой завод - Людмила Андреевна Кузьмина - Страница 7
Часть I. ТАГИЛЬСКАЯ ПЕСНЯ
Едем в Москву, потом в Германию
ОглавлениеШла хрущёвская «оттепель», и советские граждане получили возможность выезжать за рубеж. Надо было пройти через партийное сито и разного рода анкетные формальности типа: не был, не участвовал, не привлекался, и чтобы пятый пункт в паспорте желательно был не еврейский, и чтобы социальное происхождение было такое, какое надо. Словом, необходимо было соответствовать нормам, определяемым свыше для советских граждан, которые собираются глянуть на западный образ жизни. Но даже при полном соответствии этим нормам власти давали возможность отправляться простым советским гражданам преимущественно в страны соцлагеря, то есть в те страны, в которых был установлен просоветский режим, находящийся под контролем «старшего брата». У нас ведь была с этими странами «братская дружба», и мы должны были по-братски любить народы этих стран.
Воспитанные советским строем в строгой изоляции от запада, мы были довольно дикими и наивными. За рубежом нас многое удивляло и, главное то, что там люди материально живут лучше, ибо там нет того постоянного товарного и продовольственного дефицита. Двигаясь к сияющим вершинам коммунизма, наша советская власть как бы забыла о людях, мы получали небольшую зарплату, которая хоть и не давала умереть с голоду, но любая дорогостоящая покупка (холодильник, стиральная машина, телевизор, не говоря уж о недосягаемом автомобиле) вызывала напряги в семейном бюджете. Человек, имеющий автомобиль в личном пользовании, относился к высшей элите общества. Это не противоречие. Если ты смог приобрести автомобиль, значит, ты находишься ближе к партийной и чиновной верхушке, пользуешься определёнными льготами и тебе дозволяется то, что не могут себе позволить простые граждане. И, конечно, простые граждане видели такую несправедливость устройства нашего общества, но молчали. «Народ и партия едины, но различны магазины!» – ходило в народе присловье.
И всё же мы были патриотами своей страны, преданными своей партии и правительству, а иначе нас бы и не выпустили за рубеж. Слова «Политически грамотен и морально устойчив» в характеристике, подписанной треугольником предприятия, где ты работал (парторг, председатель профсоюза, твой начальник), были не пустыми словами. За ними стояло многое.
И я готовилась к поездке, не веря в её возможность.
Мой гардероб был настолько убог, что стыдно было показываться в Европе в таком виде. Для выезда за рубеж мне потребовались демисезонное пальто, новые туфли, головной убор (то есть шляпка) и для полноты экипировки – перчатки и сумочка. В марте в Европе уже тепло, в зимней одежде там будешь выглядеть, как чукча с Севера.
Я уговорила Петра сшить ему пальто в том же ателье, где шила одежду и я. Одевался он, на мой тоже отсталый в моде взгляд, просто ужасно. В чёрном долгополом драповом пальто, в зимней шапке он походил на чеховского «человека в футляре».
В магазине ничего нельзя было купить. То, что висело, носить было нельзя даже внутри страны. Выбор тканей для пальто был также очень убог. Но помня, что немцы предпочитают носить всё светлое, я приобрела в магазине дешёвую ткань букле в светло-розовых тонах для себя, а Петру мы выбрали не совсем подходящую для мужского пальто плотную тёмно-синюю ткань с ворсом. Лишь бы не чёрное и тёмно-серое, в чём ходила основная масса советских людей. Мужчины носили ещё брюки с широченными штанинами, хотя передовая молодёжь давно уже влезла в обуженные брючки, носила длинноволосые причёски, за что к обладателю таких брюк и причёсок прилипала кличка «стиляга». Их считали морально неустойчивыми и за рубеж не выпускали.
Волновало и то, что Пётр хотел познакомить меня в Москве, где мы будем проездом, с его мамой. К встрече с нею я внутренне готовилась даже более ответственно, чем к поездке за рубеж.
Не так радужно были настроены мои родители. Они были напуганы моей решимостью. Петра они ещё не знали. В газетах читали о провокациях у Берлинской стены. К немцам по памяти о Великой войне относились с враждебным чувством. Но родители знали, что прямо запретить они ничего уже не могут – я вырвалась из-под их постоянной опеки и жила самостоятельной жизнью. Поэтому они пустили в ход дипломатию. В письмах писали: «У тебя слабое здоровье. Почему бы тебе не взять соцстраховскую путёвку в какой-нибудь южный санаторий? Разве мало прекрасных мест в нашей стране? И чего ты не видела у этой проклятой немчуры?» А я ликовала. Еду! Я столько всего увижу! Ура!
А вот и фигушки! Накануне нашего с Петром отъезда в Свердловск получаю вдруг телеграмму: «В виду того, что тургруппа в ГДР сформирована, вам предлагается поехать в Чехословакию».
Я чуть не плачу. Не хочу и боюсь без Петра ехать в Чехословакию! Пётр не растерялся, позвонил в обком профсоюза, настоял, что я еду от нашего завода именно на Лейпцигскую ярмарку, и меня восстановили. «Вот всегда так: под его надёжной защитой я не пропаду!» – думала я…
Трудно писать о впечатлениях, когда прошло так много лет. За это время наш «нерушимый Советский Союз» распался, а Германия – восточная и западная, наоборот воссоединилась в единое государство.
Вернувшись из ГДР, я сразу взялась за обработку путевых записей, сделанных наспех и воспроизводящих в хронологическом порядке лишь основные этапы двухнедельного путешествия. Мой путевой очерк сохранился, и я не хочу ничего прибавлять или убавлять. Я впервые в жизни попадаю за пределы моей страны и пишу обо всём подробно, ахаю, удивляюсь и восхищаюсь. Мне всё интересно до мелочей! «Пустили Дуньку в Европу!» – смеялся Пётр. Но ведь и он впервые выезжал за рубеж. Просто он мог управлять своими эмоциями, а я нет.
4 марта 1963 г.
Сегодня рано утром мы с Петром выехали в Свердловск.
Обком профсоюзов. 9 часов утра. Все туристы в сборе. В течение двух часов нам читают наставления: как нужно вести себя за границей, как есть, одеваться, переходить через улицу, садиться в автобус. Наставления сдобрены большим числом примеров из истории выездов предыдущих групп. Мол, некоторые несознательные теряли своё лицо, а заодно подрывали престиж нашей страны. Мужчины теряли лицо чаще всего из-за склонности к спиртному. Женщины (О! Женщины!), представьте себе, теряли лицо из-за тряпок, а ещё хуже из-за склонности к свободной любви с иностранными мужчинами. Ужас какой!
Я всё это слушала, чувствуя весёлых чертенят за своей спиной. О нет, ни тряпки заграничные, ни тем более иностранные граждане мужского пола мне были совершенно не нужны. Мне просто весело оттого, что многое я увижу впервые в жизни.
Среди отъезжающих я самая молодая. Группа состоит из 35 человек, среди которых только 7 человек – женщины. Много солидных дядечек, некоторые из них воевали в Великую Отечественную. Часть товарищей – это рабочие. Они едут бесплатно: им поездка предоставлена в качестве премии за ударную работу. Один из рабочих, понизив голос, сказал мне, что лучше бы ему выдали деньги, а он бы провёл отпуск дома, да на речке, да с удочкой, да с заветной бутылочкой, и на фиг ему нужна эта заграница. Интеллигенции, как Петру, например, хоть он и заслуженный изобретатель, бесплатная турпоездка не положена, но справедливости ради нужно сказать, что и нам кое-какая льгота перепала – все путёвки выданы за меньшую стоимость, потому что турпоездка имеет целевое назначение – посетить Лейпцигскую техническую ярмарку и ознакомиться с новейшими достижениями в области техники и технологий. На ярмарку будет отведено целых 6 дней – почти половина всего времени турпоездки. И как участникам этой ярмарки после беседы нам выдали удостоверения и значки, чтобы мы не платили за входные билеты, которые стоят, по нашим понятиям, довольно дорого.
Мы думали, что после столь продолжительной беседы нас отпустят. Не тут-то было. Брошен клич: «Коммунистам и комсомольцам остаться!» Пётр беспартийный – следовательно, свободен. Я комсомолка – следовательно, остаюсь.
Побеседовали о политической обстановке в Европе. Выбрали парторга и комсорга на время нашей поездки. Прикрепили к каждому беспартийному партийного шефа. Я посмеялась про себя возможности быть партийным шефом над беспартийным Петром. Но он старше и опытнее меня и должен присматривать за мной. Вот и будем присматривать друг за другом.
Отъезд в Москву назначен на завтра. Группа выезжает поездом. Пётр, с разрешения руководства, решил вылететь в Москву сегодня же, чтобы успеть побыть в Москве и у его мамы до приезда группы. И, конечно, я тоже лечу вместе с ним.
И вот мы уже в самолёте. Это мой первый полёт в жизни. Чувствую себя маленькой девочкой от телячьего восторга. Никакого страха. Одно любопытство. Прошу солидного дядечку пустить меня сесть к иллюминатору. Он-то, как только занял место в кресле, собрался спать. Ему всё равно где сидеть. Меняемся местами. Взлетаем и набираем высоту. Никаких неприятных ощущений. У меня почти нет барабанных перепонок вследствие перенесённой в детстве болезни ушей, и, видимо, поэтому я не чувствую давления в ушах.
Кажется, самолёт висит неподвижно в воздухе, а далеко внизу плывёт похожая на топографическую карту земля. Вверху бесконечная сказочная синева, при виде которой меня распирает ещё больший телячий восторг и появляется безрассудное желание встать на серебристое крыло самолёта и искупаться в этой синеве. Да где там! Тут же представила высоту в 9 километров и минус пятьдесят градусов за бортом, о которых нам сообщила стюардесса. А скорость какая огромная!
Внизу появились облака. В детстве я часто смотрела снизу на пушистые и снежно-белые облака, и они мне казались вкусными и сладкими, как сахарная вата. Однажды я попросила даже соседку, у которой сын был лётчиком, чтобы он привёз мне кусочек облака. Мой старший брат высмеял меня и сказал, что облако и туман – это одно и то же. Но почему же в какой-то сказке Иванушка ел жареные облака? «Так это же в сказке!» – сказал брат.
Через два с половиной часа стали снижаться. Вижу Москву с птичьего полёта. Пётр комментирует: вон там МГУ, Лужники, вон Москва-река. Центр Москвы скрыт под облаками.
Сели на Внуковском аэродроме. Лёгкий, совсем не уральский морозец. Настроение отличное.
Из окна такси разглядываю Черёмушки, о которых так много пишут и говорят. Знакомлюсь с Москвой. Знакомлюсь с Надеждой Степановной. Немного смущена встречей с нею.
Надежда Степановна нас ждала. Приготовила разные вкусности. Например, поставила на стол огромное плоское блюдо, на котором было что-то сладкое, но непонятное мне. Пётр сразу расцвёл довольной улыбкой: кушанье называлось «Тутти-фрутти». Это нарезанные пластинками свежие фрукты и сухое печенье, залитые сладким молочным киселём с добавлением для аромата ванилина. Любимое с детства его лакомство. Он провёл ложкой черту в середине блюда, обозначив границу, и сказал: «Давай, Люська, начинай есть. Встретимся здесь!» Но ковырнув ложкой несколько раз эту непривычную для меня сладкую массу, я охотно предложила Петру пересечь границу в мою сторону. Рядом стояла большая ваза со свежими фруктами. И это в марте месяце! Яблоки – это ещё ладно. Но сливы! Но груши! Груши я ела только в виде сухофруктов в компоте. Мне 23 года, но я никогда ещё не ела и не видела груши и сливы в свежем виде.
С душевным волнением я ждала вечера. Вдруг Надежда Степановна постелет нам на диване. Я же сгорю со стыда! Но она постелила порознь. И то сказать: комната одна. Петру поставили раскладушку посреди комнаты. Я заняла широкий диван. Надежда Степановна улеглась на привычном своём месте – диванчике поуже.
5 марта 1963 г.
Отправились в парикмахерскую в Столешников переулок. Оказывается, бывая в Москве, Пётр всегда здесь подстригается, и у него знакомый мастер. Я же решила расстаться со своими длинными волосами, но совсем короткую стрижку на первых порах не делать. Оставить длину волос до плеч и уложить причёску «колоколом».
Парикмахерша, отхватив ножницами полкосы, спросила меня о том, хочу ли я забрать с собой свои волосы. Я удивилась: «Зачем они мне?» Другая парикмахерша произнесла загадочные для меня слова: «Счастье тебе привалило сегодня, Валя!» Я решила про себя, что у них, у парикмахеров, примета такая: если приходит женщина с длинными волосами, то это сулит удачу. Но оказалось всё проще. Оказывается, я могла за свои волосы потребовать деньги – они нужны для изготовления париков и их можно продать в мастерскую, где эти парики делают. Я же по своему неведению отдала свои волосы даром. Ну и пусть! Новые волосы отрастут. Буду я ещё продавать собственные волосы! Ещё чего!
Парикмахерша колдовала над моей головой долго. И мне впервые в моей жизни довелось испытать на себе все манипуляции: мои волосы мыли, стригли, сушили, смачивали химическим составом, накручивали на бигуди, снова сушили, расчёсывали, укладывали волосы в причёску. Вроде бы получилось неплохо.
Потом я села за маникюрный столик. Маникюр я уже делала в свои студенческие годы и чувствовала себя уже не так напряжённо. Рядом сидящая чёрненькая девушка спросила меня:
– Вы случайно не из Риги?
– Да нет, – отвечаю. – Я коренная азиатка. С Урала.
А девушка продолжала:
– У вас выговор похож на рижский.
И я подумала: «Ну вот я и приблизилась к Европе, похожа на рижанку и почти парижанка!» Без своих длинных волос чувствую себя «осовремененной».
6 марта 1963 года.
К новой причёске и новому светло-розовому пальто мне потребовались белая сумка и белые перчатки.
День посвятили беготне по магазинам – очень нелюбимому мной занятию. Я впервые в своей короткой жизни в Москве. Мне бы Кремль посмотреть.
Людей на улицах – тьма. Машины идут сплошным потоком. В магазинах не пробьёшься к прилавкам. Боже ты мой! Выручал высокий рост Петра. Ему всё видно.
В такой толчее я быстро устала, раскисла и стала скулить: «Может, плюнем, а?» Но Пётр неумолимо таскал меня из одного магазина в другой, пока мы не купили то, что хотели.
А вечером втроём с мамой Петра смотрели оперу «Обручение в монастыре» Прокофьева в Театре им. Немировича-Данченко. И мне понравилось.
7 марта 1963 года.
Продолжила знакомство с Москвой, в чём мне активно помогал Пётр. Москва мне представлялась ожившей иллюстрацией. Многие здания и даже улицы я узнавала по кинофильмам, телепередачам, путеводителям, открыткам. Не говоря уж о Красной площади и Кремле. Вспомнила даже детский стишок Маяковского: «Начинается земля, как известно, от Кремля».
Сфотографировались на фоне собора Василия Блаженного. Фотографии обещали выслать по адресу прямо в Тагил. Я была одета не в новое пальто, а в плотное, тоже демисезонное, драповое «фенольного цвета» пальто, которое сшила в студенческие годы. Новое пальто лежит в багажной сумке, переоденусь на границе. И была в зимних ботинках с мехом внутри. В Москве пока минусовая погода и холодно.
В Кремль с сумкой не пустили. Надо было сдавать её в камеру хранения, но мы дорожили каждой минутой. Надо было двигаться в сторону «Интуриста», чтобы встретиться там с прибывшей сегодня нашей уральской группой.
В «Интуристе» тоже что-то оформлялось, но что – я не знала. Этим занимался Пётр, а я стояла в сторонке и глазела по сторонам.
В 16.45 по московскому времени – отъезд с Белорусского вокзала. В нашем распоряжении ещё четыре часа. Покупки все сделали. Бежим в Третьяковку. И по Третьяковке бежим. Картины мелькают. Пётр выполняет обязанности гида. Он бывал в галерее много раз в свои студенческие годы. Делаем остановки только у очень известных картин. Они мне кажутся на самом деле очень знакомыми по репродукциям в журналах и в альбомах.
Время промелькнуло быстро, и мы полетели домой: надо успеть пообедать и попрощаться с Надеждой Степановной.
На вокзал явились за десять минут до отхода поезда. Разволнованное нашим отсутствием начальство посмотрело на часы и затем укоризненно на нас. Обосновались в купе. С нами едут молодые супруги Шишко из Свердловска – Ваня и Ира. Симпатичные люди, и с ними у нас сразу возникли хорошие доверительные отношения. Вот только Ира чихала и кашляла. Это пугало.
Рядом с дверью нашего купе висит табличка с обозначением станций, через которые мы проедем. Вот они – этапы большого пути: Москва, Вязьма, Смоленск, Орша, Минск, Барановичи, Брест.
«От Москвы до Бреста нет такого места, где бы ни бывали мы с тобой» – пропелись во мне симоновские слова из фронтовой песенки. А вот и не бывали. Нигде-то я не была.
А дальше! О! Заграница! Тересполь, Варшава-Гданьска, Познань, Куювице, Франкфурт-на-Одере, в 0.40 прибываем в Берлин.
Время, естественно, московское.
Европейскую часть СССР я не увижу. Ехать будем ночью.
У меня вертится в голове мысль, что эти станции на самом деле являлись этапами большого пути. По этим дорогам, неся смерть и разрушения в 41-м, двигались к Москве фашисты. Потом отступали в 44-м и в 45-м. Будем надеяться, что история не повторится.
Видимо, такие мысли возникли не у меня одной. Наш руководитель извлёк из чемодана карту военных лет. Вокруг него быстро собралась группа бывалых людей. «Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, где вместе рубились они», – подумала я строчками из стихотворения Лермонтова «Бородино».
Затем заговорили о загранице вообще. А я слушала и не слушала. Захотелось спать. Нырнула в купе на свою нижнюю полку и крепко заснула до самого Бреста.
8 марта 1963 года.
Утром проснулась оттого, что в купе вошли солдаты. Проверка документов, осмотр багажных ящиков. Чемоданы почему-то не проверяли. Нам выдали таможенные декларации для заполнения. Все изделия из золота и серебра, а также часы следовало указать. У меня ничего такого не было. Свои никелированные часы, подарок брата Женьки, оставила в общежитии. «На рояле» – следовало бы пошутить.
Ира внесла в декларацию своё обручальное золотое кольцо, а сосед по купе зафиксировал в декларации мельхиоровую чайную ложечку. Мне весело от всех этих действий.
Поезд встал на час. За это время нужно было сделать отметку в паспорте и обменять деньги. Этим занялся Пётр. Меня же он усадил на вокзале с наказом ждать его. Хотелось побывать в легендарной Брестской крепости, да за час нам не управиться.
Вокзал, по моим понятиям, был большим, а людей на нём в этот утренний час мало. Я села напротив какой-то старушки и стала глазеть по сторонам. Почему-то все маленькие худенькие старушки – а эта оказалась именно такой – очень любят поговорить. За 15 минут она успела рассказать всю свою жизнь от самого рождения до сегодняшнего дня. Причём инициатива исходила от неё самой. Говорила она со страшной скоростью да ещё с белорусским выговором. Пока я доходила до смысла рассказываемого, язык старушки обрабатывал уже следующие две-три мысли. Я узнала, что она живёт в деревне и сейчас едет в Минск на свадьбу к младшему сыну, который там служит и который женился на маленькой девушке, а сам очень высокий, а жить теперь будет у неё.
– Вот не знаю, какой подарок купить к свадьбе. По нонешним модам не угодишь. Купила дочке платье. Не стала носить – не модно, говорит. А дочка-то у меня… – и она перешла к характеристике дочки.
Спрашиваю:
– А муж-то есть у вас?
– А кто его знает? – получаю неожиданный ответ. – Он сбяжал от меня после войны. Шлялся по партизанским отрядам, привык бродяжничать, так и отбился от дома. Да я и не жалею. Пить бы начал. Толку от него никакого, только лишняя забота.
Узнала я и про эвакуацию, и про то, что после войны её потянуло в родную Белоруссию. Словом, передо мной прошла целая жизнь. И узнала я нечто не по литературным меркам и потому непривычное для меня: оказывается, участие в партизанской борьбе приучает к бродяжничеству и вольной от семьи жизни. А кроме того, жители, оставшиеся на оккупированной немцами территории, больше боялись появления в деревне партизан, чем немцев, потому что за связь с партизанами немцы могли спалить всю деревню вместе с жителями.
Тут ко мне подбежал комсорг нашей группы и взволнованно прокричал:
– Что же вы тут сидите? Мы вас везде ищем. Поезд сейчас отправится.
Я подхватилась и побежала вслед за комсоргом, удивляясь, почему Пётр не пришёл за мной.
Поехали дальше. Через пятнадцать минут снова остановка. Снова проверка документов. На этот раз польскими пограничниками.
Смотрю в окно. Вокзальные постройки мало отличаются от наших, зато люди, в основном солдаты и железнодорожники, одеты по-польски. Глупая мысль: а как же они должны были быть одетыми, раз они поляки? Трое дядечек в железнодорожной форме, похожие на Швейка, приветливо машут руками и улыбаются мне с платформы. Один при этом шутливо прижимает руку к сердцу, уморительно морщится и качает головой. Я смеюсь и тоже машу им в ответ. Мне приятно, что я отмечена мужским взглядом.
Поехали дальше. В Тересполе вышли на перрон. Небольшой вокзал. Стены его выложены серыми и красными плитками абстрактной формы. Несколько хорошеньких полек. Носильщики кричат зазевавшимся пассажирам: «Увага!» (Внимание, мол, поберегись!)
К сожалению, остановки слишком короткие, и мы видим Польшу в основном из окна несущегося вагона.
Вдоль железнодорожного полотна тянется шоссе, по которому снуют в обоих направлениях машины разных марок. В марках машин я не разбираюсь. Пётр обращает моё внимание на наши «Волги», которые здесь называются «Варшавами».
Чем дальше мы мчимся на запад, тем чаще попадаются дома, которые у нас не встретишь. Особенно отличаются по архитектуре польские церкви («костёлы» – поправил меня Пётр): островерхие, с высокими крышами и узкими окнами.
Тянется равнина. Кое-где появляются островки леса, небольшие хутора. В общем-то ничего необычного. И тем не менее ни на минуту не забываешь, что это – заграница. Вот по дороге едут повозки, или, попросту говоря, такие же телеги, как и у нас, но на колёсах у них надеты резиновые шины и поэтому они не производят такого грохота, как у нас.
Снегу мало. И зелёная трава проглядывает кое-где. А ведь начало марта сейчас. Вроде бы рановато появиться траве. Небо серое, затянутое сплошной пеленой.
Приближаемся к Варшаве. В Бресте в наш вагон сел молодой парень, поляк, говорящий по-русски. Говорит, что возвращается домой из Ленинграда. Держится свободно, раскованно, но не развязно. Во всех его жестах и поведении видна культура и воспитанность – не то что у наших ребят, которые не умеют держаться. Справедливости ради сказать, ведь и мы, русские девчата, в поведении не европейки. Нас никто не учил хорошим манерам и обращению. Я вот чувствую себя несколько зажатой.
Вдали сквозь дымку показался шпиль высотного здания, построенного нами, советскими, в дар польскому народу. Говорят, поляки это здание не любят за то, что оно не вписывается в архитектурный стиль Варшавы и является чужеродным телом в облике города.
Очертания незнакомого города всегда притягивают. Парень-поляк, словно угадав наше желание, говорит, что с удовольствием показал бы нам Варшаву, если бы мы располагали достаточным временем.
Поезд остановился. Мы вышли на перрон. Парень не спешит выходить. Достаёт папиросы и, как истинный джентльмен, предлагает их вначале женщинам. К такому мы «не привыкши».
Проговорили мы, видимо, долго, потому что к нашей группе подошёл поляк-железнодорожник и на смешанном польско-русском языке объяснил нам, чтобы мы поспешили пройти в вагон.
Я заняла ставшее привычным для меня место у окна. Пока поезд набирает скорость, успела понаблюдать заоконный пейзаж. Ничего особенного. Тянется пустырь. Много разрушенных ещё со времён войны домов. Но совсем рядом растут красивые современные дома. Вот только как они строятся? Почему-то почти не видно подъёмных кранов.
Познань. Время летит не так быстро. От остановки до остановки проходят долгие часы, которые мы коротаем за разговорами, едой (что-то страшно много едим – от скуки, что ли?). Целый день по радио слышна эстрадная музыка. Поют в основном мужчины. Ведь сегодня женский праздник 8 Марта. В нашем вагоне семь женщин-туристок, и одна женщина едет с мужем и маленьким сыном в Германию. Муж у неё военный. Все восемь женщин ждут организованного поздравления, но мужчины что-то не спешат.
Познань, быть может, имеет сходство с нашим Таллинном, в котором я не бывала, но видела на открытках и в кино – такие же дома, с высокими крышами и узкими окнами. Узкие улицы. Очень чисто. Вот идёт трамвай. Пётр просит обратить внимание на какие-то вертушки на крыше. Вентиляция, вероятно.
К вечеру среди мужчин стало заметно какое-то движение. Наконец из коридора донёсся зычный призыв нашего руководителя Александра Никифоровича: «Прошу всех выйти!»
Мы, женщины, собрались в одном конце коридора, мужчины – в другом. Начинается торжественная часть: речи, поздравления. Каждой женщине вручена поздравительная открытка с автографами всех мужчин. А в заключение мы получили общий подарок: бутылку вина, яблоки, конфеты, вафли – всё это в полиэтиленовом пакете, о котором было сказано, что в состав подарка он не входит, а посему его следует вернуть владельцу. Нам, женщинам, хорошо понятно, как нелегко было мужчинам наскрести даже столь скромное угощение. Я, например, узнала бутылку вина, которую мы с Петром припасли на всякий случай, выезжая из Москвы. Что ж! Мужчин можно извинить. В Польше за неимением злотых они ничего не могли купить. Со своими неконвертируемыми рублями мы оказываемся за рубежом почти что нищими.
Поблагодарив мужчин за внимание и заботу, мы, женщины, забились в купе. Пьём, поём, болтаем. В наш гарем время от времени очень деликатно вмешиваются мужчины. Скромно постучавшись в дверь, то один, то другой подбрасывает нам то бутылку пива, то просто бутылку минеральной воды.
Вот опять кто-то совсем уж тихо скребётся в дверь купе. Открываем. У двери стоит самый маленький мужчина, 4-летний Сашенька. В руках у него два яблока, которые он тут же от смущения роняет. Тихим голоском лепечет заученную фразу: «Дорогие женщины! Поздравляю вас с праздником». Мы пришли все в состояние полного умиления. Разговор пошёл на семейные темы, о детях. Выяснилось, что у всех женщин, кроме меня, дети есть. Я тихонько выскользнула за дверь и удалилась в своё купе. За окном уже темно. Забираюсь на вторую полку и проваливаюсь в сон. И вдруг сквозь сон слышу чистую немецкую речь. Мы в Германии. Франкфурт-на-Одере – пограничный город между Польшей и ГДР. Немецкие солдаты-пограничники проверяют наши документы, и мы снова укладываемся. Засыпаю не сразу. Мне до невозможности весело оттого, что всё происходящее похоже на сон и я еду в Германию. Если бы моё настроение полностью отражалось на лице, то у меня была бы самая ликующая физиономия на свете.
Примерно через два с половиной часа по вагону, словно ветер, проносится одно слово: Берлин!
И вот он вокзал – Остбанхоф. Не успели выйти из вагона, услышали: «Здравствуйте, дорогие товарищи!» Нас встречает представительница «Интуриста» Елизавета Александровна Олборт, женщина средних лет, подвижная и бойкая. Смеётся: «О, здесь столько му´жчин (с ударением на слоге «му»), так я немного смущаюсь». Она чешка по национальности и говорит не совсем правильно по-русски.
Садимся в автобус. Водитель Отто, высокий худощавый немец, приветствует нас. Мы направляемся в отель «Адлон». Несмотря на то, что очень хочется спать, с интересом смотрим в окна. Город освещён слабо. Совершенно не видно людей – это и понятно: сейчас глубокая ночь. Елизавета Александровна сообщает нам названия улиц, по которым проезжаем. Чем ближе к границе между Восточным и Западным Берлином, тем больше попадается разрушенных ещё с войны домов. В темноте, с пустыми глазницами окон, они выглядят жутко.
Отель «Адлон» находится слева от Бранденбургских ворот. Совсем рядом граница и Рейхстаг, принадлежащий сейчас англичанам. Жилых домов почти нет, а когда-то это был самый центр и средоточие гитлеровской власти.
Отель был самым фешенебельным, в нём останавливалась высшая знать Европы, включая императоров. После капитуляции Берлина в 1945 году здание было занято советскими солдатами и полностью сгорело во время пожара. Сохранился только один флигель, который подремонтировали и приспособили под гостиницу. Здесь нас и поселяют. Лифт не работает. Мы получаем комнаты на втором и третьем этажах. В номерах есть все удобства. Оставляем свои чемоданы и спускаемся вниз в ресторан на ужин. Лёгкая закуска: двух сортов колбаса, ветчина, половинка яйца, посыпанная красным перцем, какая-то штучка из желе, консервированная рыба. Хлеба достаточно много, но он невкусный и чёрствый, словно из опилок. Из питья нам приносят пиво и лимонад.
Кроме нас, в зале никого нет. Даже официанты удалились в соседнее помещение. Оттуда доносится вдруг оглушительный звук чихания – А-а-а-пчхи! Я от неожиданности испуганно ойкнула, а за столом рядом ребята восторженно отреагировали на этот чих: «Вот это по-нашему!»
После объявления программы на следующий день расходимся. Очень хочется спать. Кровать в номере великолепная. Можно лечь хоть вдоль, хоть поперёк. Вместо одеяла пуховая перина. Ох и посплю я!