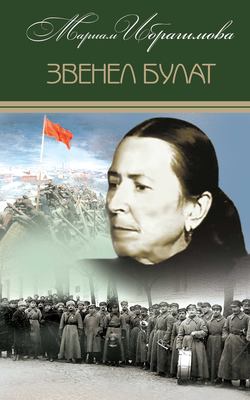Читать книгу Звенел булат - М. И. Ибрагимова - Страница 4
Звенел булат
Документально-историческая повесть
Глава вторая
ОглавлениеТемир-Хан-Шура – захолустный губернский городок в Дагестане. Расположен среди отлогих возвышенностей в котловине. На северо-западе, у края обрывистых нагорий, над речушкой Шура-Озень стоят красные кирпичные здания – северные казармы. Рядом белый одноэтажный дом с колоннами у парадного подъезда – резиденция губернатора. Ряд казарменных зданий высится на юго-восточных плоскогорьях. На полпути от тех и других казарм, утопая в зелени акаций, раскинулся городок. Разделённые узкими улочками, тесно лепятся друг к другу кирпичные дома под железной кровлей, саманные домики. На южной окраине глинобитные домишки с плоскими крышами.
Центральная улица – Аргутинская. Начинаясь от губернаторского дома, она тянется чуть ли не до южных казарм. В центре города улица образует площадь, посредине которой высится церковь. В районе площади и на Аргутинской находятся дома местной знати, административные учреждения, реальное училище, театр.
На восточной окраине города расположен вокзал. Отсюда берёт начало Вокзальная улица, что тянется до Церковной площади. Первая улица, пересекающая Вокзальную, – Дербентская. Здесь расположены постоялые дворы, небольшие домишки, жестяные, лудильные, шорные мастерские. Тут же недалеко Базарная площадь с длинными рядами мелких лавчонок и огромным, мрачным зданием пассажа, складские помещения, чайные, духанчики. Лавчонки кустарей-ремесленников тянутся и на прилегающих к базару улочках.
От города радиально расходятся крупные и мелкие дороги в разные стороны. В базарные дни по дорогам и тропам пешие, верхом и на скрипучих арбах спешат на базар толпы разноплемённого люда из окрестных и дальних аулов.
Оставив в вагоне семью и Джавада, Манаф и Дауд отправились в город подыскивать квартиру. Очутившись на знакомой Дербентской улице, Манаф решил заглянуть в первую попавшуюся жестяную мастерскую. Каково было его изумление и радость, когда он увидел старых друзей – Гаджи-Магому с Абдуллой. Они тоже были не менее обрадованы. Когда Манаф сообщил Гаджи-Магоме о смерти отца, старик, сложив ладони у лица, прочёл заупокойную молитву.
Невзирая ни на какие просьбы и уговоры, старый жестянщик не отпустил гостей. Пока он угощал кунаков чаем, Абдулла обегал соседние постоялые дворы и домовладельцев. Скоро он вернулся и сообщил, что недалеко, в доме лакца Сулеймана-Хаджи, на втором этаже сдаются две комнаты.
Гаджи-Магома сам повёл кунаков в мануфактурную лавку, где чаще всего бывал хозяин дома. Сулейман-Хаджи оказался на месте. Он отдавал какие-то распоряжения приказчику. Когда вошли посетители, хозяин повернулся к ним. Это был высокий, ещё не старый человек, в тёмной одежде, в чёрной папахе, повязанной белой чалмой. Он сухо ответил на приветствие вошедших. Манафа поразило белое, каменное лицо с тёмными, как глубокий омут, холодными глазами. Тонкие губы с плотно стиснутыми зубами окаймляли выкрашенные хной жёсткие усы и бородка. Сурово сдвинутые чёрные брови сходились у переносицы.
С каким-то тупым самодовольством цедил он сквозь зубы скупые слова. Прежде чем вести в дом, Сулейман-Хаджи с ног до головы измерил критическим взглядом квартиросъёмщиков, спросил о численности семьи, возрасте детей и лишь после этого повёл показывать квартиру.
Дом Сулеймана-Хаджи занимал чуть ли не полквартала. Это было двухэтажное кирпичное здание. Двадцать больших комнат на втором этаже, пятнадцать на первом, не считая подсобных помещений и лавок. Большая застеклённая веранда квадратом охватывала небольшой мощённый крупными каменными плитами двор. Хозяин с семьёй и состоятельные квартиросъёмщики занимали комнаты на втором этаже.
В помещениях первого этажа ютились бедные, многодетные семьи татов. Домом управляла властолюбивая старуха – мать хозяина Хаджи-Катун. На зов сына она вышла в чёрной кашемировой шали, сверх которой вокруг головы была обвязана белая материя, – знак паломничества к святыням ислама в Мекку. Из большой связки ключей, висевших на поясе, выбрала нужный, отвязала, отперла дверь. Как удивительно похожи мать и сын, подумал Манаф. Старуха первая перешагнула через порог и стала с видом человека, знающего цену своим владениям. Просторные комнаты, высокие потолки, большие окна понравились Дауду.
– Я согласен, – сказал он и протянул хозяину авансом требуемую квартплату. Сын передал деньги матери.
Когда они ушли, Манаф сказал:
– Эта старуха не Хаджи-Катун, а Шайтан-ханум, а сын её настоящий Аглархан.
Гаджи-Магома с сыном помогли Дауду перевезти семью. Тюки Манафа сложили у себя. Устроив семью, Дауд решил с Манафом и Джавадом съездить в родной аул и вернуться через неделю.
Помещение для пошивочной мастерской Дауд подобрал в лавочном ряду, на улице Вокзальной, напротив своей квартиры.
Гаджи-Магома предложил Манафу использовать часть просторного помещения своей мастерской под лудильную и в том же доме, где жил сам, нанял комнату для Манафа. Джавад думал, что и на его родине с установлением народной власти наступит мир. Земли, пастбища отберут, раздадут бедным людям поровну, и не нужно будет его старшему брату скрытно заниматься рискованными делами. Но в первый же день приезда он был огорчён хабарами Гаджи-Магомы. Они были неутешительные.
– Неспокойно у нас, – рассказывал старый рабочий, – местные богатеи не хотят слышать о советской власти. Не отдадут подобру свои владения, не уступят власть. «Мы не должны быть подвластны каким бы то ни было правителям и законам страны неверных. Мы мусульмане, для нас пророком утверждены законы шариата», – говорят они. После отречения царя возникли милли-комитеты, которые решили взять на учёт земли, леса, зимние пастбища и сдавать их в аренду нуждающимся, сократив права владельцев. А те, что идут против шариата, требуют насильственным путём передавать всё богатство народу, отобрав его у владельцев. Вот уже скоро год, как продолжаются споры между сторонниками народной власти и шариатистами. Одни и другие устраивают сборища людей, проповедуют свои убеждения, призывая идти по пути, избранному согласно пониманию цели.
– Отец, а тебе известны имена тех, кто призывает к народовластию? – спросил как-то Манаф.
– Много их, и мусульман, и русских. Своих знаю поимённо и с какого племени, рода могу сказать. Вижу часто, типография рядом, одни заходят, другие там работают.
– А кто же главный среди них?
– Не поймёшь, вроде по-своему каждый главен и учён, а там Аллах их знает.
– А ты, отец мой, кого больше знаешь?
– Махача знаю, аварец он, сын Дахада из Унцукуля.
– Учёный?
– Да, в России учился строить железные дороги. В царском городе жил, там женился на внучке Шамиля, что от Магомеда-Шафи рождена.
– А что он делает сейчас в Шуре?
– Заводик у него здесь маленький, кинжалы изготовляют, но последнее время забросил его. Занимается формированием революционных отрядов.
– Молодой?
– Не стар, умён и храбр.
– Ещё кого знаешь?
– Уллубия знаю, местный кумык из Уллу-Бойнака. Говорят, он здесь окончил реальное училище, после учился в русском городе, хотел стать законоведом. Учёбу не закончил. Есть и твой земляк – Саидов, их несколько братьев. Старший, Бадави, в канцелярии туринского генерал-губернатора служил, а младший, Гарун, сначала здесь в русской школе учился, позже в Россию уехал. Сюда вернулся недавно. Здесь в типографии работает, газету выпускает – «Илчи». Призывает народ к захвату казённых и частных земель, обвиняет шариатистов в избрании неверного пути. Непонятно получается – два брата от одной матери, от одного отца – один сторонник господства имущих, другой за равенство и свободу всех людей выступает.
Многое узнали Манаф и Джавад в первый вечер приезда в Шуру. Старый жестянщик оказался в курсе всех событий, происходящих в городе. Безграмотный рабочий рассуждал о политике, высказывал свои мнения как убеждённый сторонник народной власти.
…Сразу же по возвращении из аула Манаф пошёл в типографию, познакомился с Гаруном Саидовым. Черноглазый, жизнерадостный, как сама молодость, Гарун пришёлся по душе Манафу.
Менее приветливо протянул молодому лудильщику руку оказавшийся в кабинете Саид Габиев. Сухощавый, невысокого роста Саид чисто говорил по-русски. Он горячо спорил о чём-то с Гаруном и наконец, хлопнув дверью, ушёл.
– Откуда он? – спросил Манаф у Гаруна.
– Из Кумуха, уздень. Родился в Сибири, учился в Петербурге, там первым начал издавать газету «Заря Дагестана».
– Родился в Сибири?
– Да, родители его вместе с другими горцами, восставшими в семьдесят седьмом году, были высланы из Кумуха. Помнишь песню? – Гарун тихо запел:
Что за пыль там на дороге,
Что за люди там идут?
Провожают их в тревоге,
Мол, погиб Кази-Кумух…
Кончив петь, Гарун задумался, затем сказал:
– Будь с нами, время горячее, опытные люди нужны. Большевистская фракция Порт-Петровского Совдепа по примеру питерцев недавно создала Военно-революционный комитет.
– Кого избрали председателем?
– Уллубия Буйнакского. Слыхал о нём?
– Да, немного.
– Большевик, отличный товарищ. Задача – создание красногвардейских отрядов, национализация фабрик, заводов, рыбных промыслов, конфискация помещичьих земель. Мобилизация сил, сбор средств для покупки оружия, агитация устами убеждённых людей.
– Севастопольские товарищи подарили мне оставленное ранее для хранения оружие. Я привёз его с собой. Часть из личного арсенала я могу выделить для вас.
– О, это будет замечательно. Мы вооружим всех большевиков, газетчиков и служащих типографии.
– Когда можно доставить?
– Друг мой, я сам забегу к тебе, скажу, когда и как это можно сделать.
Декабрьские холода. Серебристый иней покрыл голые ветви акаций. Длинные ночи траурной шалью окутывали притихший город. Короткие серые дни будили грусть.
Проходя как-то по улице, Манаф показал Джаваду угловой дом, полутораэтажный фасад которого обращён на Аргутинскую улицу.
– Дом лакца Абиссинского.
– Почему Абиссинского, это же не мусульманская фамилия?
– Фамилия ему дана по названию далёкой страны, где жил он с отцом, братьями. Говорят, один из родственников достиг там чина министра монетного двора. А этот вернулся на родину, купил здесь дом.
Джавад с любопытством рассматривал большое одноэтажное здание, занимавшее целый квартал. Увидел, как из ближайшего парадного подъезда вышли два молодых человека. Один невысокого роста, в папахе, суконном пальто. Второй светлее и выше ростом, с тонкими чертами лица, в фуражке и студенческой шинели. Первый поздоровался с Манафом.
– Кто он? – спросил Джавад.
– Лакец Саид Габиев, в этом доме живёт.
– Второго не знаешь?
– Знаю, но незнаком с ним.
– Вспомни, на кого он похож? – спросил Джавад.
Глядя вслед уходящим, Манаф ответил:
– Не помню.
– На товарища Олега похож этот русский.
– Он кумык, Уллубием зовут, – пояснил Манаф.
– Кумык? – удивился Джавад.
– Кем он работает, учёный, наверное?
– Да, учёный, важные дела делает.
– Наверное, так.
Саид с Уллубием поднялись к Церковной площади и, свернув налево, направились к Вокзальной улице. Так вот он какой, Уллубий…
Недолго сиживал Манаф и в шуринской мастерской. Как и в Севастополе, он то исчезал, не появляясь весь день, а то и по несколько дней подряд пропадал где-то. За Джавада был спокоен. Гаджи-Магома относился к нему так же, как к собственному сыну Абдулле.
Некоторые члены облисполкома, обеспокоенные переворотом в Петрограде и действиями большевиков в Порт-Петровске, для укрепления своего положения объявили на десятое января 1918 года созыв Третьего съезда дагестанских представителей. За несколько дней до начала съезда стало известно о том, что в Шуру движутся многочисленные отряды чалмоносцев во главе с новоявленным имамом Нажмутдином Гоцинским и шейхом Узуном-Хаджи.
На Дербентской улице, от которой начиналась дорога, ведущая в горы, было оживлённо. Несмотря на зимний холод, мастеровые и лавочники по несколько раз в день бегали к постоялым дворам, подходили к едущим на линейках, в скрипучих двухколёсных арбах, спрашивали, что слышно в горах, зачем идут аскеры Гоцинского в Шуру. Не мог усидеть и Гаджи-Магома в мастерской:
– Эй, курдаш[4], ты из какого аула?
– Из Верхнего Казанища.
– Тогда проезжай, ты не можешь знать того, что происходит выше Казанища.
– Эй, кунак, счастливого пути, откуда едешь? – спрашивал Гаджи-Магома очередного путника.
– Из Кадара.
– Ты видел Нажмутдина из Гоцо с аскерами?
– Видел, в Дженгутае они.
– В Шуру собираются?
– А ты что, собираешься в гости звать его к себе? – ответил вопросом на вопрос весёлый верховой.
– А как же, барана приготовил, угощать буду.
– Потерпи малость, сегодня вечером доест в Дженгутае бычка, завтра до твоего барашка доберётся.
Старик возвращался в мастерскую, придвигал треножку к мангалу[5], грел озябшие руки.
– Гости, значит, у зятя, – бормотал он.
– Кто? – спросил Джавад.
– Нажмутдин.
– Дочь за дженгутайцем?
– Нет, сестра.
– А ты знаешь Гоцинского?
– Как не знать соплеменника? Не только в Аварии, весь Дагестан знает его.
– Большой человек?
– Очень. Выше меня на две головы, а толще раз в десять.
– Сильный, значит? Расскажи о нём, – попросил Джавад.
– Расскажу, коли интересуешься. Человек может стать известным и влиятельным, если обладает большим умом или состоянием. Нажмутдин – человек богатый, учёный-арабист. Покойный отец мой был мюридом Шамиля. Он близко знал Доного-Магому, отца Нажмутдина. Рассказывал, что не отличался Доного-Магома мужеством, храбростью. Зато хитрости, коварства в нём было хоть отбавляй. Смелость его заключалась в заносчивости перед теми, кто стоял ниже. Угодничество перед возвышенными доходило до самоунижения. Обладая этими свойствами, честолюбцы и властолюбцы иногда достигают высокого положения. Достиг своей вершины и Доного-Магома.
Назначил непревзойдённый, доверчивый имам Шамиль его наибом в нашем обществе. Достигнув власти, Доного-Магома предал забвению законы шариата. А в те времена изустные законы наиба и хана имели силу большую, нежели царские или предписанные Кораном. Никто не мог противостоять безапелляционному суду местных владык. За правдой ходить было далеко. Вначале Доного-Магома делал вид, что служит верой и правдой великому имаму. Но когда звезда громкой славы и блестящих побед Шамиля стала клониться к закату, переменился и Доного. А в критические дни, когда преданный печалям и молитвам вождь горцев устремился к последней твердыне – Гунибу, Доного не только предал его за ломаный грош царским властям, но и поднял оружие против того, кто дал ему власть и состояние. В награду за такое предательство Доного был назначен наибом округа. Бедный отец мой говорил: «Не пойдёт впрок богатство, облитое слезами и кровью ограбленных». Но Аллах миловал разбойника. Дожил Доного-Магома припеваючи до конца дней своих. Живёт сейчас сын его, пользуясь незаслуженной славой. Учили Нажмутдина в медресе. Оставил ему Доного в наследство тысячи голов скота, обширные пастбища, богатые кутаны.
Нажмутдин унаследовал от родителей властолюбие. Ещё до отречения российского пачи – царя от престола связался он через послов своих с турецким султаном, помощи у него просил, хотел захватить власть во всём Дагестане. У султана, видимо, были свои намерения, не помог Нажмутдину. Но всё-таки богатым не только Аллах, вся нечистая сила помогает. Какие бы ни происходили перемены во власти, избирают Нажмутдина в советники, возводят в чины, даже не видя его лица.
Избрали его членом исполкома в Шуре. На большом совете кавказской знати во Владикавказе назначили его муфтием[6] Северного Кавказа и Дагестана. Летом в Анди[7]собрались шейхи, кадии, муллы из Дагестана, Чечни и сказали Нажмутдину: «Будь нашим имамом». У народа не спросили. Да стоит ли спрашивать тех, кто из-за куска хлеба становится на сторону силы. Далеко пойдёт сын Доного. Для его чрева мало одного округа, он способен поглотить целые страны.
– Не проглотит! – воскликнул Джавад. – Подавится, если захочет проглотить.
Гаджи-Магома поднял голову на парня. Сощурив глаза, он внимательно оглядел его, словно видел впервые. Может быть, сказанные твёрдо, с уверенностью слова пробудили веру в пророческие слова отца: «Не пойдут впрок богатства, облитые слезами и кровью народа».
– Не те времена, отец мой, – стал пояснять Джавад, боясь, что бросил фразу в тоне непозволительном при разговоре со старшими.
На улице послышался шум. Прервав разговор, собеседники стали прислушиваться. Шум доносился со стороны базара. Вскоре можно было расслышать цоканье множества копыт. Абдулла, Джавад, за ними старик, накинув шубы, поспешили на улицу Лавочники, мастеровые толпились у дверей, раскрытых калиток. Со стороны Гургул-аула, ближайшей окраины Шуры, бежали любопытные дети, за ними взрослые.
Заворачивая с Базарной улицы на Дербентскую, ехал, растянувшись, большой отряд конников, за ними ряд за рядом, строй за строем, стараясь бодро отбивать шаг мягкими чарыками[8], из которых, ощетинившись, торчали пучки сена, шагали пешие. Шли люди в сапогах и в ботинках с обмотками. В кожаных куртках, шинелях, полушубках, ватниках, в бурках.
– Валлах, – сказал Гаджи-Магома Мелиху – шорнику-еврею из соседней мастерской. – Они идут на войну с мюридами Нажмутдина.
– Хорошо, что идут, пусть лучше подерутся там, за городом, лишь бы не здесь, злоба глаз не имеет, при больших драках и мирным попадёт.
– Зачем войну затевать? Тем более зимой. Сидели бы в своих аулах, ели бы кукурузные галушки с курдюком, нет же, надо идти на город, думают, что здесь им позволят делать что захотят. Эти поднялись, – кивнул Гаджи-Магома на красногвардейцев, – чтобы не пустить мюридов.
Старик не заметил, как, отделившись от одного отряда, сбоку подошёл к нему человек в сапогах, папахе, овчинном полушубке.
– Отец!
Старик обернулся. Перед ним стоял Манаф. Джавад, увидев брата, подбежал к нему.
– Присматривай за парнем, не отпускай от себя никуда! – сказал Манаф Гаджи-Магоме.
Не успел старик открыть рот, как Манаф, придерживая рукой кобуру маузера, побежал догонять свой отряд.
– Ах, волчий сын! Ах, разбойник! Куда идёт, зачем идёт? Ну подожди! – хмуро ворчал старик, глядя вслед отряду Джавад подумал о Дауде, которого побаивался. Как ему объяснить, куда делся Манаф? А если он видел его в отряде? Теперь понятно было Джаваду, где пропадал Манаф с утра до вечера под предлогом того, что в мастерской всё равно мало работы.
Наступила ночь. Джаваду не спалось. Он с беспокойством ворочался с боку на бок, прислушиваясь к каждому шагу, к каждому шороху. Вдруг послышались за дверью шаги. Кто же это может быть? Три лёгких стука в дверь. Джавад вскочил. Он знал: это был условный стук брата. Открыл. Действительно, это был Манаф.
– Вернулся! – обрадованно воскликнул Джавад и тут же спросил: – Кушать хочешь?
– Нет, хочу спать. – Манаф сбросил полушубок на пол и лёг.
Как хорошо, как спокойно на душе, когда он здесь, рядом, думал Джавад, прислушиваясь к шумному дыханию уснувшего брата.
– Вах! – воскликнул удивлённо Гаджи-Магома, увидев рано утром на пороге мастерской Манафа. – Победили или спину показали?
– Ни того ни другого не сделали.
– Вернулись, значит, ну и хорошо, – сказал старик, – в мирном деле меньше бед. – Помолчав немного, спросил: – Кто вас собрал, кто был головой отряда?
Манаф, не ответив, заулыбался.
– Знаю кто, Махач, – ответил сам на свой вопрос старик.
– А ты откуда знаешь?
– А на старости лет я стал лучше видеть, кто и что делает.
– А кто такой Махач? – спросил Джавад.
– Я же рассказывал, – пояснил старик, – из Унцукуля, учёный, инженер, железные дороги строит. Какие хабары в той стороне? Не повернул обратно Нажмутдин со своими аскерами?
– Нет, говорят, сюда собирается на съезд, часть войск вернул в горы.
– Кто-нибудь из ваших был в Дженгутае?
– Об этом сказал Махачу один из членов исполкома, которого специально посылали из Шуры на переговоры с Гоцинским.
– Исполкомовцы боятся, наверное, новоявленного имама?
– Вероятно, – ответил Манаф и продолжал: – Человек этот возвращался, когда мы расположились на возвышенности Балык-баш. Было решено заночевать там, окопались, развели костры. Исполкомовский посланник уверил Махача в мирных намерениях Гоцинского. К тому же повалил снег, поднялся буран. Махач дал приказ вернуться в Шуру, разойтись по домам.
– Хорошо сделал, – сказал Гаджи-Магома, – напрасная была затея. Не устояли бы вы против сил имама. Один проезжий рассказывал, что войска его в дженгутайских домах не помещаются, все сеновалы, буйволятники заняли.
– Сила у него большая, что и говорить, – пробормотал Манаф.
Когда первый луч солнца заиграл на матово-перистых рисунках замороженных стёкол, Манаф припаивал донышко медного кувшина.
– Идут! Идут! – донёсся в это время громкий крик с улицы.
Бросив на пол паяльник с кувшином и накинув старый кожух, Манаф выбежал на улицу. За ним последовали Гаджи-Магома, Абдулла и Джавадхан. Протяжные монотонные возгласы «Ла илаха иллаллах»[9] с нарастающей силой доносились со стороны Дженгутайской дороги. С шумом стали распахиваться ставни окон, створы дверей и калитки. С заспанными лицами, с вытаращенными от удивления и испуга глазами жались горожане у стен домов, у ворот. Из города навстречу имаму с хлебом-солью вышла делегация от исполкома и богатых горожан. Вскоре вдали показалась тёмная движущаяся масса. Над ней на фоне синего неба и заснеженных гор гордо реяли зелёные знамёна ислама.
Первой вступила в город сотня всадников на великолепных конях. Чёрные черкески с серебряными газырями, высокие папахи, повязанные кусками белой материи. С плеч развёрнутым крылом ниспадали длинноворсные, широкополые андийские бурки. Оголённые лезвия шашек, как обрывки молний, сверкали, поднятые в руках. Цоканье копыт заглушалось звуками священного псалма – зикры. Это был головной отряд. За ним последовал второй. Отличные скакуны красочно одетых мюридов двигались, приплясывая под визгливые звуки зурны и сухую дробь барабана. Потом появилась пара рысаков, тяжело кативших фаэтон с откинутым верхом. В нём сидели двое, поразительно контрастные по внешности.
Один из них гигант в высокой папахе бухарского каракуля, обвязанной чалмой. Заняв почти всё сиденье, он утопал в меховой шубе, покрытой тёмным сукном. Широкое белое лицо, чёрные брови, тяжёлые веки над тёмной щелью полузакрытых глаз. Это был Нажмутдин Гоцинский. Откинувшись на спинку, он сидел неподвижно.
Рядом в высокой, как ассирийский тюрбан, папахе, тоже обвязанной чалмой, примостился низенький человек. Закутавшись в бурку, он, как диковинный птенец, нервно тряс головой; его выпуклые глаза глядели то с надменным самодовольством на простых смертных, то с собачьей покорностью на своего господина. Этого карликового роста духовного предводителя войск имама Гоцинского звали иронически шейхом Узуном-Хаджи, что означало «Длинный Хаджи». Узун-Хаджи был правой рукой имама.
Перед фаэтоном ярко разодетые нукеры туго натягивали уздцы кабардинских чистокровок. За фаэтоном на крупной серой лошади ехал великан. В вытянутой вперёд руке он держал знамя пророка, на котором была изображена звезда с полумесяцем.
– Вах! – с удивлением сказал Джавад, толкнув локтем в бок старшего брата. – Ты видишь?
– Вижу, – сухо ответил Манаф.
Джавад впился глазами в широкоплечего румяного черноусого седока. Морозный ветерок, теребя зелёное полотнище знамени, забрасывал его на зонт фаэтона.
– Это же Али-Кылыч! – воскликнул Гаджи-Магома.
Манаф, опустив голову, вошёл в мастерскую, боясь встретиться взглядом с известным борцом, который объехал почти всю Европу. А Джавад не отрывал от него глаз, пока Али-Кылыч не скрылся в рядах, ушедших вперёд.
За колонной замыкающих конников двигалась серая толпа оборванцев, с ног до головы закутанных в овчинные шкуры. Полуголодные фанатики, вооружённые дешёвыми кинжалами и дубинками, с перекинутыми через плечо пустыми хурджинами, входили в город. Когда хвостовые колонны подходили к базару, головной отряд от Церковной площади двинулся вниз по улице Аргутинской. Фаэтон имама остановился у здания исполкома.
Председатель исполкома после приветствий и обмена рукопожатиями любезно предложил Гоцинскому расквартировать отряды в южных и западных казармах города.
Шейх Узун-Хаджи успел пересесть из фаэтона на своего коня. Горделиво откинув назад несоразмерно большую по сравнению с туловищем голову, визгливым голосом командовал, направляя отряды в одну и другую стороны.
Фаэтон Гоцинского в сопровождении нукеров и нескольких лиц в офицерских мундирах, поднимая тучи пыли, подкатил к особняку известного в городе инженера Кваршалова.
…От Гаджи-Магомы Манаф узнал, что Али-Кылыч в последнее время жил с семьёй в Шуре.
– Если тебя интересует, могу показать дом, это недалеко от Церковной площади, почти рядом с особняком Абиссинского.
– Мы можем пойти к нему, – обратясь к брату, сказал Джавад.
– Зачем?
– За долгом.
– Нет, я не пойду. Порядочный должник сам разыскивает того, кому должен.
– О каком долге идёт речь? – спросил Гаджи-Магома.
Манаф объяснил ему, как, живя в Севастополе, одолжил борцу Али-Кылычу пять червонцев.
– Что ж, не мешает напомнить, – сказал старик.
– На эти вещи у меня есть свой взгляд, – решительно ответил Манаф.
Ярко светились в этот вечер окна одного из туринских особняков. Сквозь густую сеть белоснежных гардин виднелась большая керосиновая лампа с матовым абажуром, висящая над круглым столом. На столе были расставлены бутылки. Рядом с хрустальными бокалами струился в пепельнице дымок дорогих папирос. За столом, оживлённо беседуя, сидела группа офицеров.
Среди них особенно обращал на себя внимание высокий, стройный, с широкими плечами мужчина средних лет, с волевыми чертами смуглого сухощавого лица. Он часто поднимался из-за стола, сверкая чёрными глазами, оживлённо жестикулируя рукой, что-то рассказывал. Это был хозяин дома – полковник Магомед Сафаров. Кавалер четырёх Георгиевских крестов, прославившийся ещё в Русско-японскую войну, аварец из селения Кудали Гунибского округа, он был женат на русской. Образованный человек, сын зажиточного узденя, он был известен не только как отчаянный храбрец, но и как кутила. В этот беспокойный для жителей Шуры вечер ему было о чём побеседовать с друзьями. Несмотря на приглашение городских властей, на поклон к Гоцинскому он не пошёл.
– Ей-богу, этот арабист, возомнивший себя имамом, довольно смешон. Но не менее смешны пресмыкающиеся перед ним исполкомовцы, – рассказывал Сафаров.
– Да, но ты, Магомед, забываешь, что исполкомовцы, запутавшись в этой неразберихе, считают более благоразумным опереться на него как на силу, надёжную в борьбе с большевизмом, – перебил Юсуп Алибеков.
– А разве у нас нет сил? – Отвечая на свой вопрос, Сафаров стал перечислять: – Артдивизион с двумя батареями, шестнадцать орудий, двести пятьдесят человек прислуги – раз. Русский пехотный полк – два; две маршевые сотни 2-го конного полка – три; две маршевые сотни 1-го конного полка – четыре; целый гарнизон в тысячу четыреста штыков и сабель, не считая офицеров. Разве этого мало?
– Я вполне согласен, – сказал Алибеков. – Одним залпом из трёх орудий можно было рассеять мюридов Гоцинского, не допустив в город.
Сафаров задумался и добавил:
– Но тем не менее не надо забывать о сложных межнациональных отношениях в нашей стране. Задача – объединить силы для борьбы с общим врагом – большевиками. Пусть большевистская Россия живёт сама по себе, а наша горская республика сама будет решать свою судьбу.
Противопоставляя военную силу состоящую из регулярных войск, беспорядочному сброду имамистов, Сафаров был прав. Если бы не эта сила, властолюбивый Гоцинский одним мановением руки покончил бы с Шуринским исполкомом. Честолюбивый, он был польщён встречей и вниманием, оказанными ему исполкомовцами.
До начала съезда дагестанских представителей Гоцинский решил собрать у себя офицеров. Генерал Халилов, полковник князь Нухбек Тарковский, Алибеков, Сафаров и другие толпились в гостиной Кваршалова в ожидании имама. Им было сообщено, что достопочтенный имам не окончил трапезу.
Дверь в гостиную, наконец, широко распахнулась. В неё с трудом протиснул свою тушу Гоцинский и, сделав несколько лёгких кивков, профланировал мимо с медным кувшином в руках, направляясь в уборную.
Высокий, худощавый генерал Халилов, с заискивающей улыбкой, отвесив поклон в пояс, вышел во двор, вслед за Гоцинским.
– Ну, как ты смотришь на это? – обратился Сафаров с усмешкой к Тарковскому, кивнув в сторону Халилова.
Тарковский спокойно развёл руками.
– А я считаю это унизительным. Мне здесь делать нечего. – Сафаров направился к парадной двери.
За ним последовал Алибеков. Он догнал Сафарова на улице.
– Видел, до чего дошёл генерал? Перед кем?! Этот Гоцинский не мог справиться с ролью начальника Самурского округа и с треском был уволен губернатором.
Сегодня мы будем кланяться ему в пояс, а завтра он заставит башмаки на его ноги натягивать. И мы, офицеры, это терпим. Тьфу! – плюнул с раздражением Сафаров.
Алибеков шёл молча. Они направились вниз по Еврейской улице. В самом конце её жил Юсуп. Вдруг их внимание привлекли вооружённые солдаты, которые направлялись к пустующему зданию бывших кавалерийских конюшен, расположенных недалеко от дома Алибекова.
– Что это значит? – спросил Сафаров, с удивлением разглядывая серую толпу.
– Красногвардейцы, – ответил Алибеков и взволнованно продолжал: – Мне кажется, Дахадаев, Буйнакский и ещё кто-то вошли во двор.
– Значит, часть Петровского гарнизона большевики прислали для устрашения чалмоносцев, – заключил Сафаров.
В Петровске действительно стоял крупный гарнизон пехоты, артиллерии и матросов. Петровский Совдеп, в котором большевики, рабочие и солдаты имели решающее слово, опирался на эту силу. В этих полках, да и в Шуринском пехотном полку были созданы полковые комитеты.
После отречения Николая II от престола полки решили никому не присягать. Но те, что составляли гарнизон Шуры, невольно сделались опорой Шуринского исполкома. А те, что в Петровске, стали в основном на сторону большевиков. Но и те и другие в одинаковой мере могли оказать сопротивление имаму. Гоцинский знал об этом и потому ограничился, видимо, мирной демонстрацией своих сил. Приход красногвардейских частей из Петровска обрадовал население, ибо в них видели простые горожане надёжную защиту.
К полудню у здания городского театра собралась огромная толпа. Она запрудила все прилегающие улицы.
Люди выглядывали из окон, теснились на балконах. В толпе были Гаджи-Магома, Манаф, Абдулла и Джавад. По Аргутинской шли члены правительства, представители местной знати, интеллигенция.
Внимание Джавада особенно привлёк Махач Дахадаев. Он шёл в сопровождении русского мужчины, которого назвали Гоголевым. Они шли, улыбаясь, лёгким кивком приветствуя знакомых. То же самое они сделали, проходя мимо Манафа, что дало возможность Джаваду лучше разглядеть лицо Махача.
Имам Гоцинский, окружённый конными нукерами во главе с Узуном-Хаджи, важно развалившись на сиденье фаэтона, подъехал к театру. Фанатичный шейх, нервно мигая, вертел, словно на шарнирах, голову то в одну, то в другую сторону. Он думал, что народ встретит имама и его шейха возгласами приветствий. Но ничего подобного не случилось. Равнодушная толпа шуринцев, не скрывая обывательского любопытства, таращила глаза, раззявив рты, то на имама, сидящего в фаэтоне, то на шейха, казавшегося в седле меньше своей папахи. Быстро спешившись, два нукера помогли Гоцинскому выйти из фаэтона. Покраснев то ли от стыда, то ли от возмущения, не глядя ни на кого, он поднялся по ступеням. Нукеры последовали за ним. Джавад успел заметить, как спорхнул, словно воробей, с коня Узуна-Хаджи. В толпе его не стало видно.
– Вон Коркмасов, кумык из Кумторкалы, ты знаешь его? – спросил Гаджи-Магома, коснувшись руки Манафа.
– Знаю немного.
Джавад бегающими глазами смотрел на проходящих мимо, ища кумыка.
– Где Коркмасов? – спросил он, обращаясь к старику.
Гаджи-Магома указал пальцем в спину прошедшего мимо. Джавад, увидев человека в европейской одежде, воскликнул:
– А я подумал, что он русский.
Сказав что-то Гаджи-Магоме, Манаф отошёл в сторону. Джавад заметил его в толпе среди тех, кто пытался протиснуться в двери театра.
Время клонилось к полудню. Народ постепенно расходился.
Положение в городе было тревожным. Стало известно, что ночью были разграблены продуктовые и мануфактурные склады богатых торговцев и туринский пассаж. Частники бросились с жалобами в исполком. Там отметили, что ведётся расследование и поиск грабителей.
Утром в мастерскую Гаджи-Магомы пришли два человека. Один оказался рабочим кинжального завода Махача, второй – печатник Шуринской типографии. Пошептавшись с Манафом, ушли. Манаф, накинув ватную куртку, сунул за пазуху пистолет, последовал за ними.
Обеспокоенный Джавад побежал за братом. Шёл он держась далеко, стараясь быть незамеченным. Манаф подошёл к дому Махача, оглянулся по сторонам, видя, что никого нет, вошёл в калитку. Джавад продолжал стоять за углом, наблюдая издали. Через определённые промежутки времени один за другим заходили во двор люди. В смотровом окне чердака дома мелькнуло лицо человека. «Что это значит?» – подумал Джавад. Вокруг никакого шума, ничего подозрительного.
Вдруг со стороны шоссе показалась группа всадников. Они остановились недалеко от дома Махача, разделились на четыре группы, разъехались и стали на подступах к дому с четырёх сторон. Это были конники Шуринского гарнизона. Вскоре распахнулись ворота дома. Со двора выкатил фаэтон, в нём сидел Махач. Джавад узнал его. К фаэтону поспешил грациозно сидевший на лошади офицер. Наклонившись с седла, он о чём-то поговорил с Махачом. Махач пожал ему руку, фаэтон тронулся.
Мимо дома проскакало несколько всадников из войск имама. Прошла группа пеших чалмоносцев во главе с Али-Кылычем. Они покосились на кавалеристов гарнизона и прошли мимо. Долго ждал Джавад, но из ворот никто не выходил. Озябший и проголодавшийся, он вернулся в мастерскую, рассказал всё, что видел, Гаджи-Магоме.
– Значит, там что-то ожидается, – пробормотал старик.
Не вытерпев, Джавад ещё раз сбегал к дому Махача. Всё казалось спокойным. Конников не было. Через некоторое время возвратился Манаф.
– Где ты был? – спросил Гаджи-Магома.
Манаф стал рассказывать:
– Когда Гоцинскому и Узуну-Хаджи стало известно о речах, произнесённых Махачом в казармах, где разместились мюриды, имам и шейх пришли в ярость. Имам, вызвав к себе Али-Кылыча, сказал: «Нам стало известно, что этот унцукульский безбожник Махач, не ограничившись богохульством и антишариатскими выпадами на съезде, обошёл жилища наших воинов и произнёс речи, целью которых было противопоставление правоверных своим светским и духовным предводителям. Нам известно также, что его дом стал логовом гяуров, к которым он давно примкнул, очернив доброе имя предков. Это логово необходимо разорить, самого предать позорной молве».
Узнав об этом, кое-кто забеспокоился. Даже исполкомовцы боялись, что нападение на дом Махача может вызвать волну возмущения народа и стать поводом для столкновения и кровопролития. Они вызвали полковника Сафарова, предложили ему выставить на подступах к дому вооружённую охрану, а большевики, не доверяя ни тем ни другим, решили охранять дом изнутри.
– Вы слишком хорошо охраняли дом Махача днём, а на ночь, когда опасность более вероятна, ушли.
– Не беспокойся, отец, сила у нас немаленькая. Смена не менее надёжная засела на чердаке и в саду.
Шуринский базар все эти дни пустовал. Лишь воины имама выходили сюда, чтобы продать своё тряпье и награбленное имущество.
В мастерской работы не было. Гаджи-Магома, боясь отпустить ребят одних, следовал за ними по пятам.
Однажды их привлёк шум на базарной площади. Держась подальше от толпы, они подошли к месту сборища. И каково было удивление Джавада и других, когда они увидели искажённое злобой лицо Али-Кылыча. Потрясая мощным кулаком, он говорил:
– Мусульмане, облачённые в одежду гяуров, не мусульмане. Горцы в чине царских офицеров – не горцы. Дагестанцы, укрывающие в своих домах гяуров, – гяуры! Невзирая на сословие и положение, их нужно разоблачать. Начинать можно и с таких, как Нухбек Тарковский. Кумыкский князь, полковник царской службы, делает вид, что сочувствует нам, а на самом деле укрывает в доме семейство гяуров во главе с бывшим шуринским генерал-губернатором! Если не верите мне, пойдёмте в его дом, я вытащу их на улицу и докажу свою правоту и неверность того, кто дал неверным убежище.
Беспорядочная толпа чалмоносцев хлынула вверх по Базарной улице, вышла на Церковную площадь и направилась к дому Тарковского. Али-Кылыч был впереди. Но дом Нухбека Тарковского оказался оцепленным вооружённой охраной конников. Али-Кылыч, умерив пыл, замедлил шаг. Подняв руку, он остановил фанатиков недалеко от дома. Сам тяжёлой поступью медведя-шатуна направился к командиру охраняющего дом отряда и спросил:
– Вы мусульмане или гяуры?
– Мусульмане, – ответил сотенный.
– Кого охраняете, мусульман или гяуров?
– Мусульман.
– Нет, гяуров, – возразил раздражённо Али-Кылыч.
– Разве вам не известно, что это дом Нухбека Тарковского?
– Нам известно, что в доме Нухбека прячутся урусы.
– Частный дом – крепость хозяина, – ответил сотенный.
– Крепости непокорных и неверных берутся штурмом!
– Штурм можно отразить! – дерзко воскликнул сотенный.
Во время этого разговора прискакал на лошади Сафаров. Сотенный, козырнув, доложил полковнику о случившемся. Обращаясь к Али-Кылычу, Сафаров, иронически усмехнувшись, сказал:
– Друг мой, ты славишься силой физической, но как борец должен знать, что для успеха в борьбе одной силы недостаточно, нужны техника и разум. Я, человек военный, пропитанный пороховым дымом, не рекомендую тебе слепо следовать приказам тех, кто толкает тебя на дела, не обладая знаниями рядового солдата.
– Что вы хотите этим сказать? – спросил Али-Кылыч.
– Хочу предупредить, что в случае недозволенных действий встретите противодействие. Советую вам увести эту толпу и передать Гоцинскому, что в доме Тарковского действительно гостит русский генерал с семьёй. По законам гостеприимства хозяин обязан защитить гостей как членов собственной семьи, невзирая на их вероисповедание.
– Я служу имаму и выполняю его распоряжение так же, как и вы выполняете приказы тех, кому служите, – ответил Али-Кылыч.
– Ваш имам, посылая вас, не руководствуется шариатом. Его цель – личная месть. Так вот, пойдите и доложите ему, что гостящий у Тарковского генерал ничего общего не имел с тем, который уволил Гоцинского с поста начальника Самурского округа. Ваши предводители заверяли, что пришли сюда с миром, так пусть с миром и уходят туда, откуда пришли.
Али-Кылыч, исподлобья глянув на пикеты конников, сказал:
– Придётся доложить.
Сафаров с насмешливой улыбкой козырнул. Медленно пошёл вверх по тротуару Али-Кылыч. Толпа чалмоносцев последовала за ним.
Чистым пухом покрыла зима липкую грязь шуринских мостовых, потемневшие крыши и чёрные ветви деревьев, словно сквозь крупное сито просеивало небо белую крупу. На окраинах города было пустынно. Лихо гарцевавшие по улицам аскеры войск имама вернулись в казармы и, зябко кутаясь в бурки, вспоминали родные очаги, пропитанные запахом чеснока и вяленой баранины.
В доме Магомед-Мирзы Хизроева, что находился в конце Шуринского бульвара, было уютно, тепло. Собирались гости. Прислуга хлопотала на кухне. Молодая жена играла на рояле. Кунаки расположились на широкой тахте, в мягких креслах. Грустные звуки старинной горской мелодии сменялись зажигательным ритмом лезгинки. Здесь были Уллубий Буйнакский, Казбеков, Саидов, Захарочкин, Батырмурзаев.
– Махач, видимо, не придёт, его нет дома. Прошу к столу, – любезно предложил Магомед-Мирза.
Ужин длился недолго. За столом сидели одни мужчины. Предупредив прислугу, чтобы в комнату никого не пускали, Магомед-Мирза плотно прикрыл двери.
– Слово предоставляется председателю Петровского военно-революционного комитета. – И Магомед-Мирза посмотрел на Уллубия Буйнакского.
– Дорогие товарищи, – начал говорить Уллубий. – Прежде всего должен передать вам приветы от петровских друзей – Ермошкина, Котрова и других. Во-вторых, спешу доложить, что дела у нас идут относительно неплохо.
Как вам известно, после долгих колебаний городская дума отпустила нам пятнадцать тысяч на содержание вооружённых отрядов Красной гвардии. Этой мизерной суммой мы не могли ограничиться, решили взять средства у богатых. Наложили четыреста тысяч рублей контрибуции. Тут они и подняли вопль. Но члены Военно- революционного комитета действовали решительно. Деньги хотя и силой, но собрали. Это и встревожило городскую думу, особенно некоторых членов исполкома. Нас поддерживают Грозненский и Бакинский Советы. Задача – неотложно формировать гвардейские отряды. В агитации за новую власть широко использовать обращение Ленина к россиянам.
Воспользовавшись минутой молчания, Казбеков сказал:
– Сейчас нужно приложить все усилия для предотвращения столкновений с отрядами Гоцинского. Насколько мне известно, в этом отношении Дахадаев и все присутствующие здесь принимали возможные меры.
– Совершенно верно, – подтвердил Хизроев. – По крайней мере, на сегодня ни одного пешего аскера имама не осталось в городе. Начали разбегаться и всадники. Говорят, что Гоцинский намерен уйти, оставив здесь своего шейха с небольшим отрядом конников.
– Ему ничего не остаётся делать, – вставил Гарун Саидов.
– А как вам понравились соглашательские речи Темирханова? – спросил Казбеков.
– В отношении солдатского комитета? – уточнил Хизроев.
– Да.
Уллубий повторил фразу, сказанную Темирхановым на съезде: «Вмешательство солдатского комитета в наши дела, с точки зрения самоопределения, мы считаем обидным».
На лицах сидящих появились улыбки.
– Всем было ясно, что это клевета, – сказал Батырмурзаев.
Начал говорить Саид Габиев:
– Услуга, которую оказывает нам русский народ в борьбе с контрреволюцией, неоценима, но отношение к солдатам Шуринского гарнизона со стороны многих членов исполкома прямо-таки враждебное. Не знаю, насколько достоверно, но полковник Арацханов проговорился в своём кругу о необходимости разоружения и роспуска пехотного полка и артдивизиона.
– Ничего удивительного, – сказал Уллубий. – Революционно настроенные солдаты русского гарнизона – плохая опора контрреволюции. Они это прекрасно понимают и будут так же, как и мы, стремиться умножать свои силы за счёт более надёжных воинов.
– Вряд ли им это удастся, – сказал, поднимаясь со стула, Магомед-Мирза.
Он прошёлся по комнате, стал у буфета:
– Вопрос «Кто кого?» остро стоит не только между большевиками и контрреволюцией, но и внутри последней. Гоцинского ненавидят контрреволюционная верхушка исполкома и местные офицеры. Гоцинский, если бы мог, уничтожил бы тех и других. Вы слышали, наверное, о столкновении Нажмутдина Гоцинского с Кайтмасом Алихановым в Хунзахе?
– Нет, расскажите, – не скрывая любопытства, попросил Уллубий.
– Полковник Алиханов, георгиевский кавалер, герой Русско-японской войны, тоже считается крупным овцеводом в Аварском округе. Правда, он менее богат, чем Нажмутдин, но более известен как человек умный и мужественный. Скрытая вражда из-за пастбищ, а в последнее время из-за влияния и власти в округе привела их к окончательному разрыву.
Избрание Нажмутдина имамом взбесило Кайтмаса. После Февральской революции Кайтмас, подчинив себе гарнизон Хунзахской крепости, не стал никого признавать.
Нажмутдин, возомнив себя духовным предводителем Дагестана, решил совершить разведку в Аварском округе и, прежде всего, объявил о своём намерении посетить Хунзахскую мечеть. Услышав об этом, Кайтмас немедленно отправил связного с письмом к Гоцинскому, в котором писал: «Нажмутдин из Гоцо, после салама предупреждаю тебя, что ты можешь прийти в Хунзах навестить родственников и помолиться, если имеешь желание. Но знай, что ни один из твоих мюридов не будет допущен в Хунзах. Если они покажутся, дорогу преградим силой».
Обозлённый Нажмутдин, собрав мюридов, пошёл на Хунзах. Кайтмас выставил на возвышенностях дороги вооружённые посты. Как только мюриды стали приближаться, хунзахцы дали залп. Нажмутдин вынужден был вернуться.
– Значит, обошлось без кровопролития? – спросил Уллубий.
– Нет, это не всё, – продолжал Хизроев. – Через несколько дней Нажмутдин внезапно появился в Хунзахе с верными ему нукерами. Подъехал прямо к мечети, помолился, а после молитвы обратился к джамаату со словами: «Мусульмане, известно ли вам, что здесь правит гяур, служивший нашему поработителю – русскому царю? Выражая свою преданность ему, он до сих пор продолжает носить золотые погоны и побрякушки, дарованные ему в награду за верную службу Неужели среди вас не осталось мужчин, достойных звания правоверных мусульман? Изгоните его и внедрите шариат вместо царских законов».
Кайтмасу тотчас доложили. Он быстро явился к месту сходки, встав перед Нажмутдином, сказал:
– Я вижу, тебя тяготит обилие употреблённой пищи, ты не знаешь, как освободиться от нечистот! Ты изрыгал их на меня в моё отсутствие.
С этими словами седой полковник бросился на имама.
Аульские старики кинулись разнимать их. Между сторонниками того и другого произошло серьёзное столкновение, не обошлось без жертв.
Хизроев закончил свой рассказ.
Почти каждую пятницу Манаф с Джавадом заходили к Дауду. В один из таких дней жильцов верхнего этажа дома Сулеймана-Хаджи привлёк шум, доносившийся со двора. Все кинулись к окнам веранды. Во дворе была настоящая свалка. Дрались женщины. Старухи и дети вопили.
Манаф тоже стоял у раскрытого окна веранды, но не смотрел на происходившее внизу. Его взгляд был устремлён в противоположную сторону, где, прильнув лбами к стёклам, с интересом смотрели вниз четыре дочери Сулеймана-Хаджи. Старшая, на которой остановил лукавый взор Манаф, вдруг подняла глаза. Встретившись взглядом с Манафом, она стыдливо опустила голову. Манаф почувствовал прилив тёплой струи к сердцу.
Тут же прекратился шум во дворе. Манаф глянул вниз. Жильцы первого этажа, как вспугнутая стая птиц, разлетелись кто куда. Манаф увидел, как, гордо неся чалмоносную голову, с одеревенелым в суровости лицом, шел по двору Сулейман-Хаджи.
Как выяснилось позже, драка между женщинами произошла из-за очереди у курука – печи, где ежедневно пекли хозяйки плоские лепёшки.
Манаф продолжал стоять у окна в надежде, что девушка выглянет вновь. Но вместо неё появилась Хаджи-Катун. Она подбоченилась и с победоносным видом стала у окна.
В доме Сулеймана-Хаджи рядом с квартирой Дауда жил с семьёй кумык Бийакай. Работал он секретарём туринского шариатского суда. Бийакай был учён, имел право носить почётное звание хаджи, как человек, совершивший паломничество в Мекку.
Это был единственный жилец в доме, к которому суровый Сулейман-Хаджи и не менее суровая Хаджи-Катун относились как к равному. Только к нему день в день, час в час не являлась высокомерная старуха, не становилась безмолвно в ожидании, как ханша, требующая дани от подвластных. К каждому квартиросъёмщику она заходила только раз в месяц в послеобеденное время, если до того не была уплачена квартплата. Бийакай составлял исключение во всех отношениях. Ему Сулейман-Хаджи подавал руку, а Хаджи-Катун каждую пятницу подносила несколько пресных лепёшек. Их связывал совместный хадж в Мекку.
Бийакаю было известно всё, чем жил и чем живёт в настоящее время Сулейман-Хаджи. С Даудом Бийакай был в добрососедских отношениях. Манафу добродушный кумык понравился с первого взгляда. Он стал захаживать иногда к гостеприимному юристу.
– А старшая дочь у хозяина недурна собой, – сказал Манаф Бийакаю в тот день, когда увидел её впервые.
Сосед, хитро подмигнув, ответил:
– Что хороша, то хороша, но ты не разжигай огонь в своём сердце, толку не будет…
– Как сказать… – ответил Манаф.
– Ничего не сделаешь. Канарейку из клетки, сколько ни летай вокруг, орёл не унесёт.
На другой день, сидя у Дауда, Манаф вновь заговорил:
– Не знал я, что у Сулеймана такая красивая дочь.
– А что бы ты сделал, если бы знал? Что можешь сделать теперь, зная? – спросил Дауд.
Манаф молчал.
– Не собираешься ли посвататься?
– А почему бы и нет?
– Сам пойдёшь или акушинских белобородых пошлём?
– При моём положении можно рассчитывать только на самого себя.
– Попробуй.
– Попробую. Клянусь Аллахом!
– Ты шутишь или всерьёз?
– Всерьёз.
– Ну-ну, попытайся, может быть, богач Сулейман ждёт, когда к нему явится хутынский голодранец-лудильщик.
– Ты забываешь, брат, что есть не только богатые женихи, но и смелые мужчины.
– Смелой дури в тебе хоть отбавляй, – начал серьёзно Дауд. – Я не раз говорил и повторяю: занимайся своим ремеслом и веди себя как положено юноше.
– Разве я веду себя недостойно?
– Не об этом речь. Ты думаешь о том и занимаешься тем, что не приведёт к хорошему. Даже хозяин заметил твою приверженность к большевикам. Бываешь с теми, кто идёт против религии, маршируешь на виду у всех со всяким сбродом.
– Те люди, с которыми я бываю, не хуже твоего хозяина. А что касается сброда, то для меня, голодраного лудильщика, среда вполне подходящая. Не примут меня в своё общество шуринское духовенство и знать.
Обиженный Манаф направился к двери. Дауд удержал его:
– Ты мне брат. Твоё благополучие – моё благополучие, твоя беда – моя беда.
Манаф повернулся к Дауду:
– Мы люди разных убеждений. Ты довольствуешься тем, что даст Бог. Будешь выносить все невзгоды, унижения, относя всё на счёт воли Всевышнего. Ты безразличен ко всему, что делается вокруг.
Манаф ушёл.
На другой день он явился вновь. Непонятная сила протянула невидимую нить от его сердца к той части дома, где жил Сулейман-Хаджи.
Манаф забегал во двор Сулеймана рано утром. Он забегал сюда в обед и вечером, часто не заходя к Дауду, и, глянув на пустую хозяйскую веранду, возвращался обратно. Он узнал, что старшую дочь Сулеймана-Хаджи зовут Саидой.
Чем более безнадёжным казалось увлечение, тем сильнее влекло. Он в буквальном смысле потерял покой. Любовь, о которой он понятия не имел, с первого взгляда так цепко ухватила его за сердце, что он забыл ту, которая была наречена, что ждала его в ауле…
Теперь, где бы он ни был, чем бы ни занимался, днём и ночью стоял перед ним образ чернобровой красавицы. Конечно, он и подумать не мог, что богач выдаст за него Саиду.
– Бийакай, не могу больше, как родному брату признаюсь. Дауду не говорю, а от тебя не хочу скрывать, помоги, – сказал однажды Манаф юристу.
– Чем помочь, что случилось? – шутливо спросил Бийакай.
– Люблю.
– О, это дело стоящее! Кого же ты любишь?
– Дочь хозяина Саиду.
– Встречался с ней?
– Видел один раз. Помнишь, говорил тебе?
– Помню, помню. Но чем я могу тебе помочь? Выступить в роли свата? – уже серьёзно спрашивал Бийакай.
– Да нет же, я понимаю, кто она, кто я.
– А что же делать?
– Пусть жена твоя Бике позовёт её. Взгляну ещё раз. Может, разочаруюсь, может, на самом деле она не столь хороша, как показалось. Ну сделай милость, пусть позовёт.
– А если хороша?
– Ну что ж, пусть хоть глаза мои насытятся её красотой.
Бийакай вдруг увлёкся длинным рассказом о Сулеймане-Хаджи, строптивой Катун, о том, как они совершили путешествие в Аравию и как разбогател после этого паломничества Сулейман-Хаджи.
– Ты истинно верующий? – спросил как-то, придя к Бийакаю, Манаф.
– У тебя есть основания сомневаться?
– Не к тому говорю.
– А к чему?
– Не кажется ли тебе, что похищение дочери этого хищника будет делом, Богу угодным?
– Думаю, что это дело более угодно тебе, нежели Богу.
– Не отрицаю. Но после того как ты мне рассказал, как разбогател этот Хаджи, меня гложет мысль, почему я должен считаться с его положением, именем, вести себя благоразумно. Почему он, строящий из себя почтенного человека, во имя достижения своей цели избирал любые угодные для него пути, а я во имя чистой любви не могу решиться на крайнюю меру?
– Разве тебя удерживают?
– Да, мой брат Дауд.
– У того, кто не разделяет твою печаль, не ищи сочувствия и совета.
…Бике, жена Бийакая, в пятницу приготовила мучную халву, специально чтобы угостить Хаджи-Катун. Придя к хозяйке дома, она, выбрав момент, шепнула Саиде: «Зайди к нам». Это было перед вечером. Когда бабка стала расстилать молитвенный коврик, Саида, шмыгнув, исчезла за дверью. Лёгким ветерком помчалась она по коридору и влетела в квартиру секретаря суда. Хозяина и хозяйки в первой комнате не оказалось. К ней повернулся высокий, стройный молодой человек, стоявший у окна. Саида хотела выбежать обратно, но что-то удержало её. Человек, которого она однажды видела в окно веранды, обратился к ней на родном языке:
– Откуда явилась?
Краска стыда густо покрыла лицо Саиды. Манаф шагнул в её сторону. Девушка отступила к двери.
– Не бойся, трогать тебя не собираюсь.
Девушка подняла голову, но не посмотрела Манафу в лицо.
– Выйдешь за меня замуж?
– Выйду, – ответила неожиданно Саида. Но тут же, хлопнув дверью, исчезла.
Манаф не поверил своим ушам.
Бийакай с женой, весело улыбаясь, вышли из дверей второй комнаты.
– Ну как, насытил глаза красотой хозяйской дочери? – спросил Бийакай.
– Глянуть не успел.
– Неправда, не то что глянуть, поговорить даже успел.
– С ума можно сойти. Она заарканила меня не только красотой, но и смелостью. А может, смеха ради ответила «выйду»?
Манаф задумался.
– Не тужи, кунак, – заговорил Бийакай. – Может быть, она и на самом деле готова выйти за кого угодно, лишь бы вырваться из домашней тюрьмы. А с таким парнем, как ты, не только дочь Сулеймана, дочь хана сбежит не задумываясь.
Весна восемнадцатого года на фоне тревожных дней игриво расписывала неотъемлемые законы влечений. И природа, и люди в зависимости от сил, способностей следовали этим законам, особенно те, что не перешагнули за возраст любви.
Никакие каноны, никакие догмы не способны подавить движение чувств молодого сердца. Как никогда в жизни почувствовал это Манаф. О своей любви рассказал Гаруну. Восторженный поэт экспромтом сложил песню о любви Манафа, пропел её, сидя в рабочем кабинете типографии, в заключение пожелав удачи.
Махачу открыл Манаф свою тайну только тогда, когда окончательно договорился с Саидой о дне побега.
– Ей-богу, хорошее дело! – воскликнул Махач и добавил: – Только с одним условием: любовь любовью, а дело делом. В Кази-Кумухском округе работы хоть отбавляй. Комиссаром окружным туда направлен Саид Габиев, знаешь его?
– Видел один раз, Гарун знакомил с ним.
– Я напишу письмо к нему. Перед отъездом зайди.
Бийакай договорился с казанищенским аробщиком, человеком знакомым, на которого можно было положиться. Двухколёсная арба, запряжённая волами, подъехала к двору, где жил Манаф. На неё взвалили огромный тюк с оставшимся оружием, прикрыли сеном, сверху положили кое-что из вещей. Джавад с Абдуллой приехали на постоялый двор. Манаф пошёл прощаться с Даудом. Тот сказал:
– Я с тобой прощаться не буду, постараюсь пораньше встать, приду провожу.
Манаф с вечера обошёл друзей, знакомых, зашёл к Махачу за письмом. Ночью вначале бродил по широкому двору и помещениям, где спали постояльцы. В полночь отправился к дому Сулеймана. Он без конца оглядывался, гуляя по тротуару. Неужели проспит, а может, не удастся выйти или передумала? Нет, передумать не могла, сказала, ничто не может удержать её.
Может, в доме заподозрили или схватили, когда выходила…
Ну что ж, тогда придётся отложить отъезд. Но откладывать не пришлось. Она вышла со двора, когда ночь была почти на исходе.
Манаф бросился ей навстречу. Саида дрожала от страха.
– Ради Аллаха, бежим быстрее.
Через минуту они зашли в подворотню постоялого двора. Не прошло и четверти часа, как со скрипом со двора выкатилась арба. Только за городом Манаф и Саида уселись в неё и облегчённо вздохнули.
Холодный предрассветный туман густо стелился по горам. Было ещё темно и тихо. Не выпуская из рук узелок с одеждой, Саида, дрожа и от страха, и от холода, прижималась к Манафу, накрывшись широкой полой бурки.
Постепенно рассеялся туман. На тёмном небе слабо мерцали далёкие звёзды. Медленно катился к западу бледный диск луны. Через тёмную прореху над восточными горами пробивался лоскут серого рассвета. Лениво тянули арбу на гору волы. Длинной тонкой палкой направлял их аробщик на середину дороги. «Какая она?» – думал Джавад, непрерывно оглядываясь назад, где, словно орёл со сложенными крыльями, сидел в бурке Манаф. А если пошлют погоню? Что стоит богачу Сулейману нанять полдюжины молодчиков… Думает ли об этом Манаф?
Манаф тоже думал о погоне, прислушивался к каждому звуку. Нет, топота копыт не слышно.
…Солнце поднялось. Осталось позади и Верхнее Казанище. Жарко было Саиде под буркой, но высунуть голову боялась. На дороге встречались путники, едущие вниз и вверх на лошадях, на подводах.
В доме, наверное, переполох, думала Саида. Жаль было только мать, забитую, безропотную, на которую нередко поднимали руку не только отец, но и бабка. Не напрасно она ночь перед бегством провела в комнате бабки. Целый день была у неё на виду. Пусть теперь Хаджи-Катун себя винит, что недосмотрела. Пусть отец теперь ей выбьет глаз, как когда-то выбил бедной матери.
Она представляла себе окаменевшее в гневе лицо отца, мечущие искры зла глаза бабки.
– Сверни с дороги, сделаем остановку в том лесочке, – указал Манаф пальцем аробщику Арслану.
– Лес Нухбека Тарковского, – сказал возница.
– Ну и пусть, мы же не собираемся рубить его.
Арслан, завернув быков в сторону, заехал в чащу.
Манаф с Саидой сошли с арбы. Пошли по тропе к ложбине, скрылись в зарослях терновика. Завтракали все вместе. Саида почти ничего не ела. Низко опустив голову, сидела она в стороне. Манаф заботливо протягивал ей хлеб, сыр, куски вяленой баранины.
…Вторую ночь провели в Левашах. Въехали в село не по главной дороге. Арслан считал, что опасность погони ещё не миновала. В Левашах у Арслана оказался старый кунак. Остановились у него.
Третью ночь провели в Цудахаре. Остановились в доме знакомого цудахарца.
– Жена? – спросил хозяин Манафа, глянув на Саиду
– Нет, невеста.
– Какой дурак отпускает девушку с молодым человеком, если она не стала женой.
– Никто не отпускал, я похитил её.
Цудахарец посмотрел пристально на Манафа, потом на Саиду.
После ужина цудахарец исчез. Он вскоре явился с тремя стариками. Один из них оказался муллой. Хозяин сказал Манафу:
– Я знал отца твоего. Он был для меня братом. Ты должен быть достойным своего родителя. Раз ты без ведома близких решился на такой шаг, будь последовательным до конца. Ты хочешь, чтоб эта девушка стала твоей женой?
– Хочу.
Хозяин позвал жену, пошептался с ней. Старушка ушла. Вскоре она вернулась с Саидой.
– Ты по доброй воле согласилась бежать с этим человеком? – спросил старик.
– Да.
– Согласна стать его женой?
Саида кивнула. Хозяин подвёл молодых к мулле. Мулла заставил обоих положить руки на свою ладонь, прочёл длинную молитву по-арабски. Приказал повторить слова молитвы Манафу, затем Саиде. Два седобородых свидетеля тоже прошептали молитву, провели руками по усам, бороде… Брак был закреплён законом шариата.
В тот же вечер хозяин принёс от муллы бумагу на которой стояла печать. Манаф положил на ладонь хозяина золотую монету.
Утром старик со старухой тепло проводили гостей. Цудахар остался позади. Арба въехала в узкий каменный коридор, по скалистым уступам которого вилась дорога над кипящим, стремительным потоком Кази-Кумухской Койсу.
– Арслан, можно начинать веселье, спой нам лучшую песню твоего народа, – попросил Манаф.
Арслан запел голосом скрипучим, как несмазанные колёса его арбы.
– Кунак, ты затянул унылую. А можно весёлую?
Арслан, похлопывая в ладоши, стал петь кумыкские частушки. Смеялись от души все, кроме Саиды.
– Как жаль, что ни зурниста, ни барабанщика нет. Можно было бы сплясать, – пошутил Манаф.
Саида молчала.
– Ты что грустишь, может, жалеешь о случившемся? – спросил у неё Манаф.
Саида не ответила.
– Тогда я спою, – сказал Манаф, беря за руку Саиду.
Вай, далай, далалай,
родные горы!
Чью радость вы скрыли,
чьё тяжкое горе?
Спал ночью спокойно
Сулейман-Хаджи,
Не знал он, что с милым
Саида сбежит.
Рыдала ли горько
родимая мать?
Пытались ли сёстры
тебя разыскать?
Ах, если б имела
седая Катун
Коней кабардинских,
персидский фаэтон
Вдогонку пустилась,
открыла б стрельбу,
В Цакарской теснине
догнала б арбу
Вай, далай, далалай,
родные края,
Везу своё счастье,
от вас не тая.
Смотрите, любуйтесь,
седые хребты,
Пока не запрятал
голубку в Хуты.
4
Курдаш – товарищ.
5
Мангал – самодельная маленькая печь, которую топят древесным углем.
6
Муфтий – глава верующих мусульман.
7
Анди – аул в Аварии.
8
Чарыки – самодельная обувь из сыромятной кожи.
9
«Нет Бога, кроме Аллаха».