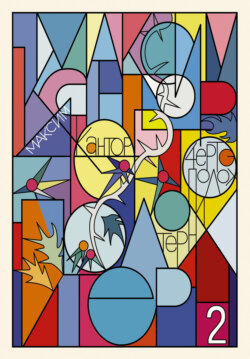Читать книгу Чертополох и терн. Возрождение Возрождения - Максим Кантор - Страница 3
Часть II. Возрождение возрождения
Глава 19. Караваджизм
Оглавление1
В известном смысле феномен караваджизма обобщает противоречивые тенденции Ренессанса, хотя это сделать, по сути, невозможно. Смысл Ренессанса в разнообразии. Обобщая сложную систему взглядов, поневоле ее отменяешь. Итальянское кватроченто, разнородное по школам и взглядам; искусство герцогства Бургундского, вольных городов Священной Римской империи; Базеля и Страсбурга, отдельные дворы князей, пестующих искусство, наподобие Анжу, Неаполя, Мелена и т. д., произвели огромное количество несхожих концепций. Условно этот совокупный продукт называется гуманистическим искусством, но понятие «гуманизм» трактуется различными философами и художниками по-разному. Общей концепции гуманизма не существует. Еще больше противоречий внесла Реформация, разделив не только личные пристрастия, но города и нации, заставив заново выяснять базовые понятия свободы воли.
Время империй нуждается в единой политической системе, которая сложила бы воедино взгляды Макиавелли и Бруни, Валлы и Пальмиери, Данте и Ринуччини; причем единый продукт оказался бы далек от республиканизма. Католическая церковь нуждается в утверждении приоритета над протестантскими диверсиями. Инквизиция, книжная цензура, постановления Тридентского собора (1545) – это важно и для церкви, и для империи одновременно. Потребности Рима и империи Габсбургов в этот момент совпадают – и Контрреформация примиряет вечную вражду гвельфов и гибеллинов. Идеологический центр Контрреформации в Риме, но римская инквизиция в тесном контакте с испанской: империи требуется единая христианская идеология. Большие пространства нуждаются в единой системе управления – вместо условной «республиканской» или условной «гуманистической» декларации требуется свод законов, лимитирующих права и оберегающих целостность общества. Жан Боден, современник Караваджо, поставил своей целью обобщить опыт прошлых поисков: «(…) единственный способ устанавливать законы и управлять государством – это (…) собрав воедино все законы всех государств или самых известных, сравнить их между собой и выплавить наилучшую форму».
В еще большей степени, нежели в правовом поле, унификация требуется империям (светской и духовной) в эстетике. Не вкусами Изабеллы д’Эсте и не прихотями Лоренцо Медичи должна руководствоваться тяга отдельного человека к прекрасному, нужно найти общий знаменатель, коль скоро границы объединили такое количество воль.
Некогда эту роль играла икона, но Ренессанс, а затем и Реформация оспорили авторитет иконы; резная гравюра Севера доказала условность иконы. Говоря проще, империям нужна эстетическая идеология, ни единый из великих мастеров Ренессанса таким идеологом стать не смог.
Потребность в общем своде правил, заменяющем условную икону, осознана давно. Усилия были приложены еще гуманистами: мысль, объединяющая Италию, и шире – представления о человеке – должны были привести к общему гармоничному развитию мира. Учение о перспективе Альберти, учение о пропорциях Дюрера, разыскания Леонардо, разнообразные трактаты, суммирующие опыт, и, наконец, возникновение академий рисования и, соответственно, формальных критериев изобразительного искусства – все это пригодилось империи. Но это не решение вопроса. Европе требуется общий эстетический код. Эстетика ждет своего Солона и Ликурга, который обобщит опыт Микеланджело и Рогира ван дер Вейдена, Боттичелли и Козимо Тура, переведет разноголосые утверждения в единую систему. Таким общим эстетическим кодом стал караваджизм.
Новизна того, что делает Караваджо, и одновременно неизбежность того, что он делает, – очевидны. Караваджо наследует сразу всем, и одновременно у него нет предшественников; подводит итог Ренессансу, но находится вне традиции Ренессанса. Установить происхождение его метода, как это можно проделать с творчеством любого художника, невозможно. Не существует ранних работ Караваджо, нет его рисунков и нет этюдов, неизвестно, кого он копировал, иными словами, не существует того, что называют «творческий путь». Интенсивные поиски (Маурицио Кальвези, Джакомо Берра и т. д.) излагают подробности жизненного романа, но не путь художника. Будто бы Караваджо учился в Милане у Петерцано, который будто бы был учеником Тициана; первое недостоверно, второе не доказано. Будто бы Караваджо находился в контакте с Карло Борромео, религиозным деятелем; это не доказано. Будто бы Борромео принадлежит определение «метафизический натурализм», сказанное будто бы по поводу «Корзины с фруктами»; впрочем, скорее всего, это определение возникло задним числом. Роберто Лонги перечисляет тех, кто мог бы быть наставником: Винченцо Фоппа, Алессандро Бонвичино, Джованни Джироламо Савольдо в Брешии, Лоренцо Лотто, Петерцано и Амброджо Фиджино в Милане, и т. д. Это возможно, но не имеет доказательств; а то, что Караваджо учился у всех и одновременно собирался превзойти всех, – несомненно.
Главное состоит в том, что стараниями Караваджо создана принципиально вненациональная школа. Как правило, достаточно одного взгляда на картину, чтобы определить школу живописи: пряный бархатный цвет венецианцев невозможно перепутать с сухим цветом флорентийцев; плавную линию и палевые цвета сиенцев нельзя спутать с колючими линиями и контрастами бургундцев; медовый сумрак Рембрандта и малых голландцев нельзя спутать с пестрой дробной палитрой фламандцев. Но сказать, какой культуре принадлежит цвет и рисунок Караваджо – нельзя. Если рассматривать отдельно цвет на его картине (например, красный цвет плаща или глухой черный цвет фона), то установить культурное и временное происхождение этого цвета затруднительно. Еще труднее соотнести этот цвет непосредственно с личностью Караваджо: такой цвет может принадлежать кому угодно; это анонимный цвет.
Выразительность и одновременно анонимность; художник, пришедший ниоткуда и ушедший в никуда, и одновременно властитель дум всех – Караваджо, бесспорно, стал символом времени.
Закономерно, что обобщение разных тенденций происходит в изобразительном искусстве прежде, нежели в правовой области или в философии. Тридентский собор лишь провозгласил желаемое направление, но ведь пожелания надо воплотить практически. Общий язык Возрождения – живопись. Именно живопись воплотила концепции гуманистов и произвела собственные концепции. Республиканские идеи Пальмиери и теософские конструкции Пико, неоплатонические фантазии Фичино и социальные рецепты Гуттена не были воплощены в политическую реальность; но живопись оживила их и сделала жизнеспособными. Сегодняшний интеллектуал вряд ли озабочен концепцией Пальмиери, но, несомненно, знает потолок Сикстинской капеллы, где Микеланджело развил идеи Пальмиери; можно не читать Марсилио Фичино, но трудно вовсе не знать Боттичелли; можно не читать Ульриха фон Гуттена, но Бальдунг Грин изложил по-своему его концепцию и сказал нечто сверх того. Художники не иллюстраторы, они собеседники и говорят подчас полнее и последовательнее. Такие мастера, как Тура, Мантенья, ван дер Вейден оставили оригинальные концепции общества. Кочуя от страны к стране, от двора ко двору, от одного анклава гуманистической мысли к другому, живописцы создали пульсирующую культуру Ренессанса, противоречивую, рефлексирующую. Живопись маслом стала предметным выражением процесса мысли и сомнения, ибо только и единственно живопись способна наглядно объяснить и воплотить процесс критического размышления. Живописной рефлексией Ренессанс скреплен поверх и помимо слов, именно живопись масляными красками стала символом личной способности рассуждения.
Нужна ли империи разноголосица? Сомневаться можно в статусе республики и в границах воли в пределах свободного города; внутри империи сомнение неактуально. Утилизировать живопись – первая задача империи; требуется утверждение, а не рефлексия. Перед гражданином империи пестрая картина отдельных концепций, надо сложить пазл так, чтобы пестроты не было и получилось убедительно для всех.
Караваджо создает такую живописную технику, которая кладет конец спорам. Если до него живописцы кватроченто силились «понять» природу, Караваджо просто-напросто впустил живую непосредственную природу в произведение искусства. Современники были поражены исключительной достоверностью холстов. Характерно, что первыми произведениями, принесшими известность юному, исключительно одаренному мастеру, ищущему, как войти в художественный рынок, явились несколько вещей, написанных на несхожие темы, – «Юноша, укушенный ящерицей», «Гадалка, предсказывающая судьбу», «Вакх», «Отдых на пути в Египет», «Кающаяся Магдалина». Усмотреть последовательность в выборе сюжета, общую идейную связь этих вещей – невозможно. Перед нами вполне рациональные действия мастера, который предлагает товар на любой вкус, демонстрирует гибкость в выборе сюжета, ищет свою нишу на рынке. Дар Караваджо весьма пластичен, стиль Караваджо возникает, повинуясь не столько темпераменту мастера, сколько обстоятельствам, в каких темперамент выживает; жизнь Караваджо – это бурный ручей, но вода течет, принимая ту форму, какую предлагают обстоятельства. Впустить в живопись саму натуру – это лишь метод, но к чему этот метод приложить? Мастер искомую нишу на рынке стремительно находит – это религиозная живопись, причем религиозность соответствует новой, небывалой прежде эстетике – Контрреформации. У Контрреформации нет своего певца, но есть конкретные прагматические задачи; Караваджо им соответствует.
Сегодня технический метод изготовления картины Караваджо известен досконально. Стараниями Уайтфилда и Роберты Лапуччи (флорентийский институт «САЧИ») получены детальные описания фотографического метода. Меризи да Караваджо пользовался камерой-обскурой и довольно простой (сложной для того времени) системой линз и зеркал, чтобы проецировать изображение на холст. Прежде всего работа мастера заключалась в том, чтобы расставить группу натурщиков; сегодня такой вид творчества назвали бы акционизмом. Мастер располагал натурщиков перед камерой, подобно режиссеру, расставляющему актеров на сцене. «Фотография» группы статистов проецировалась на холст; холст, как установлено путем соответствующих анализов, Караваджо покрывал пленкой из светочувствительных материалов для того, чтобы изображение отпечаталось. «Фотография», проецированная из камеры-обскуры на чистый холст, благодаря особому покрытию некоторое время оставалась видна на холсте, и художник обводил не только общий контур группы, но и подробности черт. Лапуччи, в частности, этим объясняет, почему многие персонажи картин художника являются левшами: это просто зеркальное изображение театральной постановки. Для рисования (то есть для обведения контуров на холсте) художник использовал смесь свинцовых белил с различными химикатами и минералами. Эти вещества светились в темноте, что помогало писать полотна в своей камере-обскуре. Лапуччи предполагает, что Караваджо добавлял в смесь порошок из светлячков; такой порошок использовали для спецэффектов в театрах. Одним из главных составляющих флуоресцирующей смеси была ртуть (ядовитыми свойствами ртути Лапуччи объясняет расшатанную нервную систему Караваджо; оставим эти соображения в стороне). Данный производственный процесс объясняет отсутствие подготовительных рисунков Караваджо, набросков, вообще всего того, что называется «кухня художника». Караваджо не ищет и никогда не ошибается. Он фотографирует сцену, которую выстроил, а затем раскрашивает фотографию.
Данное описание технического процесса создания картины не должно умалить достижений художника. Караваджо исключительно талантлив – но в другом и по-другому, нежели его предшественники. Караваджо – гениальный режиссер-постановщик; он набирает актеров массовки и ставит мизансцену по евангельскому сюжету, заставляя актеров изображать то гнев, то боль, в зависимости от конкретного эпизода. Метод Караваджо (опережающий время: в сегодняшнем мире метод фотореализма как бы изобретен заново) является революционным по отношению к поискам кватроченто. Принципиальное отличие в том, что отныне не надо искать. Художники Ренессанса ищут и ошибаются, изучают пропорции, учатся рисовать сложные ракурсы, тщатся (порой безуспешно) передать перспективные сокращения на холсте. Известны виртуозные рисунки Тинторетто и Микеланджело, изучающие фигуру в движении, причем мастера, пытаясь поймать ракурсные сокращения, проводят десяток линий, постоянно промахиваясь. До известной степени поиск становится эстетической ценностью, как и сомнение в рассуждениях имеет самостоятельную цену неангажированного разума. Известны случаи, когда мастер, подчиняясь внутренней логике поиска (так ученый может идти в рассуждениях, подчиняясь логике, а не факту), неожиданно становился перед необходимостью исказить объем: например, Делакруа никак не мог нарисовать на лице, изображенном в профиль, глаз – он все время рисовал глаз так, как если бы видел его анфас. Так Сезанн написал «Мальчику в красном жилете» чрезмерно длинную руку; так Микеланджело оставил несообразно большую руку у Христа в «Снятии с креста»; известны гениальные ошибки Гойи в рисовании, когда художник жертвовал точностью передачи ракурса ради выразительности линии, которая сама по себе, даже будучи неточной, передает движение своим напором. Для Караваджо эмоциональные ошибки исключены. И это один из тех, спрятанных в его вещах, контрастов, что ошеломляют зрителя: сколь бы ни были эмоциональны лица персонажей картины, сами линии рисунка никогда не эмоциональны. Все нарисовано одинаково подробно и одинаково индифферентно: ни напряжение линии, ни исправленный промах не выдают поиска; таковой в принципе невозможен. Фотография отражает на холсте самый сложнейший ракурс, который не смогли бы нарисовать ни Тинторетто, ни Микеланджело, но этот сложнейший ракурс не сопровождается экстатической линией. Караваджо хладнокровно обводит по контуру проекцию фотографии и получает рисунок не в результате поисков, а механистическим путем. Лишенное даже возможности ошибки, такое изображение словно бы является самой природой, не прошедшей через сознание художника и лишенной волнения, свойственного человеку. У зрителя создается впечатление, что он находится перед лицом самой природы.
Точно так же обстоит с проблемой цвета. С тех пор, как масляные краски сменили темперу с ее локальным цветом, главным в живописи стал сложный цвет, так называемый валёр, то есть изменение цвета в пространстве. Художники методом наслоения оттенка на оттенок (лессировка) добиваются небывалых цветов, которые передают движение цвета в перспективе, и возникает то, что называется «воздушная перспектива», цветной поток воздуха. Для Караваджо поиск цвета также не представляется возможным – подобный поиск разрушил бы аккуратный фоторисунок. Дело в том, что в процессе поиска цвета живописец неизбежно меняет форму. Всякий цвет ищет свою форму, нуждается в том, чтобы его границы и его воплощение на холсте были очерчены особым образом. (Ср. «По мере того, как пишешь, рисуешь», – говорил Сезанн.) Так происходит в работе всякого живописца, без исключений, а Микеланджело часто становился перед необходимостью сбивать уже написанную фреску и заново грунтовать стену, если потребность в развитии цветового сюжета вынуждала менять рисунок. Но Микеланджело рисовал сам, вел линию так, как хотел, и мог менять рисунок произвольно, а Караваджо сам не рисует, он обводит то, что отразилось на холсте, и по-другому он нарисовать не может. В сущности, никто не знает, каково его собственное умение рисовать. И в силу того, что он не может менять рисунок, он не может в полной мере заниматься цветом – он не пишет, а закрашивает изображение. Открытие, сделанное Уайтфилдом и Лапуччи, объясняет техническую сторону вопроса – технику изготовления картин. Из этого метода следует любопытный вывод: Караваджо не пишет масляными красками, но раскрашивает масляными красками рисунок, полученный фотопутем. Это тоже картина, выполненная красками, но это не вполне живопись. Эффект раскрашивания, а не письма, заметен при первом взгляде на картины Караваджо, даже если не знать, что послужило причиной такого необычного эффекта. В числе прочего, такая техника объясняет, почему у Караваджо нет этюдов: он никогда не искал цвет.
Те картины Караваджо, в которых мастеру приходилось рисовать нечто «от себя», нечто, не прошедшее объективную камеру-обскуру, выделяются сразу – зритель вдруг чувствует неумелую руку. Так, в «Отдыхе на пути в Египет» внешний пейзаж поражает робостью исполнения; в пейзаже нет – и не может быть – того лапидарного, бестрепетного напора, с которым Караваджо пишет фигуры: пейзаж, по чисто техническим причинам, не поместится в камеру-обскуру. В дальнейшем Караваджо радикальным образом расправляется с этой помехой – он закрашивает фон черной краской в любой картине. Еще разительнее выглядит сравнение сочиненной детали и срисованной детали в знаменитой «Медузе Горгоне» – картине, где голова женщины выполнена средствами проекции и нарисована точным движением, а змеи на голове Горгоны сочинены художником (коль скоро змей на голову натурщице художник не клал), и написаны эти змеи с пафосом, но выглядят нестрашно, словно муляж в театральной постановке. Еще наивней изображены потоки крови, льющиеся из отрезанной головы, – это просто краска, положенная грубо, так уличные актеры рисуют поток крови на лице. Разумеется, Грюневальд или Рогир ван дер Вейден – художники, которые сочиняли изображение, – никогда не написали бы кровь столь вульгарно; но они были композиторами, придумывали, как написать, искали цвет, тогда как метод Караваджо был принципиально иным. Кровь, хлещущая из отрезанной головы Олоферна («Юдифь и Олоферн»), и драпировки, коими отделена мизансцена от черного холста, написаны художником «от себя», добавлены к изображению, полученному из камеры-обскуры, и оттого смотрятся неловко, неубедительно.
Потребность Караваджо в театральной постановке доходит до гротеска: Франческо Сузинно вспоминает, как Караваджо добился эксгумации трупа и, угрожая кинжалом, заставил двух статистов держать в руках гниющий труп для мизансцены «Воскрешение Лазаря» (бедняки, нанятые для позирования, отказывались прикасаться к трупу). «Кухня творчества» Караваджо полна таких эпизодов, а вовсе не набросков и этюдов; показательно, что история искусств послушно заменила стандартные описания мастерской (как художник составлял палитру, менял композицию, переписывал холст) на истории из жизни. Рассказывая о Мемлинге, Сезанне или Рембрандте, хронист фокусирует внимание на работе с красками, но в описании авантюристов, наподобие Караваджо и Челлини, говорит о сопутствующих акту творчества проделках. В пьесе Фейхтвангера «Джулия Фарнезе» есть рассказ о Челлини, который распинает своего ученика на кресте, чтобы правдиво изобразить страдания умирающего Иисуса. При этом выдумка Фейхтвангера недостоверна не в той своей части, где художник убивает человека ради создания произведения искусства (Караваджо был убийцей, и человеческая жизнь не была для него ценностью, Челлини был ненамного моральнее), но в той части истории, где описывается, как художник рисует мучения распятого. Караваджо, вероятно, мог бы распять человека, но не смог бы нарисовать мучения распятого, он должен был бы умирающего сфотографировать.
Пренебрежение к «кухне рисования» – естественное следствие имперского сознания; продукция одинокого ремесленника, сомнения одинокого философа более не в цене; преклонения перед «ремеслом» уже нет, рисование лишилось своего пьедестала. Вскоре Рубенс будет перепоручать ученикам погонные метры своих холстов: важен ошеломляющий результат, а не алхимия творчества. Для Жана Бодена, визирующего Ренессанс со стороны, доминирующая роль живописи не очевидна; живопись для Бодена – декорация больших общественных решений; Жан Боден считает связующим веществом мира историческое знание и политику, закон и право. Боден полагает, что существуют науки и искусства, суть которых «состоит в деятельности», и требуется разнородность таких занятий обобщить общим планом. Мысль Бодена можно толковать в духе Платона; но роль эйдоса в таком рассуждении играет «государственное устройство», а не мировая идея. Боден следует не столько Платону, сколько Квинтилиану. Ритор I в. Квинтилиан считал, что есть области деятельности, содержание которых исчерпывается производительной функцией, называя в числе таковых живопись. Живопись, понятая как служебная дисциплина, должна осуществлять (по Квинтилиану и Бодену) производительную функцию. Производительной функцией, например, является идеологическая пропаганда – это нужно империи. Как было произведение сделано – безразлично, важен эффект, произведенный продукцией. Для картины Сезанна или Микеланджело все обстоит наоборот: мастер хочет понять, а произведение есть побочный продукт размышлений.
Сегодня зрители вольны толковать черные однообразно закрашенные фоны Караваджо, как специальный замысел мастера. Можно утверждать, что мир всегда погружен во мглу. И это означает (если принять техническую подробность исполнения за философское обобщение), что истина не есть онтологическое основание мира, но лишь частная ценность. Эта (совершенно ницшеанская) мысль подспудно ясна каждому зрителю и будоражит воображение. Христос, Матфей, Савл или Петр, Магдалина, Вакх или мальчик с грушей – все погружены в одинаковый черный мрак, ровно и равнодушно закрашенный. В этой гладкой черноте есть объективный приговор усилиям гуманистов и романтике.
Роберто Лонги считает, что «в новом, присущем сугубо ему одному (Караваджо. – М.К.) представлении о свете и тени, в новой шкале замера двух этих величин» заключается подлинная революция. Суть новаторства Лонги описывает так: «Наперекор сверхиндивидуализму Ренессанса и маньеристов, наперекор, главным образом, самому Микеланджело-сверхчеловеку – отчего Кардучо уже в 1633 г. назовет Караваджо «Анти-Микеланджело» – Караваджо впервые думает о том, что эмоциональная судьба изображаемого события может зависеть от совершенно постороннего и независимого от человека элемента (…) Он первый замечает, что не всегда свет и тень вырисовывают тела в той степени их физической полноты и законченности, которая столь податлива мифологизациям; что порой, напротив, обилие света растворяет тела вплоть до неузнаваемости, а густая тень поглощает их вплоть до исчезновения; иногда даже кажется, что они меняют их суть, их материальную видимость». То есть Лонги подтверждает, что тьма, покрывающая лица и фигуры, меняет суть героев (микеланджеловских титанов), и Лонги считает, что изменение – естественное следствие освещения. Караваджо, согласно Лонги, не следует «сверхиндивидуализму», но подчиняется объективным законам природы. Лонги пишет:
«Но поскольку для глаза реальным является то, что ему видится, а не то, что на самом деле есть (верно же, что материальная природа – это область науки, а нематериальная витает в метафизических облаках), то что иное может изобразить и предъявить «натуральный» художник, как не видимость, впечатление, оставленное в нас той или другой вещью?»
Оппозиция «Микеланджело – импрессионизм», предложенная Лонги, описывает проблему куда более существенную, нежели проблема зрительного восприятия. Караваджо, разумеется, не следует натуре и впечатлению; Караваджо нарочно так строит мизансцену, чтобы возникло определенное впечатление. Караваджо не потому закрашивает фон черным, что следует натуральному освещению. Его композиции в той же мере продукт фантазии, как и микеланджеловские. Он закрашивает фон черным цветом потому, что все за пределами идеологической мизансцены его не интересует – и художник отказывается от лишней информации; это своего рода цензура. Художник утверждает значение театральной постановки – ее первенство над отдельным человеком и его судьбой – и в этом Караваджо противоречит Микеланджело. Суть творчества Микеланджело Буонарроти в исследовании миссии человека. Человек, по мысли Микеланджело, сделан по образу и подобию Божьему и потому богоравен. Подвиг существования человека в том, чтобы путем самореализации стать равным Богу, осуществить великий божественный замысел. Если некая мысль является «антимикеланджеловской» (Карраччи именно так определяет пафос Караваджо), то не освещение тому причиной.
Новаторство Караваджо заключается в редукции гуманизма как основы творчества или – скажем аккуратнее – в переосмыслении понятия «гуманизм». Караваджо выпала задача «исправить» гуманизм, направить индивидуальные разыскания в направлении новой, общей для всех концепции веры.
Одно дело быть гуманистом во Флорентийской республике, в городской коммуне с небольшим количеством граждан, на вилле Кареджи – и совсем другое дело исповедовать гуманизм в оккупированной стране, среди нищего населения, в Римской курии перед лицом инквизиции. По всей видимости, это требует героизма Кампанеллы или Бруно, поскольку империей героический гуманизм не востребован. Героический гуманизм (как известно из протоколов инквизиции) очень скоро будет преследоваться как ересь.
Возможность разглядеть одного человека напрямую зависит от количества людей, коих охватывает взгляд; а в империи людей много, и они взаимозаменяемы. Как известно, Караваджо однажды особенным образом ответил на призыв изучать Фидия; предание гласит, что мастер обвел рукой толпу перед собой, словно говоря – вот это моя натура, а не греческие статуи. Но среди этой толпы с тысячью лиц он не сконцентрировал внимания ни на одном характере и не рассказал ни одной судьбы всерьез. Его персонажем стал случайный человек, растворившийся во мраке, участник массовки. Это не герой, но и не представитель народа, не пролетарий – в том, коммунистическом, понимании слова, которое поднимает человека из ничтожества в гегемоны общества («кто был ничем, тот станет всем», как поется в Интернационале). Нет, этот персонаж был ничем и пребудет ничем – и если на время поставленного спектакля прохожий играет роль Иоанна Крестителя, то это случайная роль, а вообще он персонаж массовки. Может ли персонаж толпы, программно не героический, представлять идею гуманизма?
Божественные сцены дегероизированы растворением в общей мистерии света и тени (то, что Лонги считает эффектом импрессионизма: мол, глаз так видит, что же делать), но существенно то, что глаз Караваджо так не видит – это сознательно поставленная пьеса, поставленная именно так затем, чтобы нивелировать героическое начало, свести к пантомиме. Метод Караваджо (хочется сказать «прием», хотя это звучит грубо) завораживает одновременно впечатлением предельной натурной точности, которое производит вещь, и радикальностью решения пространства, будто бы исключающей копирование природы. В самом деле, нельзя ведь сказать, что в природе что-либо (даже темная ночь) столь безукоризненно черного цвета, без нюансов и противоречий – однако же фон буквально всех картин Караваджо лапидарно закрашен черной краской. Мир во зле лежит, это известно из христианской доктрины; но христианство превозмогает зло и тьму жертвой и моральным подвигом. Тот миг, когда моральное усилие прорывает непроглядную ночь, – в картине «Расстрел 3 мая» Гойи повстанец в белой рубахе на фоне зияющей ночи раскинул руки и разорвал мрак; старики Рембрандта выступают из тьмы благодаря своей непреклонной доброте; карлики Веласкеса становятся великанами в преодолении тьмы и физического уродства – такой момент в христианском искусстве называют катарсисом. Поразительно, что в ночных (как иначе определить черные картины Караваджо) сценах Караваджо, которые изображают мучения и смерть, в которых растворяется любой индивид, этот катарсис не наступает никогда.
Точнее будет сказать, что катарсис в произведениях Караваджо вынесен за пределы картины; эффект катарсиса связан с самой личностью Караваджо, с его дерзкой биографией, он сам – и его рассудочный натурный метод – значительнее любой евангельской притчи. Это театр режиссера. Не текст пьесы важен и, разумеется, не актер, но постановка. Важна способность так расставить статистов и растворить их во мраке, так препарировать мораль – эта способность анализа превосходит любое моральное утверждение. В истории мысли есть философ, поставивший способность препарировать мораль выше морали; речь о Ницше.
Появление Ницше в философии, как и появление Караваджо в живописи, кладет предел моральным сомнениям – отныне таковые будут восприниматься как проявление сентиментальности и слабости. Между этими мыслителями – триста лет, но, как было сказано ранее, изменение в визуальной эстетике опережает философские обобщения. Во времена Караваджо морализаторство и гуманистические конструкции (Кампанеллы, Сарпи, Бруно и т. д.) еще будоражат умы – опережая свое время, Меризи да Караваджо показывает просто и неумолимо организованный мир, где места для слабой морали практически нет. Зато дионисийское и аполлоническое начала (см. приоритеты Ницше) представлены у Караваджо обильно – даже когда Вакх и Нарцисс не изображены буквально, они в фотографиях евангельских сюжетов присутствуют за кадром. Единожды написав эти ленивые похотливые лица, Караваджо уже к ним не возвращался – работал на церковь. Караваджо работает по заказам храмов, кочует с места на место и пишет только евангельские сюжеты. Он – художник, доносящий до зрителя христианскую идеологию – причем в соответствии с актуальной политикой церкви. При этом личность самого художника являет вопиющий контраст с идеологическим сообщением, сколь бы ни рассуждать о том, «из какого сора растут цветы, не ведая стыда». Бенвенуто Челлини – также авантюрист, но его творчество гламурно и кокетливо, он не пропагандист евангельских истин. Караваджо – человек порочный, даже убийца, но, непосредственно после убийства и бегства он получает новые церковные заказы и создает картины на тему милосердия и наказания греха. Очевидно, что сознание Караваджо допускает сочетание «цветов» и «сора» в гротескной пропорции. Несовпадения личной жизни пропагандиста и содержания его призывов обычно именуют словом «ханжество»; история искусств знает много примеров (в коммунистической или фашистской идеологии такие характеры встречались часто), когда общественную мораль пропагандировал человек, последовательно аморальный. Этот вопиющий контраст личности автора и христианского содержания картин нимало не шокирует заказчиков; в то время Рим славен не искренностью веры, но непотизмом, симонией, содомией и дурными болезнями; коррупция Римской курии и разврат Рима стали нормой; удивить своими пороками Караваджо не может. Тип личности Караваджо разительно отличается от типа личности ренессансного художника-гуманиста, который отождествляет себя со своей картиной. Микеланджело, Боттичелли, Мантенья или Брейгель и Босх безусловно равны своим картинам. Личность ван Гога или личность Гойи буквально соответствует тому, что пишут эти художники. Иначе и не может быть, если речь идет о гуманистическом искусстве. Равно и религиозные художники треченто – их собственная истовая вера несомненна. Не то Караваджо. Исполнение идеологического заказа, мастерская режиссура евангельской сцены не связывают его личными моральными обязательствами.
Сказать, что Караваджо не равен своей картине, впрочем, нельзя. И, хотя автопортреты мастера, вставленные в картины, кокетливы и характер человека ускользает (характерный пример: голова Голиафа в руках у Давида показательно драматична и кокетлива) – и, вместе с тем, характер художника присутствует в самом письме, в равнодушном созерцании Евангелия. Его собственный образ существует – это образ ленивого хладнокровного Вакха с чашей вина. Вакх и Нарцисс (изображение Нарцисса, глядящего на свое отражение в темной воде, есть буквальное изображение художественного метода Караваджо) – это не случайные персонажи в иконостасе художника. Они не случайно затесались в толпу святых и мучеников. Напротив, евангельская история и моральные притчи Писания увидены здравым дионисийским взглядом. Перед нами Евангелие от Вакха. Но разве не Евангелие от Вакха пишет Контрреформация? Впрочем, этот языческий бог алчен и жаждет крови.
Метод хладнокровного рассказа и черного фона усваивают все. В Нидерландах, помимо очевидного влияния Караваджо на технику Вермеера и Рембрандта, возникли и его прямые подражатели: Геррит ван Хонтхорст, Хендрик Тербрюгген и др.; в Испании молодой Хусепе Рибера, Сурбаран и ранний Веласкес; Адам Эльсхаймер в Германии; даже молодой Рубенс поддается влиянию; разумеется, Жорж де Латур и Бугеро во Франции; Гвидо Рени, Себастьяно Риччи в Италии – и еще сотни менее значительных мастеров – так востребованный язык дегероизации и подчинения среде был найден.
Волшебное слово «среда» еще не усвоено миром. Понятие, объясняющее все и обволакивающее все, в то время заменяют словом «перспектива», но это не одно и то же. Перспектива описывает позицию автора. Среда – не подразумевает позиции человека вообще. Идеология – это не позиция, не вера, не убеждение. Идеология – это среда. Зритель не задается вопросом: верующий Караваджо или нет (скажем, в случае Леонардо этот вопрос мучит постоянно); зритель принимает поток библейских картин с однообразным черным фоном, как свидетельство мастерства и эмоций, а убеждения не столь важны. Если попытаться реконструировать общество по картинам Караваджо (это возможно сделать по картине любого ренессансного мастера), то попытка не удастся. Так, идеологическая декларация не подразумевает ни искренней веры, ни личного примера. Караваджо явился для того, чтобы выполнить идеологический заказ: противостоять Ренессансу и логичному выводу из Ренессанса, то есть Реформации.
«Мадонна Палафреньери. Мадонна и Иисус со змеей» (1605, для церкви Святой Анны, Рим), выполненная по заказу папского конюшего, удостоверяет миссию художника, одобренную курией. На картине изображены Мария и Иисус, давящие ногами змею; несложно понять, что змея – символ Реформации. Именно так на плакатах 40-х гг. XX в. изображали под сапогом солдата змею фашизма или коммунизма, в зависимости от того, кем заказан плакат. Как и в идеологических плакатах тоталитарных держав, в полотне Караваджо поражает контраст между умильными обликами Марии и младенца и суровым долгом, который они выполняют: безжалостно давят гадину. Будь Караваджо и впрямь натуралистом, он бы нарисовал хоть малейшее, но искажение черт ребенка и матери – все же раздавить змею непросто. Но подобно тому, как солдат не меняет выражения румяного лица, когда давит гидру империализма, так и Мария с Иисусом цветут нежными улыбками.
Так сложился небывалый тип художника Контрреформации, циничного проповедника моральных доктрин.
2
Эстетика Караваджо во многом напоминает философию Ницше – своим трезвым, убедительным отказом от морализаторства. Сила Ницше в том, что он здраво не верит в моральные конструкции и призывы, не оправдавшие ожиданий верующих. Дряблая сентиментальность ему чужда; Ницше – реалист и прагматик. И общество, многократно обманутое моральными доктринами, жадно внимает объективной правде. Влияние образов Караваджо на стиль мышления XVII в. схоже с энтузиазмом, с каким восприняли жестокую философию Ницше в XIX в. Мир искусства (и прежде всего околотворческая публика) устал от высоких целей и неисполнимых доктрин. Концепции Ренессанса остались в прошлом – их еще помнили, но достовернее всего помнилась их нежизненность. Ренессанс отошел в небытие вместе с моделями общественного устройства, которые искусство кватроченто предлагало строить. Идеи гражданского гуманизма Бруно или Пальмиери уже смешны; а идеи гедонистического гуманизма Валлы столь пышно воплощены в действительность олигархатом, что и нужды в них больше нет. Какие нужны теории, если практика столь очевидна.
Италия всегда раздроблена, но в конце XVI в. половина Италии находится под властью Испании. В Венеции, Генуе, Сиене правит патрицианская элита. Папская область – теократическое государство во главе с папой. В Миланском герцогстве правительственные функции переданы испанским чиновникам. В Неаполитанском королевстве власть принадлежит мадридскому Высшему совету по делам Италии. Флорентийская республика стала принципатом. Правление Медичи, что вернулись во Флоренцию, по словам Гвиччардини, стало «ненавистно всему народу» и давно уничтожило республиканские фантазии. Слабая раздробленная страна олигархов, униженных иностранной экспансией и грабящих население, – Ренессанс закончился такой реальностью, и другой реальности из фантазий прекраснодушных людей не произошло. Ренессансное сознание основано на гордости независимого человека – но в Италии конца XVI в. гордится нечем. Данте возмущался раздробленностью итальянских городов, их недальновидным себялюбием; спустя четыреста лет он бы не нашел слов для возмущения.
Политическое ничтожество, как всегда бывает в истории, ведет к уничтожению экономики и обогащению олигархов. Экономика в Европе смещается на север. В Италии происходит пауперизация крестьянства, иными словами, появляются массы нищих и бродяг – социальное явление, незнакомое и не описанное ни Боккаччо, ни Боттичелли, ни Савонаролой. Доминиканский реформатор в конце XV в. возмущался бедственным положением ремесленников; спустя сто лет количество ремесленных цехов сокращается в разы, поденную работу исполняет «мелкий люд» – внецеховые ремесленники, деклассированные элементы без собственности и политических прав. «Мелкий люд» переживает двойной гнет: нет трудового законодательства, и налоги растут. Это обычный, многажды описанный экономический крах, когда оснований для достоинства нет, а выживают за счет непроизводительных доходов и бытовой подлости.
В течение четверти века случилось так, что Высокое Возрождение оказалось дальше от повседневной реальности – интеллектуально, эстетически, риторически, – нежели та античность, на которую продолжали ссылаться. Академии Италии шлифовали формальный рисунок и копировали римские статуи, но пафос Леонардо или Микеланджело стал безмерно далек. Вообразить разумное устройство мироздания не получится, когда устройство собственного города столь болезненно ясно. Никому не пришло бы в голову вернуться к Джотто или Мазаччо, и даже Мантенья и Боттичелли, которые умели льстить правителям, оказались недостаточно льстивы.
Если во времена кватроченто на Флоренцию как на образец вкуса засматривались из Франции и Испании, то в конце XVI в. итальянцы берут за образец имперские вкусы Мадрида и Парижа. Чтобы в полной мере осознать закат Ренессанса, надо представить, чем кончился золотой век Медичи во Флоренции. Противостояние Савонаролы и Лоренцо кажется шутливым застольным разговором в сравнении с тем, что случилось с городом через тридцать лет после смерти обоих. Медичи, получив войска от папы Климента VII (он тоже Медичи) и Карла V, осаждают Флоренцию в течение одиннадцати месяцев; республика (1527–1530) пала. Руководители республики (главой республики был Франческо Ферруччи) казнены. Органы республиканской власти упразднены. Государство (это теперь герцогство) присоединило Сиенскую республику, все вместе называется Великое герцогство Тосканское.
В Неаполитанском королевстве бунтуют против испанского господства. В неурожайные годы олигархат вывозит хлеб за границу; бунт 1585 г. подавлен. Генуэзское восстание («комитет шести») закончилось арестом республиканцев. Одна лишь Венецианская республика сохраняет независимость, впрочем, в привычной ей олигархической ипостаси – однако вся Италия смотрит на Венецию и ее спор с Римом с завистью.
Все это типично для олигархического режима, иной реальности и иного будущего у страны нет.
Судьба наследия Ренессанса находится в зависимости от Контрреформации; Тридентский собор объявляет борьбу с реформаторством, первой жертвой становится светская культура кватроченто. Бертран Рассел дал короткое и жестокое определение Реформации и Контрреформации в их отношении к итальянской культуре: эти движения «в равной степени представляют собой восстание менее цивилизованных народов против интеллектуального господства Италии». Грубо говоря, Реформация была германской и отвергала авторитет папы; Контрреформация была испанской и сводила счеты с нравственной и интеллектуальной свободой Италии, делая из папизма врага собственной культуры. Римская курия вводит индекс запрещенных книг: в нем и Боккаччо, и Лоренцо Валла, и Макиавелли, не говоря о сочинениях Эразма. Вера переходит в статус идеологии, которая не обсуждается (дебаты Флорентийской академии в прошлом) – Паоло Сарпи пытается оспорить монополию Рима на христианскую веру, его отлучают от церкви. С 1542 г. по испанскому образцу введены суды инквизиции. Осознать различие меж христианской идеологией и христианской верой – это для Пико, и Фичино, и Микеланджело был насущный вопрос – трудно.
Это та реальность, в которой жестокие картины Меризи да Караваджо оказываются желанны: церковь внушает пастве, что уже довольно было прекраснодушных упований и вранья, жизнь нуждается в твердом поучении – а фантазии, с виду благие, надоели и привели к беде. Меризи да Караваджо вразумляет паству, причем бытовые пороки автора не препятствуют бесперебойным заказам церкви – кого в Риме смущают бытовые пороки. Когда дойдет до убийства, когда Караваджо заинтересуется уголовный суд (не инквизиция, разумеется), художник уедет из Рима, но уедет он на Мальту, то есть туда, где идеология Контрреформации сконцентрирована.
В том, как прочие художники бросились имитировать эффектное равнодушное письмо Караваджо, погружающее мир в однообразный мрак, сказалось не только желание церкви вразумить, но и потребность обывателя в жестокости. Околотворческая интеллигенция соскучилась по простым и злым решениям, искусство словно истосковалось по откровенной жестокости. В Караваджо, как и в Ницше, как и в маркизе де Саде, как и Малевиче, есть подкупающая своей прямотой аморальность, которая шокирует и одновременно манит обывателя: испуг доказывает подлинность творчества, как горечь доказывает пользу лекарства. Караваджо, как и Малевич, с упоением отрицает сложность мира, и ему благодарны за это все те, кто сложностью и разнообразными моральными посылками пресыщен. Страстная безнравственность идеологии завораживает.
Письмо Караваджо, эффектно играющего черной краской и бликами, тьмой и светом, разумеется, спекулирует на христианском представлении о поединке добра со злом. Риторика Римской курии на этот счет часто звучит фальшиво, к тому же расшатана Реформацией; но оживить эту риторику – необходимая идеологическая задача. Караваджо справляется с этой задачей виртуозно, совершенно в духе папства. Караваджо сообщает обывателю одновременно и неотвратимость борьбы добра со злом, и ее относительность. Присущий Караваджо релятивизм в вопросе света и тьмы также роднит его с Ницше. Все может утонуть во мраке, и любой предмет может быть освещен. Можно любое положение провозгласить добром и его же объявить злом – все в этом мире случайно. Так и Ницше, обожающий шокировать обывателя парадоксами, сначала употребляет слова «добро» и «зло» в привычных христианской культуре значениях, а потом заявляет, что предпочитает зло добру: потому что добро уравнивает людей, а равенство фальшиво по своей природе. Ненависть Ницше к равенству и его проповедникам (Сократу, Христу, Джону Стюарту Миллю) основана на верном наблюдении (и обыватель не может отрицать его правдивость), что прекраснодушные доктрины, якобы сулящие всем равномерное благо, неизбежно ограничивают одних и отдают многое другим, совсем блага недостойным. В результате этих прекраснодушных концепций (республиканских, демократических, христианских) торжествует слабый и ничтожный, дорвавшийся до власти и навязавший свою убогую мораль коллективу. Ницше показывает, как концепция «христианской демократии» (понятие не из его словаря, но, по сути, он имеет в виду концепцию Салютати) приводит к власти жадных подлецов. И, наблюдая историю Ренессанса в Италии, это утверждение трудно оспорить. Вывод – для Ницше умозрительный, поскольку на практике он ничего подобного не устраивал, да, пожалуй, и не собирался – состоит единственно в торжестве силы и власти, воли трезвого человека, для которого мораль плебеев не представляет ценности. Но именно такой вывод и следует сделать из Контрреформации. Именно эту задачу и должны решать холсты Караваджо.
В философии Ницше нет богоборчества, поскольку Христос для него не авторитет и бороться с ним не имеет никакого смысла; однако те явления культуры, которые повторяют (или предвосхищают) ницшеанскую мораль, часто именуют богоборческими – и это льстит гордым мастерам, их создавшим. В богоборчестве мы подразумеваем теоретическую основу, хотя таковой, чаще всего, нет. Ни у фанатика Малевича, ни у циника Караваджо, разумеется, «теорий» и «убеждений» – в понимании этого термина Микеланджело, ван Гогом или Брейгелем – и в помине нет. Их пафос в том и состоит, что гуманистические абстракции и так называемые убеждения лишают первозданной мощи. Подобно тому, как «замысел» Малевича явить черным квадратом «победу над солнцем» есть не более чем мысль дикаря, так и радикальность обращения Караваджо с пространством и с евангельскими сюжетами есть не более чем хладнокровный цинизм неверующего человека, не обремененного моральными обязательствами.
Несомненная сила Караваджо и причина его сокрушительного влияния на время состоит в том, что, будучи последовательно аморален и программно циничен, он посвятил свое творчество евангельским сюжетам. Это вопиющее несоответствие оказалось востребовано Контрреформацией в куда большей степени, нежели маньеристические жеманные попытки оживить Ренессанс.
Этот парадокс – совершенно в ницшеанском духе – соответствует задаче времени.
Неверующий аморальный художник, не различающий добра и зла, пишет столкновения тьмы и света в евангельских сюжетах. После того, как утопия Ренессанса завершилась, сантиментов быть не должно; но, коль скоро идеология остается христианской и идеологическое искусство по-прежнему востребовано, к задаче следует подойти трезво и профессионально. Кьяроскуро, то есть дихотомия черного и белого, света и тьмы, широко распространилось по латинской Европе, упрощая и утилизируя живопись, оставшуюся в наследство от Ренессанса. И, по сути, метод кьяроскуро, который оказался столь легок в воспроизводстве и стал массовой продукцией, оказался эквивалентен резной гравюре Севера. Подобно тому, как черно-белая резная гравюра потеснила живопись на Севере Европы, караваджизм потеснил живопись Юга Европы. Игнорировать этот метод упрощения стало столь же трудно, как игнорировать логику резной гравюры.
3
Микеланджело Меризи да Караваджо – персонаж плутовского романа, отнюдь не герой эпоса, как тот, чьим тезкой он является. Возможно, поэтому, несмотря на влияние, которое его творческий метод оказал на современников, художник остался в истории под именем места, где родился, а Микеланджело Буонарроти – под своим собственным.
Караваджо чаще всего именуют зачинателем реализма. Это и правда, и одновременно неправда. Правда состоит в том, что Караваджо изгнал из живописи идеал, пафос и романтику; Караваджо уравнял в правах практику жизни с фантазией, статистов с героями; Караваджо уничтожил центр в композиции, то есть устранил сложносочиненный план творчества – доверил все случаю, как оно и бывает в жизни. И в этом смысле его можно назвать реалистом. Было бы, однако, поспешным утверждать, что Караваджо хоть в малейшей степени описывает окружающую его в Италии реальность: обнищание населения, власть олигархии и испанскую оккупацию. Скажем, по картинам Гойи мы можем составить впечатление о жизни его страны в определенный период, причем о всех классах и сословиях, в этом смысле Гойя реалист. Картины Караваджо таких знаний ни о его времени, ни о его стране зрителю не сообщают. И в этом смысле искусство Караваджо крайне далеко от реализма. Это, разумеется, идеологическое искусство, использующее религиозный сюжет для утверждения определенной социальной программы.
Помимо и поверх идеологической задачи, Караваджо решил задачу чисто живописную (и, возможно, в этом состоит его главный вклад в искусство): внедренный им в живопись метод тенеброзо, кьяроскуро заменил перспективу, как индивидуальную, так и обратную. Все погрузилось во мрак – и проблема пространства исчезла. Невозможно сказать, было ли то новшеством, возникшим как следствие продуманной философии, или художником повелевал дух времени, устранивший героев и заменивший героев на случайных людей из толпы. Возможно, потребность заменить религию рациональным началом (потребность не личная, но дух времени) сделала живопись скупой на эмоции.
Картины Караваджо, посвященные евангельским сюжетам, напоминают фотографии – и оттого потрясают: кажется, что художник присутствовал в Эммаусе и в Иерусалиме, был там и нашел, что ничего особенного не происходило. Если же сложить воедино все картины художника и присовокупить к ним многочисленные вещи подражателей, получим эффект документального кино о событиях, кои считались божественными. Долгий документальный фильм о том, что мастерам Возрождения виделось как небесная мистерия, получил название «караваджизм». Стиль караваджизм уже потому значительней самого Караваджо, что именно стиль воплотил его собственный сценарий в точности: Караваджо пожелал населить евангельские сюжеты статистами с улицы – и такими же статистами, стаффажными персонажами стали многочисленные последователи его метода. Сотни подражателей Караваджо появились в Европе. В большинстве своем это менее крупные мастера, нежели он сам, но уж коль скоро в эстетику внедрен принцип случайного статиста, заменившего героя, то, согласно этому постулату, надо рассуждать именно о караваджизме как изменении философии Ренессанса, а не о самом мастере.
Существует мнение, что гений Караваджо следует рассматривать в связи с учеными и социальными мыслителями той эпохи: называют имена Галилео Галилея, Томмазо Кампанеллы, Джордано Бруно. Если бы существовала прямая связь Караваджо с мыслителями того времени, следовало бы заключить, что децентрализация Солнечной системы, на которой настаивал Галилей, отражена в полотнах Караваджо, уподобивших композиции картин случайному кинокадру; можно было бы сказать, что принцип равенства, которым бредил Кампанелла, лег в основу принципа анонимного актера, играющего роль апостола в картинах; и, наконец, мы могли бы счесть увлечение Джордано Бруно алхимией – тем импульсом, который принудил художника Караваджо довериться камере-обскуре точно как философскому камню. Однако пафос учения Бруно отнюдь не в алхимии и не в магии, а гражданственные чувства и потребность в обновлении религии Караваджо чужды. Меризи да Караваджо был безмерно далек от проблем как гражданского гуманизма, так и неоплатоновской философии. Его буйный нрав не был связан с гражданской позицией. Бруно был внешне чрезвычайно воспитанным – и при этом непереносимым интеллектуальным бунтарем. Меризи да Караваджо был невыносим в быту, новатор в живописной технике, однако в социальных убеждениях революционером он не был. Общественные идеи и космогония не волновали караваджистов, не волновали и самого Караваджо. Достаточно вспомнить о работе Джордано Бруно «О героическом энтузиазме» и сравнить пафос написанного с дегероизацией картин Караваджо, чтобы оставить в покое эти сравнения навсегда. Караваджо не был озабочен, в отличие от Кампанеллы, испанским игом; мятеж в Калабрии, восстание в Милане – это не входило в список его сюжетов; «опыты» Кампанеллы чужды его натуре, легковесной и подвижной. Караваджо бежит из Рима в Неаполь, укрываясь от суда (по сугубо уголовной причине), но его нисколько не интересует то, что происходит в это время в Неаполе и кого там преследуют по политическим мотивам. Неаполь в те годы – город, сопротивляющийся Риму и Мадриду; антипапистский и антииспанский центр сопротивления. В середине века в Неаполе существует кружок реформаторов Хуана де Вальдеса, он пытается говорить в парадигме того ренессансного обсуждения веры, что была в ходу еще тридцать лет назад; теперь это преступно. Его поддерживает проповедник Бернардино Окино, народный трибун, цитирующий Меланхтона. Пьетро Вермильи, флорентинец, августинский монах, переезжает в Неаполь и работает вместе с Окино и Вальдесом, затем бежит в Страсбург, спасаясь от католического суда. Эти события предшествуют появлению в городе Караваджо, это живая история города, где беглец от уголовного правосудия ищет убежища. Тот, кто следит за историей скитаний мастера, вправе ожидать, что однажды сознание беглеца и изгоя заставит его заметить и других беглецов и изгоев, коих преследуют не за убийство, но за политические взгляды. Однако этого не произошло.
Коль скоро Караваджо набирает себе в натурщики персонажей из народа, его внимательный зритель может ожидать появления некоего «народного» направления в творчестве, этаких бодегонес, что впоследствии столь любимы испанскими мастерами – портрет водоноса, кузнеца, нищего и т. п. И хотя Роберто Лонги замечает, как бы мимоходом, что из ранних вещей мастера (не нашедших спроса и вывезенных приором госпиталя, где художник лечился, в Севилью), а именно – «Мальчик, чистящий грушу» и «Амур, укушенный раком», – родился жанр бодегонес, разделить эту точку зрения не представляется возможным: испанские бодегонес посвящены нищете, ранние работы Караваджо воспевают ленивую негу. Предположение Лонги состоит в следующем: Караваджо начал пробовать себя в изображениях «народной жизни» в «народном ломбардском духе», но эти картины не находили спроса, и свой интерес к бедноте художник как бы сместил в ту сторону, что он стал искать натурщиков из социальных низов, а сюжетов на тему народной жизни уже не касался. Караваджо порой называют (это звучит как комплимент) «художником грязных ног», поскольку он приглашал в статисты своих мизансцен людей с улицы и его фотографический метод передавал черты простолюдинов без прикрас; однако справедливости ради надо сказать, что изображения нищеты на холстах не присутствуют. Ноги порой и впрямь нечисты, но язв, голода и бедствий не изображено. Контрреформация приветствует жестокость изображения, но вовсе не нуждается в реализме. Народная жизнь – и, соответственно, реализм – к этой эстетике Контрреформации отношения не имеют; причина появления простолюдинов совсем в другом.
Согласно доктрине Тридентского собора – и это критично важно – жития апостолов и поклонение локальным святым уравнены в значении с Писанием. Протестанты отрицают значение апостолов и святых, более не поклоняются церковной иерархии. Но Рим объявляет тексты апостолов столь же священным текстом, как и Евангелие. Караваджо показывает (несомненно, художнику подсказано это направление), что деяния апостолов в той же мере принадлежат пантеону святости, как и жизнь Иисуса. Трудно удержаться в данном пункте рассуждения от сравнения с Микеланджело Буонарроти. Последний, как известно, отказался писать на потолке Сикстинской капеллы образы двенадцати апостолов и, оспорив предписание папы, написал пророков и сивилл.
Апостол в эстетике Караваджо – это почти «простой человек», но он далеко не прост. Его призвали на служение – и возвысили над прочими; картина «Призвание апостола Матфея» как нельзя лучше трактует этот аспект веры: данный персонаж избран к служению, хотя этого не ожидал, он принял миссию и возвысился. Протестант так вовсе не считает; реформатор полагает, что своим собственным житием всякий должен соответствовать принципам Иисуса; Реформация освобождает «простого человека» от поклонения другому «простому человеку» – апостолу, тем более Отцу Церкви, тем более монаху. Писание, считает реформатор, выше Церкви. Кардинал Беллармино передает серьезность ситуации следующим образом: «Недавно (…) появилась картина, на которой католическая церковь представлена в виде большого здания. На крыше сидит Лютер со своей семьей, срывает черепицу и сбрасывает вниз. Крыша сорвана, а Цвингли со своей когортой (…) разрушает стены (…) троебожники, новые ариане, вооруженные дубинками, мотыгами и кирками, выполняют работу по сносу фундамента (…) Евангельское слово, ограждающее место обетования Христа, гласит: «На этой скале я построю свою Церковь, и врата ада не одолеют ее».
Идеология Рима, которой служит Караваджо, настаивает на том, что церковь (церковная иерархия) выше Писания. Идеолог Контрреформации Беллармино утверждает, ссылаясь на Августина, что Таинство Крещения возникло до того, как появился текст Евангелия, и символическим образом уже воплощает Церковь. Обе книги Беллармино построены как опровержение ересиархов; Беллармино приводит доводы Кальвина, Лютера, Цвингли, мюнстерских анабаптистов, ариан – и всякий довод опровергает цитатой из апостолов или же Отцов Церкви: Иеронима, Августина, Антония и т. д. Свидетельство Отца Церкви в данном тексте есть окончательный аргумент.
Лишь в одном идеология Контрреформации полностью солидарна с Реформацией – в убийстве Мигеля Сервета. Когда Беллармино описывает казнь философа и врача, он на время забывает о вражде с оппонентами. Стоит процитировать этот фрагмент, чтобы почувствовать атмосферу Рима тех лет, когда Караваджо служил церкви. «(…) он (Сервет. – М.К.) был изумлен тем, что у лютеран и папистов столько споров по поводу Таинств и Церкви, но ни одного по поводу Христа. Он утверждал, что паписты и лютеране похожи на людей, которые отличаются телом, но имеют одну голову (…) Наполненный до краев духом тьмы, он называл себя верховным пророком всей земли. (…) он издал, вдохновленный тем же духом, книги, которые он озаглавил “Ошибки Троицы”. Заявил, что нет различия между людьми в Боге; что Христос назван Сыном Божьим, потому что его плоть была зачата и сформирована во чреве Марии из самой сущности Бога. Таким образом, в нескольких словах Сервет разрушил догмат Троицы, как и Савелий, смешал природу Христа вслед за Несторием и исказил воплощение заодно с Евтихием. (…) преданный огню на публичной площади Женевы, он (Сервет. – М.К.) перенес свои испытания не с постоянством и радостью, как святые мученики в прошлом, а с таким гневом и таким нетерпением, что, по свидетельству Кальвина, писавшего рассказ о его смерти, он наполнил воздух громким воем или, скорее, как сказал Кальвин, мычанием. Но, столкнувшись с неумолимыми судьями, он скончался в 1553 г. после чрезвычайно долгих и чрезвычайно мучительных страданий».
Меризи да Караваджо, находясь в Риме, трудился некоторое время в мастерской Лоренцо Карли, деля с ним заказы, также дружил с другим мастером идеологических работ – Антиведуто Грамматика, впоследствии работал в собственной мастерской. Получать заказы и инструкции, проходить строгие собеседования с кардиналами – и не быть в курсе параграфов идеологии попросту невозможно. Светский по натуре, склонный к проказам и излишествам, Караваджо, подобно многим персонажам истории XX в., которые в быту отличались буйными фантазиями, когда дело доходило до работы, вел себя адекватно.
В частности, согласно букве Беллармино, был убежден «(…) с помощью святого Иоанна Златоуста и святого Кирилла Александрийского, что Бог не желает, чтобы апостолы были едины с Богом, но они – божественные личности, и по милости Бога они становятся единым с Ним существом гармонией воли и таким образом представляют божественные личности, которые естественным образом наделены волей».
Как и всякий параграф законоуложения, это сказано немного запутано, но Караваджо понял. Исходя из предписания, художник (вслед за эстетикой Контрреформации) настаивает, что, хотя апостол и мученик такие же «простые люди», как прихожанин, но есть существенная разница: апостолы и Отцы Церкви – святые и волей Бога вошли в единую с ним сущность. Апостолы – почти такие же простые, как прочие; исполнить роль апостола может прохожий, но в тот момент, когда простой человек стал апостолом, он вошел в иконостас. Это, собственно говоря, социальный закон империи: можно подняться с низов, но войдя в сонм избранных, требуется служить власти. Все равны, но некоторые более равны, нежели остальные. И, повернутое таким образом, рассуждение о грязных ногах уже вовсе не относится к жизни народа.
Героями полотен Караваджо становятся святой Андрей, святой Иоанн, святой Франциск, святая Урсула, святой Петр и, конечно же, святой Иероним по очевидной причине: важно вновь утвердить значение латинского текста Писания. Эти святые выглядят почти так же, как прихожанин; но они уже совершенно другие, и зритель обязан разницу понять. Дистанция от «простого человека» до другого «простого человека» велика; объясняя зрителю, почему один «простой человек» должен поклоняться другому «простому человеку», Караваджо вовсе не интересуется грязными ногами тех, кто не попал в кадр.
В реальности тех лет, помимо оккупации, инквизиции, олигархии и обнищания населения – и, разумеется, в силу этих факторов, – присутствуют явления, затмевающие все прочее; это эпидемии, неурожаи, голод и холод. Историки именуют конец XVI – начало XVII в. «малым ледниковым периодом». Замерзшие и голодные люди не в силах сопротивляться болезням. Чума и потливая английская горячка (легочная и сердечная болезнь, не менее смертоносная, чем чума, чья природа до конца не изучена) приходят в Европу несколько раз кряду. Распространение эпидемий – следствие политики в отношении бедняков, политики истребительной: нищих сгоняют с мест жительства, и бездомные разносят заразу. Фернан Бродель, посвятивший концу XVI в. свое обширное исследование, приводит перечень ужасающих по цинизму указов – как французских и германских, так и итальянских, и испанских, – предписывающих не оказывать милости нищему, но гнать с земли. Армии нищих кочуют по Европе, им разрешено пребывать на одном месте ограниченное время (как правило, не больше двадцати четырех часов). Неурожаи и голод довершают общую картину: пищей бедняков становятся отруби, вымоченные в тресковом отваре; едят траву, спят в землянках или на земле. Караваджо замечает нищету (Лонги, хоть и не акцентирует исторические условия, отмечает, что художник озабочен нищетой), эпидемии и голод мудрено не увидеть. В конце концов отец художника умер от чумы, а сам художник умер от малярии – и это единственная реальность, самый правдивый факт. Однако зритель напрасно будет искать рассказ об эпидемии и армиях нищих беженцев в картинах Караваджо. Даже праздничный Боккаччо сумел во фривольном «Декамероне» посвятить несколько страниц чуме – но вот брутальный Караваджо не сказал о «черной смерти» ни слова. В сытой Венеции 1540 г. Тициан пишет обильный ужин в Эммаусе; но в 1601 г. в Риме написать обильную трапезу бедняков – неточно по отношению к реальности. И когда мы видим на картинах Караваджо как бы «простой обед бедняка» (см. «Христос в Эммаусе», на столе хлеб, фрукты, вареная цесарка… или столь знаменитый жизнеутверждающий натюрморт «Корзина с фруктами», или праздный «Вакх» с чашей вина и т. п.) и наблюдаем как бы простонародное лицо в толпе на картине, надо помнить, что собственно к ужасающей реальности эти изображения жизни «простонародья» отношения не имеют. Перед нами имитация ликов простонародья, спектакль о жизни бедняка, аккуратно поставленный перед камерой-обскурой. Эта театральная постановка имитирует простонародную жизнь в тех дозах, что приемлемы для идеологии. Методами «точного» изображения, которое вселяет уверенность в фактической правдивости, художник дает картину, далекую от реальности. Разумеется, трудно упрекнуть мастера конца XVI в. в том, что он не передвижник, решивший разоблачать ужасающие социальные бедствия. Но применять эпитет «реализм» к творчеству Караваджо следует с большой осторожностью.
Преданный зритель Караваджо вправе ожидать от реалиста внимания к тому, что реально происходит – и в политике, и в социальной жизни. Но ожидание напрасно. Самое распространенное утверждение в отношении Караваджо гласит, что он бунтарь, восставший против условностей; данное утверждение не соответствует действительности. Караваджо не бунтарь ни в малейшей степени: перед нами тщательно выстроенная идеологическая схема, далекая от бунта.
Его не тревожил ни космос, ни социум; подобно тому, как мастер не интересовался социальной историей своей страны, он не имел личного мнения в интеллектуальных спорах.
Нет сведений о том, что Караваджо интересовался философией и что-либо слышал об Аристотеле, коего программно не любили и Галилей, и Кампанелла, и Бруно. То, что волновало умы интеллектуалов его времени, его обошло стороной. Нет уверенности и в том, что Караваджо вообще формулировал какую-либо задачу – но художник осознавал, что через его видение возникает определенный новый взгляд на мир, это очевидно. Несомненно, этот «новый» взгляд на мир мастер пестовал в себе и ощущал себя, как это часто случается с авангардистами, своего рода мессией. Отрицать нельзя: Караваджо стал символом нового направления в искусстве и, как проводник нового стиля мышления, может быть назван в ряду новаторов: Галилея, Кеплера, Тихо Браге. Впрочем, сходство неполное. Караваджо в отличие от упомянутых ученых человек служилый, он работает на заказ, слушает рекомендации кардиналов. От себя художник внес нечто особенное в исполнение заказа, этим отличен от прочих: через Караваджо в мир вошел определенный, холодный, прагматичный взгляд на вещи, не только на социальные проблемы, но вообще на все. Этот непривычный для ренессансного мышления взгляд на вещи значит больше, нежели конкретный образ, больше, нежели конкретное произведение, и даже больше самого художника Караваджо. Взгляд этот не нов, европейская мысль знает философов, исповедовавших такой стиль мышления. Манера разлагать генеральное утверждение на составные части, дробить идеальную концепцию на набор фактов и опровергать факты поодиночке называется позитивизмом. Мыслители от Оккама до Рассела придерживались такого способа рассуждений о мире – не пафосного, не утопического, а сугубо трезвого.
Разум, понятый как религия без идеала – оружие стоиков и скептиков; так трезво рассуждал Монтень, так рассуждал Шаррон – оба современники Караваджо. Было бы кощунственно утверждать, что канонизированные католической церковью кардиналы Борромео и Беллармино скептики и не имеют идеала. Авторы предписаний по соблюдению указов Тридентского собора – люди истово верующие; и если Беллармино и принимал участие в трибунале, выносившем приговор Бруно, это не умаляет его серьезности. Однако и отрицать, что к вопросам веры святые (теперь уже святые) мужи подходят прагматически, нельзя.
Эстетические взгляды курируются Советом Совершенства, учрежденным при курии. Именно эти люди – Борромео и Беллармино – и являются вдохновителями Караваджо.
Вторая книга, «Монах», главного труда Беллармино «Рассуждения о спорных вопросах христианской веры, против еретиков нашего времени» содержит даже специальный раздел «Природа и определение религии», приводящий в соответствие объективность явленного нам в восприятии и божественного Провидения. Собственно, этому феномену и посвящены картины Караваджо. Известное письмо кардинала Беллармино к отцу Паоло Фоскарини по поводу учения Коперника проникнуто духом позитивизма. «…хочу отметить, что если бы имелись наглядные доказательства того, что Солнце – это центр вселенной, что оно не вращается вокруг Земли, а Земля вращается вокруг Солнца, то лишь тогда возникла бы необходимость со всей тщательностью переосмыслить толкование определенных мест Писания, которые вступают в видимое противоречие с теорией. Лучше сказать, что мы не понимаем их, чем признать, что они неверны. Но в данном случае не думаю, что имеется хоть какое-то наглядное доказательство, ибо таковое мне показано не было. Показать, будто схема мироздания выглядит гораздо проще, когда Солнце в центре, а Земля движется вокруг, – не значит доказать, что Солнце действительно в центре, а Земля действительно движется вокруг»; читая этот, столь здравый, текст, думаешь, что автор его Уильям Оккам. Именно аргументы Беллармино заставляют Галилея отречься.
Учение Коперника «противно Священному Писанию, а потому его нельзя ни защищать, ни принимать за истину».
Связь художника Караваджо с учеными его времени подчас декларируется – если не прямо, то намеком. И впрямь, одновременно с ним жили люди выдающиеся. Томмазо Кампанелла – монах и утопист, борец за свободу Италии, подчинивший философию вопросам социального устройства. Подобно Антонио Грамши, Томмазо Кампанелла провел десятки лет в заточении, стоически выдержал пытки. В контексте рассуждений о Караваджо требуется сделать акцент на том, что имелись в Италии люди (в новой истории – Грамши, в то время – Кампанелла) болезненно нравственные, педантично отстаивавшие мораль. Разумеется, в условиях двадцатилетнего тюремного заключения трудно отличиться на поприще плотских утех, но даже в смелых фантазиях («Город Солнца») Кампанелла оставался пуристом. Жизнь и мысль таких людей подчинены борьбе за освобождение Италии и установлению справедливого правления; можно сопоставлять Кампанеллу с Пальмиери или с Микеланджело, в новейшей истории роль Томмазо Кампанеллы играет Антонио Негри.
Разумеется, Караваджо ничем не похож на этого храброго человека. Судьба угнетенного Отечества волнует картежника и развратника столь же мало, как спустя четыреста лет волновала его alter ego Сальвадора Дали судьба демократии в борьбе с фашизмом.
Еще более гротескно выглядит сопоставление фигуры Караваджо с мучеником Джордано Бруно, сожженным на костре инквизиции. Существует апокриф, согласно которому три дня, проведенные в тюрьме, в одной камере с Джордано Бруно, многому научили художника Караваджо. Скорее всего, эта легенда не соответствует действительности. Меризи да Караваджо приехал в Рим в 1592 г., тогда же и попал на три дня в тюрьму по доносу (за некую махинацию с деньгами); Джордано Бруно перевезли в Рим 27 февраля 1593 г. Помимо прочего, невероятно, чтобы политического узника поместили в одну камеру с воришкой. Характерно, однако, что истории искусств потребовался этот потешный апокриф. Один из исследователей даже пишет о «нескончаемых диспутах» между «сокамерниками». О чем же могли дебатировать заключенные? Уж не камеру ли обскуру обсуждали? Идеологию Контрреформации и личность кардинала Беллармино? Караваджо был пропагандист Контрреформации, идеологический работник; Джордано Бруно – философ, оспоривший идеологию христианства. О чем же беседовать? Миф о совместном заключении, которое меняет человека, основан на романе Дюма «Граф Монте-Кристо», в котором заключенный Эдмон Дантес проводит четырнадцать лет в камере с аббатом, который учит моряка всем наукам. Но три дня – малый срок для учебы, а Караваджо был сложившимся прагматиком. Уголовников порой сажали вместе с политическими, но примеров перевоспитания не замечено. Но потребность в романтизации Караваджо столь велика, что почти доказано, будто холст «Мученичество святого Матфея» (1600, год казни Бруно) посвящен гибели Бруно. Предположение, разумеется, наивно. Джордано Бруно был объявлен ересиархом, а сервильная кисть Караваджо даже в минуты бытовых безумств художника не отваживалась на еретические движения. Уж если идти путем сопоставления дат, то разумнее указать на «Обращение Савла» (1600), гонителя христиан, ослепленного светом и узревшего истину. Именно таким образом и вразумили Джордано Бруно, сжигая философа заживо, – трибунал (Беллармино в том числе) полагал, что свет и жар способствуют прозрению. Вернее же всего, пропагандист и философ никогда не встречались; эти люди безмерно далеки друг от друга. Одновременно с вынесением приговора Бруно тот же самый Климент VIII поручает Меризи да Караваджо роспись капеллы Контарелли: карьера удалась.
И если подчас хочется сказать, что идеи Бруно, Кампанеллы и Галилея питали фантазию своенравного художника Караваджо, уместно вспомнить, что художник был именно среди тех, кто убивал самих ученых и их учение. И художник прекрасно знал, что та идеология, которой он служит, этих ученых убивает.
Директивность новой эстетики в полной мере можно почувствовать в портрете кардинала Карло Борромео, выполненном художником Грамматикой в 1619–1621 гг.: за левым плечом кардинала изображен ангел, держащий в руках меч.
Караваджизм интересен не как воплощение скептических и позитивистских настроений умов – караваджизм ничего этого не воплотил и даже не собирался; караваджизм не рассуждает в философских категориях, ставит опыты над сознанием, но никак не над природой. Караваджизм важен, как камера-обскура, которая может высветить деятельность натурфилософов, мыслителей-позитивистов, поставленную на службу идеологии. Вполне осознанно караваджизм использовал техническое новшество – камеру-обскуру – как средство внушения зрителю объективности происходящего; одновременно с этим Караваджо понимал и принимал значение цензуры. Его собственные алтарные образы утверждались или оспаривались; некоторые из его римских алтарных изображений были возвращены и заменены вторыми версиями; обычная судьба идеологического автора – Фадеев, как известно, полностью переписал «Молодую гвардию», поскольку в первом варианте роль партии была недостаточно выпукло отражена.
Противоречие между объективностью натуры и идеологическим заданием принимается легко: в конце концов, идеология тоже объективна.
Караваджизм сам является камерой-обскурой, которой следует воспользоваться, чтобы смотреть на историю. Находясь в темной комнате истории, можно наблюдать, как Контрреформация объективизировала, разложила на противоречивые факты и опровергла равно и положения реформаторов, и фантазии неоплатоников.
4
Великая сила объективной реальности должна бы опровергнуть идеологию; кажется, что позитивизм должен противоречить религии; ничуть не бывало. Именно фактографией и позитивизмом Контрреформация и сильна. Для функционера Римской курии реальность идеологии и власти куда важнее фантазий. Надо подать веру как непреложный факт. Мистерии духа трактованы с точки зрения сухого факта – это подкупает верующего: теперь горожанин видит событие, как оно есть, видит героя без котурнов, без мелодраматических призывов пророков. Оказывается, все было просто.
И первое знание, которое усваивает верующий из картин Караваджо: взаимозаменяемость людей. Нет уникальных личностей. Боттичелли, Леонардо, Мантенья заняты поиском образа героя; Караваджо доказывает (и зритель верит), что на место героя (апостола, мученика) может встать любой. То, что взрывает композицию Эль Греко – родился Спаситель, и небеса разверзлись, вихри потрясли вселенную, – в картине Караваджо помещено в один ряд с прочими ситуациями физического мира. Юдифь, отрезающая голову Олоферну, проделывает вивисекцию не только без героического пафоса, с брезгливой гримасой, словно ей приходится разделывать скользкую рыбу или резать лук, от которого слезятся глаза. Героизм перестает быть героизмом, чудо перестает быть чудом, Караваджо показывает, как физиология объясняет чудо в «Неверии апостола Фомы» (1603, дворец Сан-Суси, Потсдам). Фома действительно может вложить перст в рану от копья, и последователи Караваджо повторили этот сюжет, превосходя друг друга в сарказме. Джованни Галли в 1625 г. рисует Спасителя, раздвигающего края своей раны, чтобы зрители могли получше рассмотреть розовую плоть под кожей. Интимный жест, позволяющий заглянуть внутрь тела Спасителя, и жеманный взгляд Иисуса делают зрителя соучастниками физиологического процесса воскрешения. Любопытно, что караваджистская трактовка воскресения отразилась в «Уроке анатомии доктора Тульпа» Рембрандта. Рембрандт пишет откровенную реплику на сюжет «Воскрешение Лазаря» – и сюжет с демонстрацией мертвого тела, которое не воскреснет, популярен в протестантских Нидерландах. Впрочем, Караваджо в «Неверии апостола Фомы» хотя и объясняет «воскресение» физиологически, этим вовсе не противоречит идеологии католицизма. Напротив, этой фактографией художник укрепляет позиции Контрреформации: паства видит, что простой человек Иисус страдал реально, куда более наглядно, нежели это тщатся показать протестанты.
Суть христианского позитивизма в том, чтобы, объясняя чудо на уровне физиологии, уравнивая Христа и апостолов со статистами из толпы, доказать объективность христианской идеологии. Христианство не есть вопрос убеждения и даже веры; христианская идеология – суть непреложная фактография.
Современник Караваджо, Чезаре Мальвазиа, писал так: «…я бы назвал его живописцем божественным, но ему не хватало знания вещей возвышенных, сверхнатуральных, и он был слишком привержен натуре». Мальвазиа неправ: Караваджо был равнодушен к любому проявлению натуры, он привержен принципу взаимозаменяемости натурных объектов, текучести натуры; Караваджо привержен идеологии факта – но факт этот сложносочиненный.
Якоб Буркхардт считал Караваджо скучным художником потому, что не существует, согласно Буркхардту, ни единого предмета, который художник возлюбил бы настолько, что посвятил бы картину именно ему. Буркхардт считает, что натурализм берет начало именно с полотен Караваджо; Лонги фактически солидарен с его мнением, хотя для Лонги натурализм – это революционное достижение.
Но в том-то и особенность идеологического письма Караваджо, что оно лишь имитирует натурализм, но это натурализм избирательный, не натурный. В этом и состоит обычный прием идеологии всех времен: пропагандист апеллирует к фактам, но располагает факты в удобном порядке.
Соблазнительно представить «натуралистическое» письмо Караваджо как следствие пантеизма, родственного с пантеизмом Джордано Бруно. Можно усмотреть в картинах своего рода развенчание божественной природы Христа и смещение центра события от Иисуса к любому случайному человеку. Бруно полагал, что следует освободиться от антропоцентрических религий и увидеть человека в ряду космических природных явлений. Соблазнительно (так часто делают) представить Караваджо как создателя иллюстраций к такой космогонии. Но Караваджо был показательно равнодушен к абстрактному мышлению и космосу; ни единого раза он не написал звездного неба, что при такой приверженности черному цвету невероятно. Устоять перед искушением изобразить черную бесконечность небес, населенную мириадами звезд, трудно. Однако бесконечность не интересует Караваджо. Его черный цвет – это не бесконечность, а предел. За границей его черного цвета ничего не существует, это плотный занавес.
Караваджо не пантеист, он не интересуется мирозданием; он – режиссер социального спектакля. Концепция гуманизма в данном представлении не популярна, но не потому, что ее место заняла концепция пантеизма – причина проста: в идеологии Контрреформации религия не столько предмет веры, сколько социальной организации. Театр по мотивам Евангелия («весь мир театр, в нем женщины, мужчины, все актеры и каждый не одну играет роль», как говорится в комедии Шекспира) поставлен затем, чтобы дать любому место в мистерии. Отныне прихожанин не взирает на картину Караваджо как на чудо, взывающее к его собственному преображению, напротив: знает, что он и его сосед включены в постановку, и в этом состоит реальность. «Когда страна быть прикажет героем, у нас героем становится любой», – пелось в известной песне сталинских времен. Но с тем же успехом человек толпы способен сыграть сегодня Христа, завтра – Савла, послезавтра – Иуду. От перемены роли в идеологической картине ничего не изменится. Это не пантеизм, но гибкая, живучая идеология. Снизить евангельский сюжет до бытового события, утилизировать Писание – это, как ни парадоксально, настоятельная потребность идеологии Контрреформации. Подлинная вера делает прямо обратное.
Можно сравнить картину Караваджо «Христос в Эммаусе» и картину Веласкеса «Завтрак». Вещи словно бы выполнены в единой эстетике, но это не так. В первом случае – чудесное явление Христа сознательно занижено до трактирной сцены, во втором – застолье поднято на высоту библейской притчи. Когда ван Гог пишет «Едоков картофеля», он показывает, как доведенные до скотского, полуживотного состояния труженики своей чистотой и благородством превращают убогую жизнь в мистерию. Но ван Гог – не идеолог, он подвижник. Караваджо, напротив, выполняет работу церковного агитатора.
Меризи да Караваджо становится универсальным мастером, которому подвластен любой сюжет из Священного Писания. Будь то «Рождество» или «Положение во гроб», «Успение Богоматери» или «Поцелуй Иуды», «Вечер в Эммаусе» или «Призвание Матфея», «Обращение Савла» или «Распятие Петра» – он приглашает необходимых статистов и расставляет их в нужных позах, вариации лиц множатся, что, однако, не приводит к разнообразию характеров. Караваджо никогда не пишет страсть, но эффектно изображает эмоцию. Актер, приглашенный на роль Иисуса или мальчика, укушенного ящерицей, изображает на своем лице боль и испуг; другой актер придает чертам лица жестокость – но эти эмоции не есть свойства образа; лишь мимические особенности, подсмотренные в камеру-обскуру. Герой Мантеньи всегда изображен со сжатыми губами, и герой Боттичелли не корчит гримас. Однако невозможно спутать образ Боттичелли с образом Мантеньи. Но узнаваемого образа Караваджо не существует. Если бы надо было опознать его Иисуса в толпе и найти отличие этого лица от лиц мучителей Иисуса, ни единый зритель не сумел бы это сделать; лицо Иисуса, написанное Мантеньей, помнят все.
Евангельский театр Караваджо – есть несомненная новация; до него подобного театра в искусстве не было.
Рассуждая о Караваджо (и караваджизме), употребляют слова «новаторство», «радикальное мышление», «раздвинул рамки сознания». Зрителю, стоящему перед картиной, фон которой закрашен черной краской (прежде живописцы рисовали голубые небеса, далекие склоны и солнце), где фигуры людей изображены в случайных движениях, словно подсмотрены в замочную скважину (прежде живописцы располагали фигуры согласно продуманному плану), такому зрителю надо ответить на вопрос: в чем состоит вмененный отныне закон? Ведь именно наличие общего закона потрясает в картинах Караваджо. Буквальность изображения вместо привычного в других художниках иносказания, хирургическая жестокость вместо обычного волнения – это все следствия главного качества картин Караваджо. В его творчестве потрясает власть закона. Власть универсального языка. Причем это отнюдь не натурализм, но механически выполненный урок для всех. Волшебное слово «авангард» не означает изменение – авангард есть символ утверждения. Когда говорят об авангарде, его роль видят в ниспровержении косных законов; это качество тоже присутствует, но не оно определяет роль авангарда: основная миссия авангарда – это утверждение новых законов. Авангард – не есть анархия (хотя на краткий миг анархисты кооперируются с большевиками, чтобы потом быть расстрелянными), авангард – это регламент. Авангард всегда предшествует империи, обычное заблуждение видеть в авангардистах республиканцев; у республики попросту нет средств экипировать авангард и выслать впереди основных отрядов. Авангардные войска, будь то д’Аннунцио, Маринетти, Малевич или Караваджо, предваряют вхождение в страну регулярных войск империи.
Авангард берет на себя роль провокационную: знакомит общество с новыми правилами, которые в скором времени оформятся в государственных масштабах законодательно.
Империя, в сущности, не нуждается ни в какой иной вере, кроме как в вере в себя самое и в свои статуты, религия в империях всегда играет роль служебную; оттого всякой империи ненавистны иудеи, не теряющие религиозной идентификации. Христианство в конце XVI и в начале XVII в. перешло в качество имперской идеологии. Наступило время империй и безверия одновременно – а такие времена нуждаются в строгом регламенте и в законодательстве, причем в законодательстве социальном и эстетическом.
Караваджо – этим он адекватно представляет новое время – автор нового правила, нового закона. Авангардист (в данном случае Караваджо) одновременно и создатель Нового времени, и продукт Нового времени. Идеологическое законотворчество Караваджо не понадобилось бы в эпоху, в которой личные убеждения служат моральным и социальным императивом. Но на обломках Ренессанса новое законотворчество неизбежно. Фон картины всегда будет черным – перспектива отныне отменяется. Позвольте, спросит зритель, неужели – навсегда? А как же Альберти, Учелло, Микеланджело, Брейгель; разве теперь нет ни прямой, ни обратной перспективы? Зрителю объясняют, что это не прихоть, но объективный факт: зритель сам должен видеть, насколько все натурально в этой картине – вот Христос как живой, и в рану его можно вложить палец. А фон – черный.
Авангардист действует подобно безжалостному имперскому чиновнику, описанному Кафкой: выполняет предписание – в случае Караваджо предписание фотокадра и черного занавеса, на фоне которого сфотографирована евангельская сцена. Художник, конечно же, считает, что следует объективным законам, так и чиновник не вкладывает в бесчеловечные действия ничего личного: действует согласно регламенту. Это не бюрократ бесчеловечен, это буква закона объективна. То, что разительно отличает фотографию от живописи, а бюрократию от диалога – это отсутствие рефлексии. Живописец (Рембрандт, Микеланджело, Гойя или ван Гог) может передумать, ошибиться, наконец. Рука модели может стать длиннее, а перспектива исказиться, если это нужно для передачи чувства и страсти. С фотографией не поспоришь; тем более с фотографией евангельской сцены. Утверждение, словно бы свободное от страсти, свойственно картинам Караваджо. Именно это и поражает зрителя: страсти Христовы изображены бесстрастно; жизнь вечная декларирована на фоне глухого черного цвета.
Именно страстями – милосердием, жалостью, сомнением – движим художник, когда берется за кисть. Что будет, если искусство освободится от страстей? Но идеологии не требуются страсти. В Караваджо потрясает бесчеловечность – бесчеловечность идеологического религиозного театра.
5
Чтобы завершить главу о караваджизме, Контрреформации, имперской эстетике и, соответственно, редукции гуманистического учения, надо учесть интерпретацию «гуманизма» мыслителями XX в.
История XX в. поставила под вопрос само существование гуманизма, коль понятие «человек» сделалось уязвимым как описание цельного явления.
Те, кто продолжал настаивать на цельности «феномена человека» – неотомисты Маритен и Тейяр де Шарден, – оказались в меньшинстве. Религиозные мыслители (даже если их религиозность была сродни Спинозе или Пико, то есть связывала духовное с природой) продолжали настаивать на уникальности человека и его предназначения. Духовное начало, считал Шарден, имманентно всему сущему, присутствует в каждой молекуле, но достигает в человеке предела, превращаясь в самосознание.
Такая точка зрения на грешного гражданина, проявившего себя в истории отвратительно, давно ставшего функцией общества, казалось, уже опровергнута историей. Аналитическая философия, разъяв человека на функции, доказывает, что природного автономного человека не существует. Деррида убеждает в том, что в явлениях следует искать не тождеств, но различий – и, таким образом, цельное понятие «человек» разъято. Трезвый взгляд не исключает, разумеется, сострадания конкретному субъекту (бытовая эмпатия – своим чередом), но учение гуманизм трудно использовать по отношению к существу, которое представляет собой набор разнообразных социальных функций. Это даже не деструкция, уверяет аналитический философ, коль скоро в истории наличие такой конструкции – человек – под вопросом.
Разумеется, такая точка зрения исключает веру в Бога, создавшего человека по своему образу и подобию. Но, ответственно рассуждая, что именно в истории XX в. может навести на мысль, что человек, созданный по образу и подобию Божьему, когда-либо существовал?
Человека Микеланджело не существовало никогда, проект Пальмиери остался на бумаге (да и то до сих пор не опубликован), фантазии Грамши, если глядеть на них из сегодняшней коррумпированной Италии, смешны, а картины Рембрандта – лишь дорогие предметы роскоши и не способны дать моральный урок тому, кто приобретает их на аукционах. Констатировать эти факты можно, и объективная реальность бесчеловечной истории XX в. получает своего рода индульгенцию: коль скоро ни единый из гуманистических проектов не воплотился никогда, тем самым практика Муссолини или Контрреформации – единственно возможная организация общества. Мы слишком хорошо знаем, что даже прекраснодушная утопия сворачивает не в ту сторону и ведет к новой беде.
Не хочется (это слишком досадно) рассматривать наше бытие как вечный процесс становления – хочется однажды просто быть, жить в уже осуществленном проекте. Однако такого удовольствия никто – ни Гегель, ни Микеланджело – не могут обещать: проект никогда не был воплощен и, возможно, не будет.
История и впрямь не знает иного гуманизма, кроме как вечно пребывающего в становлении, – но этот процесс становления и есть полноценное бытие человека разумного. Точно так же, как бытие Бога есть процесс становления Его замысла через деятельность человека. Бытие Бога – такой же несостоявшийся проект, как и гуманизм, – оба эти проекта, резонируя один в другом, и создают вечный двигатель истории.
Внутри этого процесса работа не останавливается никогда – еще и потому, что, однажды возникнув, образы Микеланджело и Рембрандта продолжают работать рядом с нами. Таким образом, это не просто замысел и не просто обещанный идеал, но вечно длящийся диалог. Это не абстрактная «способность к состраданию», проявляющаяся время от времени, но энергия жизни, отданная созданию республики равных. Искусство в этом процессе – не декоративная функция, но мотор.
Образы ван Гога, Брейгеля и Микеланджело трудятся, помогая нам ежечасно отделять соглашательство от прямодушия и честь от бесчестия.
Феномен творчества Караваджо важен в истории Европы – то была сознательная попытка утилизировать эстетику Ренессанса. Рыцарь Мальтийского ордена, художник Караваджо исправно выполнял идеологическую работу по развенчанию гуманизма. Он создал убедительные, как бы натурные произведения, словно бы объективно описывающие феномен христианской веры. С одинаковым бесстрастием он изображал боль и радость, экстаз и смерть. Его метод исключает сострадание, и боль для него лишь один из феноменов бытия, который он, наряду с прочими проявлениями природы, фотографирует. Переписанный языком железнодорожного справочника любовный роман по-прежнему повествует о любви, хотя мы не знаем, что любил Караваджо и любил ли он вообще кого-либо и что-либо, помимо себя. Он не милосерден, не хочет счастья ближнему, у него нет детей, зачем ему выражать душу, которой нет? Он тщеславен, он получает деньги за то, что исправно служит идеологии. Он не может не знать (об этом говорят в церкви, в конце концов), что счастье не в славе и не в деньгах, а в чем-то надмирном, не-материальном: в запахе волос женщины, в тепле щеки ребенка, в детском смехе, в руке отца, в сознании того, что помог товарищу, в облегчении боли другого. Этого в его картинах нет, и, возможно, он, подобно философу-постмодернисту, считал, что такого рода эмоция относится к «духовной археологии» (термин Фуко) и не переживается полноценно, всем существом человека, не тождественна смыслу существования.
Свое абсолютное неверие в добро Караваджо доносит до зрителя. Сходные чувства переживал обыватель, когда ему предъявили вместо сантиментов Серебряного века черный квадрат. Обыватель испытывал катарсис нового эстетического переживания – переживания пустоты; спустя короткое время моральный вакуум заполняла безжалостная сила империи.
Караваджо сохранил перспективу как метод описания отдельного объекта (мы видим ракурсные сокращения), но уничтожил перспективу как философскую категорию сознания. Все развитие изобразительных искусств связано с понятием перспективы. Обратная перспектива – это взгляд Бога на человека, прямая перспектива – это взгляд человека на Бога. Караваджо отказался от той и от другой. Уничтожение прямой перспективы означало отказ от гуманистической воли, невозвращение к обратной перспективе было связано с банальным неверием в Бога. Черная краска, коей равномерно покрыта поверхность холста Караваджо, символизирует ровно то же самое, что символизирует черная краска в пресловутом «Черном квадрате» Казимира Малевича: отсутствие высшего смысла в принципе.
Брейгель или Леонардо потрясены наличием бесконечного мира вне их самих. Они присочиняли и добавляли подробности к наблюденному – долгая перспектива их картин есть дань уважения творению Всевышнего. Мало того, протяженные дали с подробностями, с домиками и садами, путниками и пастбищами есть дань уважения существованию других, не схожих с тобой людей, которые возделали свой участок общей для нас планеты. Ван Гог выразил это чувство сопричастности со всем дольним миром, с каждым участком, с каждой делянкой в своих последних холстах, посвященных уходящим в пространство полям. Разгороженные шаткими заборчиками или пересеченные межой, убегающие вдаль поля рассказывают нам о разнообразии человеческих судеб. Когда Винсент ван Гог вместе со своим другом зуавом Милле смотрел с горы на простиравшиеся поля, он спросил у зуава: «Не правда ли, это прекрасно, как море?» Зуав Милле ответил (ответ восхитил ван Гога): «Нет, это еще прекраснее – ведь здесь живут люди!»
Так рассуждали и художники Ренессанса, создавшие перспективу. Но вот потребовался большой стиль империй (барокко), нужно приготовить мир к Тридцатилетней войне и дворцовым декорациям – и в те величественные времена интерес к человеку ослаб и выветрился. Для огромных планов и гигантских аппетитов такая мелочь, как человек и его перспективы, не столь и важна. Караваджо сделал первый шаг на этом, столь востребованном, пути. Он создал величественный стиль, убедительный и универсальный.
Роскошный, как всякая великая идеология, и пошлый, как всякая бессердечность.