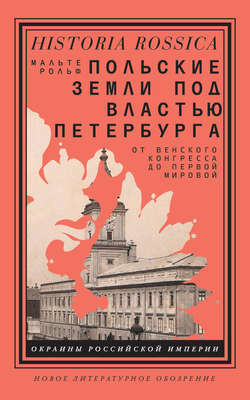Читать книгу Польские земли под властью Петербурга. От Венского конгресса до Первой мировой - Malte Rolf - Страница 13
Глава III
СТРУКТУРЫ, АКТОРЫ И СФЕРЫ РОССИЙСКОГО ВЛАДЫЧЕСТВА В ЦАРСТВЕ ПОЛЬСКОМ ПОСЛЕ 1863 ГОДА
ЦАРСТВО ПОЛЬСКОЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ПРИВИСЛИНСКИЙ КРАЙ: РЕЖИМ ПОСЛЕ ЯНВАРСКОГО ВОССТАНИЯ (1863–1915)
Русификация, деполонизация или внутреннее государственное строительство? О горизонте действия имперских властей
ОглавлениеИтак, список мер, принятых центральными властями в отношении «мятежных» польских провинций, был длинным и привел к фундаментальным и долговременным изменениям в их политическом, экономическом и культурном устройстве. Раньше историки толковали эти мероприятия как единую и последовательную программу русификации169, и лишь недавно такая интерпретация стала подвергаться критике170. В самом деле, намерения правительства были отнюдь не однозначны: в имперской политике пересекались различные интересы, представления и решения, которые отчасти усиливали, а отчасти блокировали друг друга.
В свете опыта 1830–1831 и 1863–1864 годов одной из главных целей Петербурга в Царстве Польском стало эффективное и долговременное предупреждение новых восстаний в этом стратегически важном регионе империи. Репрессии против непосредственных участников вооруженного выступления, размещение значительных воинских гарнизонов, расширение фортификационных сооружений, наращивание полицейского аппарата – все это было призвано навсегда «замирить» Привислинский край. Одновременно власть стремилась подорвать социальную базу тех сил, которые рассматривала как зачинщиков восстаний. Дискриминационные меры против польской шляхты и католического клира носили двоякий характер: это были одновременно и кара за «неблагодарность», и стратегическое ослабление данных социальных слоев.
Восстановление власти Петербурга в Царстве Польском, особенно в первые годы после Январского восстания, носило черты «правосудия победителей», направленного на наказание и унижение побежденных и на подчеркивание их подчиненного статуса. В частности, указы, которые вводили русификацию публичного пространства, были порождены этой жаждой продемонстрировать всем новоустановленную гегемонию победителей. Все, что считалось польским, подлежало символическому переводу в подчиненное положение. Демонстрировавшие свою устрашающую власть и мощь российские завоеватели, впрочем, в первое время вовсе не были уверены в собственном культурном превосходстве над покоренными поляками. Лишь постепенно у них выработался такой дискурс, который все сильнее и сильнее убеждал их, что они и в культурном отношении стоят выше побежденных: «романтическая» польская аристократическая культура характеризовалась в этом дискурсе как устаревшая, отсталая и потому – обреченная. Давний топос, согласно которому поляки якобы не способны к государственности, что проявилось в хаотичном устройстве и военно-политической слабости их шляхетской республики, шаг за шагом встраивался в колониалистскую иерархию, ранжирующую народы в целом по степени их «культурности»171. Мало оснований сомневаться в том, что огромное количество российских чиновников постепенно усвоило эту систему убеждений, в которой им самим отводилась более высокая ступень политического, военного и культурного развития, нежели покоренным. Когда новый генерал-губернатор, Иосиф Гурко, в 80‐е годы на торжественных приемах в своей варшавской резиденции заставлял присутствующих польских аристократов разговаривать не на французском, а на русском языке, то это было, с одной стороны, несомненно, актом преднамеренного унижения, а с другой – еще и сигналом, что высшую польскую знать, давно лишенную политического влияния и подвергаемую все более заметной социальной маргинализации, генерал-губернатор рассматривает уже не как ровню себе, а как второстепенных подданных.
В полном соответствии с такой схемой мышления правительство предпринимало серьезные усилия для того, чтобы интегрировать польское деревенское население в свои – не очень отчетливые – планы относительно будущего Привислинского края. В патерналистский помещичий менталитет, характерный в особенности для высшего эшелона российского чиновничества, без проблем вписывался топос о «благодарном» и потому «верном» крестьянине. Здесь – в отличие от остзейских провинций, населенных «малыми» народами, – даже в долгосрочной перспективе не предполагалось постепенного обрусения сельских жителей; не шло речи о том, чтобы из польских крестьян-католиков сделать русских православных. Об этом убедительно свидетельствует тот факт, что никакой активной поддержки православной миссионерской деятельности бюрократия не оказывала172. Ее политика была основана на предположении, что ненависть поляков к российским властям раздували прежде всего шляхта и ксендзы. Освобождение крестьян в 1864 году и аграрная политика последующих лет были поэтому сознательно нацелены на то, чтобы обострять напряжение в отношениях между землевладельцами и крестьянами, дабы шаг за шагом ослаблять якобы пагубное влияние первых на вторых. Постепенно укреплявшуюся веру в собственное культурное превосходство топос о верном польском крестьянине даже усиливал: ведь отношения между чиновниками и крестьянами характеризовались социокультурным статусным неравенством, которое никогда не ставилось под сомнение. Возможно, именно по данной причине имперские чиновники не расставались с этой idée fixe. Даже после того, как революционные события в сельской местности и коммунальное движение в 1905–1906 годах ясно показали, что лояльность польского крестьянства царю и империи была не слишком высока, топос о «верном крестьянине» продолжал фигурировать в текстах, выходивших из-под пера имперских управленцев: расстаться с этим убеждением, столь милым сердцу российских чиновников и так хорошо поддерживавшим их представления о собственном статусе, было явно нелегко173.
В первое время, однако, такое иерархическое мышление у российской стороны еще не консолидировалось: именно об этом свидетельствует та полонофобия, которая наблюдалась у многих представителей администрации, а также – и прежде всего – у деятелей российской публичной сферы. Особенно по ранним реакциям на восстание видно, что имперские власти испытывали должное уважение к противнику, признавая исключительно эффективную организацию подпольной работы у поляков. Поэтому лица, принимавшие решения в Петербурге, так настаивали на максимальной деполонизации управленческого аппарата. Как уже было показано выше, это стремление наталкивалось на финансовые ограничения, что, однако, не отменяло принципиальной цели: удалить поляков, которым приписывались неверность и склонность к образованию тайных обществ, по крайней мере со стратегических позиций в государственных органах.
Основной целью была не столько русификация, сколько деполонизация управленческого аппарата. Об этом говорит тот факт, что за десятилетия после Январского восстания кадровый состав органов государственного управления в Царстве Польском в принципе остался многонациональным. Из десяти наместников и генерал-губернаторов, сменившихся за период с 1864 года до начала Первой мировой войны, четверо были нерусскими по национальности; род Гурко тоже происходил от литовских магнатов. Этническая принадлежность не играла значительной роли ни в назначении на эту важную должность, ни в политических ориентациях того, кто ее занимал, ни даже в его самоидентификации. Какой факт может свидетельствовать об этом нагляднее, чем то, что в течение первых пятнадцати лет после Январского восстания судьбы Привислинского края вершили два немца – наместник генерал Фридрих Вильгельм Ремберт (в русском обиходе – Федор Федорович) фон Берг и генерал-губернатор Пауль Деметриус (в русском обиходе – Павел Евстафьевич) фон Коцебу? Главное было не в том, чтобы поставить на ключевые должности людей русского происхождения, а в том, чтобы удалить с этих должностей поляков.
Политика, нацеленная на уменьшение польского влияния, встречала одобрение со стороны российской общественности. Январское восстание значительно ускорило процесс складывания рынка общественного мнения и публикаций в России. Издатели, такие как Михаил Катков, и писатели, такие как Иван Аксаков, создавали по поводу польского восстания памфлеты, отчасти носившие оголтелый антипольский характер174. Впрочем, едва ли можно предполагать, что их агитация непосредственно влияла на политику: в 60‐е годы XIX века принцип автономии государства от общества был само собой разумеющимся и незыблемым. Даже если имперские сановники и приветствовали антипольские кампании, которые развертывались в российской журналистике, все же они ни в коей мере не подчиняли свои решения никакому «общественному мнению»175.
Контраст между публицистическими дебатами о будущем Привислинского края и политическими мероприятиями правительства дает возможность увидеть, в чем заключается проблематичность понятия «русификация» в данном контексте. «Польский мятеж» не только вызвал бурю возмущения в российской публицистике: в связи с «польским вопросом» многие стали глубже задумываться и над тем, в чем заключается истинно «русское» и какую роль оно должно играть в системе империи. Прежде всего славянофильское движение начиная с 60‐х годов приобрело отчетливо русоцентричный характер путем дистанцирования от поляков как от «изменников»-братьев. В то же время в российской публичной сфере стало раздаваться все больше голосов с требованием более привилегированного положения для всего русского в империи. Многое из того, что стало потом, в 80‐е годы, типичным для правления Александра III, предвосхищалось этими идеями, высказываемыми сразу после Январского восстания176. В числе прочего в определенных общественных кругах пропагандировались и идеи культурной русификации польских окраин, а отчасти и других периферий империи. Государственную политику, согласно этим представлениям, следовало направить не только на вытеснение поляков с административных должностей, но и на расшатывание – хотя бы частичное – польской идентичности подданных, населявших Привислинский край, дабы открыть путь для распространения там русской культуры.
Такого рода требования, впрочем, плохо сочетались с намерениями государственных деятелей, отвечавших после восстания за политику в отношении Польши. Лишь при поверхностном взгляде может сложиться впечатление, что мероприятия государства в Привислинском крае в 60–70‐е годы представляли собой его «административную русификацию»177. Использование такой терминологии не позволяет заметить, что за вмешательствами во внутреннее устройство Царства Польского, помимо желания «замирить» этот край, скрывалось прежде всего принципиальное стремление к унификации, вообще типичное для реформ Александра II. Административную реорганизацию Привислинского края следует рассматривать не изолированно, а в контексте Великих реформ 60–70‐х годов178. Главным в проекте этого комплекса реформ было намерение создать и активировать гражданское общество и «пригласить» его к ограниченному участию в управлении империей. Для этого необходимо было обеспечить повсюду одинаковые административные и правовые структуры. Чтобы замысел внутренне унифицированного – и ставшего благодаря этому более устойчивым и одновременно более активным – государства мог воплотиться в жизнь, нужно было покончить с плюрализмом особых административных и правовых зон в империи. Лоскутное одеяло из весьма несхожих между собой партикулярных систем, оставшееся Александру II в наследство от домодерной многонациональной империи, которая расширялась путем инкорпорации земель, элит и их привилегий, теперь предстояло трансформировать в некое единообразное целое179.
В свете сказанного выше реорганизация административной и правовой систем в Царстве Польском после 1864 года предстает как «нормализация» внутренней государственной структуры. Тот процесс гомогенизации, который в последующие годы охватил и другие периферии Российской империи, в польских провинциях был ускорен восстанием, потому что после его разгрома власти оказались освобождены от необходимости относиться с уважением к местным правовым традициям – они могли перейти к политике радикальных преобразований, не обращая внимания на голоса местного населения, особенно польских элит. Административная реорганизация Привислинского края, таким образом, представляла собой проявление нового государственного интереса: в политическом мышлении влиятельных петербургских сановников внутренняя унификация государства превратилась в самостоятельную ценность. Единообразие государственных структур во всех частях империи сулило прогресс и модернизацию, тогда как «чересполосица» напоминала о раздробленности и неповоротливости России времен дореформенного ancien régime [фр., буквально «старый режим». – Примеч. ред.].
Разумеется, стремление к унификации было лишь одним фактором из многих, и царские власти сами регулярно нарушали собственные принципы. Еще и много лет спустя после Январского восстания они – прежде всего в силу своего стойкого недоверия к польским подданным – вводили для Привислинского края особые правила, принципиально противоречившие идее единообразия. Существование должности генерал-губернатора, отказ от учреждения в Польше органов местного самоуправления и судов присяжных, а также «духовные шлагбаумы», которые воздвигал Варшавский цензурный комитет даже на восточной границе Привислинского края180, – все это были институции и мероприятия, консервировавшие особое положение региона и в конечном счете вредившие унификаторскому замыслу реформ Александра II.
Как в унификационных, так и в дискриминационных своих мерах власти могли быть уверены в поддержке со стороны российской общественности. И тем не менее главной целью петербургских чиновников была отнюдь не русификация польских провинций, как она виделась некоторым из наиболее рьяных участников публичной дискуссии по «польскому вопросу». Главным для чиновников было привести новые земли к таким стандартам, которые применялись на всей территории Российской империи и которые можно назвать скорее «имперскими», а не «русскими». Поэтому и понятие «административной русификации» вводит в заблуждение, поскольку маркирует как «русское» то, что изначально замышлялось как «российско-имперское». Многие из принципов упорядочивания, экспортировавшихся на окраины Российской империи, были для центра столь же новыми, столь же «чужими», как и для периферии. Они вытекали из управленческой логики, рассчитанной на всю территорию империи, а не из императива повсеместного насаждения некой «русской модели». «Русификация» этих структур была скорее постепенным процессом, пришедшимся на период правления Александра III, когда влиятельные голоса на российском рынке общественного мнения все чаще и все больше соглашались с правительством, которое все больше понимало себя как представительство «русского». То, что раньше мыслилось как «имперское», теперь все больше и больше означало «русское»181. Но эта позднейшая актуализация национального момента в империи еще ни в коем случае не являлась главным ориентиром деятельности чиновников в первые десятилетия после Январского восстания. Назвать административные и правовые реформы 1860–1870‐х годов русификацией значило бы исказить первоначальные мотивы действий царских властей. В частности, это не позволило бы увидеть динамичный процесс последующего изменения интерпретаций с нарастающим доминированием именно русского элемента.
Частично это относится и к той перестройке системы образования, в ходе которой русский был сделан языком преподавания, а российская история, литература и география – основными предметами учебной программы. Польша была не единственным случаем, когда российским чиновникам в ходе Великих реформ стала очевидна необходимость форсировать единообразное использование «государственного языка» в сферах управления, права и образования. Унифицированная администрация, как им казалось, могла функционировать эффективно, только если поверх всего языкового разнообразия Российской империи установить один, общий для всех официальный язык, преподавание которого, в свою очередь, должно стать одной из важнейших задач государственных школ империи. Чиновники регулярно указывали на то, что введение русского языка в школьное преподавание имеет целью изучение «государственного» или «правительственного языка»182. При этом они, несомненно, скрывали другие намерения, особенно стремление сломить польскую культурную гегемонию в публичном пространстве, частью которого являлись и образовательные учреждения. И все же не следует недооценивать это заявление о намерениях с точки зрения его значения для деятельности царских чиновников: проект фундаментальной реорганизации административных структур в Привислинском крае мог увенчаться успехом лишь при условии закрепления за русским языком статуса языка образования. О том, что именно такова была логика действий российского режима, свидетельствуют законодательные положения в области школы, последовавшие за административными мерами.
Кроме того, можно указать в этой связи на принципиальную разницу между 1860‐ми и 1880‐ми годами: образовательная политика, которую проводил с 1879 года попечитель Апухтин, была гораздо отчетливее ориентирована на то, чтобы в конечном итоге добиться культурной русификации школьников Привислинского края. Осуществленный этим чиновником переход к преподаванию на русском языке в начальных школах затрагивал один из основных институтов культурной социализации. Даже сам Апухтин, вероятно, никогда не верил, что сумеет сделать из поляков русских. В силу отвращения, питаемого им к полякам, он, наверное, считал такое смешение и нежелательным. Но его печально известное высказывание, что он видит цель своей образовательной политики в том, чтобы малолетние польские дети пели русские песни, все же ясно показывает: главное было не в освоении государственного языка, а в том, чтобы с раннего детства поляки усваивали русский культурный канон183.
Некоторые из мероприятий 1860‐х годов, несомненно, дают повод истолковывать их как следствие стремления к русификации. Кроме того, для многих представителей польской стороны, которых эти меры затрагивали, тонкие различия в направленности государственной политики вообще никогда не были важны или хотя бы заметны. Особенно в ретроспективе, т. е. при взгляде из эпохи «двоевластия» генерал-губернатора Гурко и попечителя Апухтина на имперскую политику, проводимую в Польше после 1864 года, мероприятия правительства выглядели как всеобъемлющая и продуманная концепция «наступательной русификации». Многие воспринимали десятилетия после Январского восстания как некое временнóе и программное единство, период, в течение которого российский оккупационный режим не только жестоко преследовал все символы польской государственности, но и уничтожал польскую культурную самобытность. То, что существовала разница между имперскими и русскими ориентирами в действиях царских властей, при таком их истолковании было второстепенным. Общеимперский контекст в критических репрезентациях оставляли почти полностью за рамками рассмотрения, а петербургские директивы интерпретировались прежде всего как антипольская политика, которая все больше угрожала культурным основам польскости184.
Все более интенсивное вмешательство центра в дела бывшего Царства Польского вызвало многочисленные процессы разграничения и, как и в других периферийных районах империи, порождало стратегии сопротивления, на которые имперские чиновники должны были как-то реагировать, что нередко оказывалось выше их сил. Однако новый режим, установленный Петербургом в Привислинском крае в ответ на Январское восстание, получился вполне жизнеспособным с имперской точки зрения. За исключением нескольких модификаций, он просуществовал в неизменном виде до конца российского правления в Польше.
169
См., например: Gill A. Freiheitskämpfe der Polen; Rohr E. K. Russifizierungspolitik im Königreich Polen nach dem Januaraufstand 1863/64. Berlin, 2003; Wandycz P. S. The Lands of Partitioned Poland. P. 196.
170
См.: Kappeler A. The Ambiguities of Russification // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2004. Vol. 5. No. 2. P. 291–297; Миллер A. Русификации: классифицировать и понять // Ab Imperio. 2000. № 2. С. 133–148; Miller A. «Russifications»? In Search for Adequate Analytical Categories // Hausmann G., Rustemeyer A. (Hg.). Imperienvergleich. Beispiele und Ansätze aus osteuropäischer Perspektive. Festschrift für Andreas Kappeler. Wiesbaden, 2009. S. 123–144; Rodkiewicz W. Russian Nationality Policy. Прежде всего p. 29–43; Weeks T. R. Russification. Word and Practice 1863–1914 // Proceedings of the American Philosophical Society. 2004. Vol. 148. No. 4. P. 471–489.
171
С этим согласен и Теодор Уикс: Weeks T. R. Nation and State in Late Imperial Russia. P. 197.
172
Об этом см.: Горизонтов Л. Е. Парадоксы имперской политики. С. 191–214.
173
AGAD. Pomocnik Generał-Gubernatora Warszawskiego do Spraw Policyjnych [далее – PomGGW]. Sygn. 1212. Kart. 75–75v.
174
См.: Аксаков И. С. Польский вопрос и западно-русское дело; Катков М. Н. 1863 год. Собрание статей. См. также: Miller A. The Romanov Empire and Nationalism. P. 56, 170.
175
См. также: Geyer D. Der russische Imperialismus. S. 46.
176
См.: Maiorova O. War as Peace. The Trope of War in Russian Nationalist Discourse during the Polish Uprising of 1863 // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2000. Vol. 6. No. 3. P. 501–534; Миллер A. Империя Романовых и национализм. С. 158–160; Солодухина И. И. Польский вопрос в русской публицистике в 60‐е гг. XIX века по страницам газеты «День» // Московский государственный открытый педагогический университет. Ученые записки кафедры всеобщей истории. M., 1996. С. 54–63.
177
См.: Thaden E. C. Introduction // Thaden E. C. (ed.). Russification in the Baltic Provinces and Finland, 1855–1914. Princeton, 1981. P. 3–14, прежде всего p. 8–9; Idem. The Russian Government // Ibid. P. 15–110. Прежде всего p. 33–53, 76–87.
178
ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 76. Л. 1–43, здесь л. 1–3. Подробнее об этом см. в работе: Grandits H., Judson P., Rolf M. Empires and Nations.
179
ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 76. Л. 24 об.
180
Спасович В. Д. Записка в цензурный комитет // Атенеум. 1880. 1 сентября. С. 1–2.
181
Об этом см.: Miller A. The Romanov Empire and Nationalism. P. 56–59.
182
ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 76. Л. 45a–81, здесь л. 51. Об ограниченной эффективности и недостаточной последовательности концепций русификации в западных губерниях см., в частности: Dolbilov M. Russification and the Bureaucratic Mind; Miller A. Between Local and Inter-Imperial.
183
Апухтин объявил, что его цель – чтобы «польских детей няньки баюкали русскими песнями» (цит. по: Porycki J. Aleksander Apuchtin – właściciel majątku Kułaki // Ciechanowiecki Rocznik Muzealny. Ciechanowiec, 2006).
184
См.: Лелива, граф [Тышкевич А.]. Русско-польские отношения. С. 38–63.