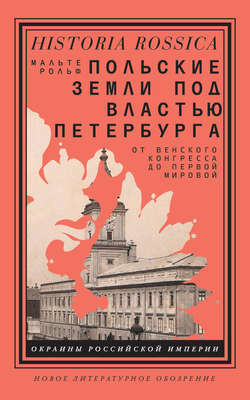Читать книгу Польские земли под властью Петербурга. От Венского конгресса до Первой мировой - Malte Rolf - Страница 9
Глава II
УСТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ВЛАДЫЧЕСТВА НАД ВОСТОЧНОЙ ЧАСТЬЮ РАЗДЕЛЕННОЙ ПОЛЬШИ (1772–1863)
ЦАРСТВО ПОЛЬСКОЕ МЕЖДУ ВЕНСКИМ КОНГРЕССОМ И НОЯБРЬСКИМ ВОССТАНИЕМ (1815–1831)
ОглавлениеЦарство Польское было наделено далекоидущими привилегиями, которые казались немыслимыми для внутренней России, и это подчеркивало его государственную самостоятельность. Прежде всего, то была разработанная с участием Чарторыйского в 1815 году Конституция: она гарантировала Польше особый статус и сделала ее «опытным полем» для конституционных реформ Александра I53. Конституция подчеркивала государственный суверенитет Конгрессовой Польши и предусматривала для нее правительство в виде Государственного совета, назначаемого монархом, и парламент – сейм, состоявший из палаты депутатов, члены которой избирались от провинциальных и муниципальных палат, и сената, члены которого назначались монархом. Сейм должен был собираться каждые два года и заседать в два раза дольше, чем во времена Герцогства. Согласно избирательному законодательству, более 100 тыс. граждан имели право голосовать, т. е. в Польше электорат был больше, чем во Франции в то время, однако это право все же оставалось монополией имущих классов.
Конституция закрепила «вечную» личную унию, по которой русский царь был польским королем. В этом качестве он возглавлял Государственный совет, однако собственно правительственной работой совета руководил наместник, которого назначал царь и которому были подчинены пять министров, тоже назначаемых царем. Деятельность правительства осуществлялась пятью комиссиями, работавшими весьма активно, особенно в области содействия образованию и экономическому развитию. Царь в качестве польского короля также председательствовал в сейме. Обе палаты сейма через три комиссии участвовали в законотворчестве с правом совещательного голоса. В то время как сенат состоял из членов магнатского сословия и царской семьи, избираемая палата депутатов оказалась форумом оживленного обмена мнениями и идеями54.
В восьми провинциях Царства Польского сохранялся коллегиальный принцип управления. Провинциальные комиссии возглавлял президент (которого назначал царь), а провинциальные и муниципальные собрания направляли избранных представителей в советы провинций. Города управлялись городскими советами, сельские общины – войтами. Кроме того, в Царстве Польском имелся собственный Верховный суд, половину членов которого составлял сенат, а половину – лица, назначаемые царем. Введенный Бонапартом еще в Герцогстве Варшавском Гражданский кодекс (Кодекс Наполеона) был сохранен в качестве кодекса гражданского права. Наряду с этим в Конституции были подчеркнуты главные гражданские свободы, такие как свобода мнений и вероисповедания, защита собственности, равенство перед законом и защита от произвольного ареста.
И последнее, но не менее важное: царь гарантировал новому государству собственную, польскую армию, которая, правда, находилась под верховным командованием его брата, великого князя Константина, однако царь по крайней мере обещал, что ее солдаты будут использоваться только на европейских театрах военных действий. Для репрезентации особого положения Польши существование собственной армии имело центральное значение.
Подчеркнутая государственная самостоятельность, которую, как казалось, гарантировала Конституция, в первые годы после Венского конгресса была дополнена символической политикой примирения. Александр очень старался многочисленными примирительными жестами привлечь к строительству нового государства под своей верховной властью широкие слои польской аристократии. Административное деление следовало традиционной структуре польских воеводств, а чиновничий аппарат составлялся исключительно из местных, польских кадров. В 1815 году князь Юзеф Зайончек стал первым наместником и, тем самым, главой Государственного совета. Таким образом, в качестве официального представителя русского царя и в качестве главы польского правительства выступал человек, который еще недавно в чине генерала участвовал на стороне Наполеона в войне против России. С другой стороны, это назначение показывает, что царь больше не хотел давать сильную позицию Чарторыйскому, который к тому моменту утратил, по крайней мере частично, былое безграничное доверие Александра.
Вместе с тем регулярное присутствие царя в Варшаве свидетельствовало о том, насколько важны были на этом этапе польские дела для центра. Каждый визит самодержца служил демонстрации автономии Царства Польского. Во время пребывания в Варшаве Александр отдельно короновался как польский король, принял присяги от польских сословий, гарантировал права, закрепленные в Конституции, и лично открывал сессии сейма55.
Самостоятельность Царства Польского была также подчеркнута созданием Варшавского архиепископства. Когда традиционные границы диоцезов после 1815 года меняли в соответствии с новыми политическими границами, исчезла прежняя функция примаса Польши, которую ранее выполнял архиепископ Гнезно, стоявший, таким образом, выше остального польского епископата. Теперь же в Гнезно-Познани, Львове и Варшаве находились равноправные епархии, что для Варшавы означало существенное повышение ее статуса в церковной иерархии. Среди мер, подчеркивавших польскую автономию, не последнюю роль играло и основание в 1816 году Варшавского университета: с одной стороны, оно должно рассматриваться как продолжение образовательных реформ Александра, с другой – Петербург этим актом сигнализировал, что местные интересы и устремления поляков в области образования и развития имели для него первостепенное значение, поэтому Александр почтил вновь созданный университет своим личным присутствием на церемонии открытия. В последующие годы комиссии польского правительства именно в педагогической сфере развили особенно бурную деятельность. Прежде всего благодаря председателю Комиссии исповеданий и народного просвещения Станиславу Костке (в русском обиходе – Станиславу Евстафьевичу) Потоцкому в первые пять лет после Венского конгресса была проведена огромная работа в области как университетского, так и общего образования. Ревностный реформатор и масон, Потоцкий оставался в должности почти до самой смерти и вложил значительные средства в развитие системы начальных школ. Однако едва ли в какой-либо другой сфере правительственной деятельности так явно, как в вопросах образования и религии, можно было увидеть, что польское общество характеризовалось глубоким антагонизмом между реформаторами, продолжавшими традиции Просвещения и Конституции 3 мая, и консервативными силами, которые пользовались поддержкой в среде высших церковных сановников и иезуитов. После того как в 1821 году Потоцкий умер, во главе Министерства просвещения встал Станислав Грабовский – представитель консервативного крыла. Вслед за этим в деле массового образования произошел резкий спад и наступил общий развал учебных заведений56.
Напротив, действия министров финансов и промышленности оказали гораздо более устойчивое влияние на социальное и экономическое развитие Царства Польского. Созданная в 1816 году Главная горнопромышленная дирекция сначала попробовала свои силы на локальном уровне, в поддержке добычи угля в Домброве, а затем министр промышленности Станислав Сташиц возвел меркантилизм в ранг правительственной доктрины. Сташиц, который был также президентом влиятельного Варшавского общества друзей наук (Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk), по праву считается одним из самых активных просветителей и реформаторов первых лет после Венского конгресса57. Начиная с 1821 года министр финансов Францишек Друцкий-Любецкий стал проводить обширную реформу национальной экономики. Некоторое время он занимал ключевое положение в правительстве, практически не встречая противодействия со стороны Зайончека, и в результате Министерство промышленности утратило свое значение.
Активная, интервенционистская экономическая политика Друцкого-Любецкого привела к тому, что в ключевых областях и отраслях – таких, как добыча полезных ископаемых, производство текстильных изделий и металлообработка, – произошло быстрое оживление промышленности. Он добился снижения российских таможенных тарифов для Польши и в то же время проводил протекционистскую политику в отношении Австрии и Пруссии, за счет чего гораздо больше привязал Польшу к Российской империи. Министр финансов успешно боролся за сбалансированный бюджет, и при его участии после нескольких лет переговоров с Пруссией и Австрией было достигнуто списание долгов Польши. Но не только это способствовало буму инвестиций в Царстве Польском. Основание польского государственного банка по инициативе того же министра открыло новый простор для маневра. Государственный банк предоставлял кредиты предпринимателям, желавшим инвестировать капиталы в Польше, а также сам вкладывал деньги, особенно в области инфраструктуры.
Кроме того, министр финансов прекрасно понимал важность образования. Ему приписывают утверждение, что Польше нужны три вещи: торговля, промышленность и школы. И действительно, он выступал за расширение сети школ и за создание высшего учебного заведения для преподавания прикладных наук. Открытие в 1828 году в Варшаве Политехнического института означало не только то, что теперь можно готовить необходимый технический персонал для растущей промышленности: деятельность этого образовательного учреждения привела и к общей активизации культурной жизни Варшавы и – в среднесрочной перспективе – к дифференциации интеллектуального ландшафта Царства Польского. Таким комплексом мер Друцкий-Любецкий заложил основы той позднейшей промышленной революции, которая сделала Царство Польское одним из наиболее экономически развитых регионов Российской империи в целом58.
Нигде эти новые экономические процессы не проявлялись более впечатляющим образом, нежели в провинциальной Лодзи и столичной Варшаве.
Город Лодзь, построенный на земле короны, благодаря целенаправленной поддержке промышленности за десятилетие превратился из деревни, где было всего лишь 800 жителей, в центр текстильной индустрии с почти десятитысячным населением. Этим была заложена основа для его развития, в ходе которого «Восточный Манчестер» к исходу XIX века стал вторым по величине городом в Царстве Польском и одним из важнейших промышленных центров всей Российской империи.
Одной из особенностей Лодзи была ее многонациональность и многоконфессиональность. Уже в 1820‐е годы здесь поселилось несколько немецких сукноделов, построивших сеть прядилен для производства хлопчатобумажных и льняных тканей. Самыми богатыми и известными среди них стали Кристиан Фридрих Вендиш и, особенно, Людвик Гейер, а в 1850‐е годы появились крупные производители Карл Вильгельм Шайблер и Юлиус Шварц. Благодаря быстрому расширению фабрик и притоку немецких рабочих к 1839 году немцы составляли уже до 80% населения города. Чуть позже в Лодзи сформировалась еврейская община, значение которой особенно возросло после того, как в 1848 году вышло официальное разрешение на строительство фабрик. В 1834 году Кальман Познанский поселился здесь со своей семьей и быстро вошел в число самых богатых местных торговцев. В 1852 году он передал свои дела в Лодзи младшему сыну, Израэлю, который в последующие годы стал одним из крупнейших еврейских предпринимателей, фабрикантов и филантропов во всем Царстве Польском. Хотя быстрое развитие крупных предприятий и расширение индустриального текстильного производства с применением паровых машин приходится на вторую половину XIX века, все же основы для экономического подъема Лодзи и превращения ее в промышленный мегаполис были заложены еще до Ноябрьского восстания (1830–1831)59.
Варшава тоже сильно выиграла от политики Государственного совета, направленной на концентрированную поддержку предпринимательства. Символическим оформлением этого экономического подъема стало открытие Варшавской биржи ценных бумаг, но заметен он был и в увеличении городского бюджета и значительном приросте населения Варшавы: за период с 1816 по 1830 год муниципальный бюджет увеличился в восемь раз, а численность населения к 1827 году составляла уже 120 тыс. человек, причем начала меняться его социальная структура, поскольку Варшава была теперь не только административным, но и промышленным центром – особенно интенсивно развивались обработка черных металлов и текстильная промышленность. Уже в первой половине XIX века в Варшаве и Лодзи наметились те социальные изменения, в ходе которых они все больше превращались в места проживания и трудовой деятельности растущего рабочего класса.
В то же время происходило превращение Варшавы в культурную столицу Царства Польского. В городском пейзаже начали доминировать крупные административные здания, театры и банки, выстроенные в стиле классицизма; были проложены новые улицы и аллеи, возникли просторные площади. Среди прочих выделялось, конечно, здание Большого театра, строительство которого началось в 1825 году под руководством Антонио Корацци: в то время это был один из самых вместительных театров Европы. Другим знаком нового культурного оживления была консерватория, открытая в 1821 году. И не в последнюю очередь следует упомянуть польскую систему образования, которая особенно процветала в Варшаве благодаря созданным там высшим учебным заведениям. Помимо университета, располагавшегося на улице Краковское Предместье, в столице Царства Польского с 1828 года существовал Политехнический институт и весьма активно действовало упомянутое выше Общество друзей наук, руководимое Станиславом Сташицем. В 20‐е годы он предоставил Обществу отдельное здание рядом с университетом – так называемый дворец Сташица, перестроенный в неоклассицистском стиле и расширенный тем же Антонио Корацци. В этом внушительном здании собиралось около 200 членов Общества, регулярно проходили публичные доклады, редактировались наиболее важные печатные органы Общества – «Ежегодник» (Roczniki Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk) и «Варшавская хроника» (Pamiętnik Warszawski) – и находилась самая большая публичная библиотека в городе. Когда в 1830 году преемник Сташица, Юлиан Урсин Немцевич, открыл памятник Копернику на площади перед зданием, это было мощным выражением польского культурного самосознания. Именно в этой атмосфере духовного пробуждения и подъема жил и творил молодой Фредерик Шопен60.
Даже сельское хозяйство, традиционно проблемная отрасль местной экономики, в период подъема после 1815 года характеризовалось по крайней мере частичным ростом. Исходное его состояние было самым жалким. Только около 34% земли фактически обрабатывалось крестьянами. В аграрном секторе ощущалась острая нехватка капиталов – цены на зерно были низкими, а кредитные учреждения практически отсутствовали. Обремененная высокими податями, значительная часть крестьянства была вынуждена вести натуральное хозяйство и, таким образом, не участвовала в рыночном обороте. Если учесть, что крестьяне составляли примерно 80% от общей численности населения, это было серьезным препятствием для экономического развития.
Государство являлось крупнейшим землевладельцем в Царстве Польском: около 1/5 возделываемой земли и значительная часть лесов принадлежали ему. Тем важнее было то, что правительство сделало выбор в пользу инноваций. Среди прочих мероприятий следует отметить создание Земельного кредитного банка в 1825 году, улучшение сельской транспортной инфраструктуры, мероприятия в области животноводства и расширение площадей под посадки картофеля и сахарной свеклы – все это вело к увеличению инвестиций и росту урожаев. Начала развиваться сельскохозяйственная промышленность, особенно сахарорафинадные и ликеро-водочные заводы, что привело к увеличению доходов и к общей экономической активизации, по крайней мере в среде землевладельческой знати. Но более долгосрочные планы по продаже коронной земли единоличным собственникам-крестьянам реализовать не удалось, и вообще в крестьянском вопросе и связанном с ним вопросе о дворянских привилегиях никаких реформ проведено не было.
В целом экономическая политика Друцкого-Любецкого может быть охарактеризована как вполне успешная: она обеспечила Царству Польскому значительный экономический рост и мощный модернизационный импульс. Вместе с тем меры, принимаемые этим министром, отнюдь не у всех вызывали согласие. В то время как консервативный лагерь оказывал сопротивление реформам прежде всего в сельскохозяйственном секторе и в деле улучшения положения крестьянства, представители либерального лагеря критиковали возросшую экономическую зависимость Польши от Российской империи. Кроме того, Друцкий-Любецкий со своей дирижистской и интервенционистской политикой регулярно нарушал действующее право и закрепленные в Конституции полномочия сейма. Оппозиция из западной части страны, занимавшая либеральную точку зрения на экономику, все более и более открыто выступала против линии, проводимой министром финансов.
В общей сложности ни самостоятельность Царства Польского, предоставленная ему Конституцией 1815 года, ни поразительные экономические и образовательные достижения Государственного совета не способствовали долгосрочной политической стабилизации. Вскоре стало очевидно, что модель польской конституционной монархии в личной унии с русским царем имеет небольшой потенциал развития: взаимное недоверие и неудовлетворенность по поводу статус-кво были сильны как с польской, так и с российской стороны. Внутри польской знати сохранялась старая оппозиция между «красным» лагерем средней и низшей шляхты и «белым» лагерем высшей аристократии. Только последний был готов сотрудничать с Пруссией, Австрией и Россией в долгосрочной перспективе, тогда как первый все сильнее проникался духом общеевропейской революционной эйфории, достигшей своей кульминации в 1848 году. Еще в 1819‐м императорский наместник в Польше был вынужден, ввиду усилившейся критики в адрес работы правительства, ввести цензуру для прессы. Для мира средств массовой коммуникации в Варшаве, процветавшего предшествующие пять лет, это стало большим ударом. В 1820 году, на втором заседании сейма, либеральная оппозиционная группа из Калиша во главе с братьями Бонавентурой и Винцентом Немоевскими подвергла правительство жестокой критике. Немоевские осуждали произвол властей и их попытки заставить замолчать сейм и общественное мнение. Кроме того, братья настаивали на праве сейма высказывать недоверие министрам61.
Хотя эта критика вовсе не была направлена лично против монарха, Александр I, незнакомый с культурой парламентских дебатов, воспринял подобные выступления как афронт в свой адрес и нападки на престол. Возмущенный, он предоставил Константину широкие полномочия, позволявшие тому игнорировать некоторые статьи польской Конституции. Немедленно последовали и карательные меры: братья Немоевские потеряли депутатские мандаты, воеводская комиссия в Калише была распущена, а сессии парламента – приостановлены на несколько лет. И еще целый ряд мер указывал на консервативный поворот: Потоцкий был выведен из Комиссии исповеданий и народного просвещения, его преемником стал Николай Новосильцев, а внеконституционная позиция Константина была значительно усилена. На следующее заседание сейма, состоявшееся в 1825 году, возможные протестующие допущены не были, а публичные дискуссии были запрещены. Помимо всего прочего, Немоевским запретили приезжать в Варшаву, и, таким образом, либеральная оппозиция лишилась своих трибунов и замолкла. Но эта тишина была лишь иллюзией замирения, поскольку роль лидера критического общественного мнения теперь перешла к сенату, который в дальнейшем занимался прежде всего отстаиванием конституционных прав.
Те, кто считал, что Польша должна быть российской, с большим подозрением взирали на тенденции усиления польской автономии, причем еще до 1820 года. Консервативные голоса в Петербурге предупреждали о проблематичных последствиях, которые предоставление Конституции Польше будет иметь для самой России. В Царстве же Польском главным критиком «польских притязаний» стал Николай Новосильцев, который еще до Венского конгресса, т. е. в последние дни Герцогства Варшавского, вел финансовые дела на Висле, а в 1815 году был назначен царем на должность особого уполномоченного для наблюдения за Государственным советом Польши и за политической и культурной жизнью в Царстве Польском. Новосильцев с самого начала крайне критически взирал на старания поляков максимально расширять сферы своей деятельности и свободу принятия решений. В то же время чрезвычайный, внеконституционный статус императорского комиссара вызывал большое негодование польской стороны. В ходе бурных дебатов по поводу сессии сейма 1820 года Новосильцев окончательно показал себя противником особого статуса Царства Польского и в последующем стремился этот статус минимизировать62.
Однако тот факт, что после 1820‐х годов конфликты между польскими лидерами общественного мнения, правительством и российскими полномочными представителями обострились, был вызван еще и той неудачной ролью, какую сыграл весьма авторитарно действовавший великий князь Константин. Своими публичными выступлениями, а также суровым, отчасти даже брутальным стилем, в котором главнокомандующий польской и литовской армией руководил своими войсками, он стяжал сомнительную репутацию мучителя солдат и тирана. Будучи неподконтролен правительству, Константин установил в войсках режим личной власти, вызывавший, из‐за жестокой муштры и страсти великого князя к парадам, раздражение и в польском офицерском корпусе. Когда после 1820 года влияние Константина существенно увеличилось и распространилось на политические сферы, это значительно способствовало обострению напряженности.
В последующее десятилетие особенно в среде молодого поколения распространилось ощущение, что закрепленные в Конституции права значительно ущемляются административным произволом и специальными уполномоченными, ответственными только перед царем. Вдохновленные общеевропейским масонским движением и примером немецких студенческих ассоциаций, стали возникать многочисленные тайные общества. Особенно в Варшаве бывшие масонские ложи быстро политизировались и начинали воспринимать себя в качестве передовых отрядов в борьбе за защиту и расширение польской Конституции. В атмосфере конфронтации и патриотического пафоса, а также в условиях крайне ограниченной политической публичной сферы некоторые организации, такие как Национальное патриотическое общество, основанное в 1821 году, радикализировались – встали на позицию принципиального отвержения российского господства. Заявленная долгосрочная цель их активистов заключалась в восстановлении полной польской независимости и воссоединении всех территорий прежней польско-литовской дворянской республики.
Авторитарные российские властители преследовали такие тайные общества, и прежде всего на старых польских восточных территориях, поскольку любые артикуляции национального патриотизма рассматривались как принципиальная постановка под сомнение прав России на эти земли. Особенно те сети тайных обществ, которые сформировались вокруг Виленского университета, вызвали массовые репрессии. В 1822 году один из основателей Национального патриотического общества, майор Валериан Лукасиньский, был арестован и пожизненно заточен в Шлиссельбургскую крепость. После роспуска Союза филоматов, в 1824 году прошел крупный судебный процесс; среди двадцати обвиняемых были поэт Адам Мицкевич и историк Иоахим Лелевель, в результате сосланные на определенное время в Россию. Некоторые из этих тайных обществ поддерживали контакты с оппозиционными кружками, в конце концов организовавшими восстание декабристов в Петербурге в 1825 году. Таким образом, уже при Александре I, в последние годы его царствования, политическая обстановка в Польше была напряженной. Эскалацию предотвращала главным образом личная позиция царя, в общем благосклонная по отношению к полякам. Когда он внезапно умер в Таганроге в 1825 году, этот стабилизирующий фактор отпал.
1825 год и восшествие Николая I на престол, произошедшее в смутный момент восстания декабристов, во многом означали поворотный момент для внутреннего развития Царства Польского. Целый ряд процессов и влияний в последующие годы способствовал быстрому обострению противоречий между имперской властью и польской стороной. Хотя новый царь в своем манифесте заявил о готовности уважать польскую Конституцию, он, с другой стороны, реагировал на неудавшееся восстание 14 декабря значительным усилением цензуры и преследованием подпольных организаций любого рода. Следственная комиссия, созданная Константином, вскрыла связи, якобы существовавшие между Национальным патриотическим обществом и кружками декабристов63.
Особенно пострадали от этого бывшие польские восточные территории. Царь уже в своем манифесте при восшествии на престол дал понять, что западные губернии должны рассматриваться как неотъемлемая часть Российской империи и что о сохранении какого-то особого статуса польских земель больше не может быть и речи. В контексте чисток, проведенных после восстания вновь созданной политической полицией – Третьим отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии, – на литовских территориях стала осуществляться политика русификации. Командовать литовскими воинскими частями, созданными еще в 1817 году в Гродненской, Виленской, Минской, Волынской и Подольской губерниях, назначили русских офицеров, а Новосильцев был отправлен в качестве попечителя в Виленский учебный округ. Он проводил открытую русификацию учебных заведений, стараясь вытеснять и польский как язык обучения, и темы, связанные с Польшей, из школьного курса. Главным результатом строгого контроля над учебными программами и над самими учащимися Виленского университета со стороны Новосильцева было то, что в этом, некогда столь живом, заведении после 1825 года установилась удушливая атмосфера цензуры и репрессий64.
В целом после 1825 года усилился дискурс, требовавший окончательного «слияния» бывших польских восточных территорий, расположенных между Вильной и Киевом, с Россией и ставивший цель максимальной культурной конвергенции этой земли и ее людей с остальной империей65. Соответствующим образом менялась и административная практика на этих западных территориях, которые, с точки зрения Петербурга, представляли собой не что иное, как исторически русский и только временно и вынужденно «полонизированный» регион. В 1828 году в Петербурге был создан секретный комитет, который должен был заняться «униатским вопросом» и усилить давление на униатов с целью их «возвращения в православие». Одновременно в многочисленных публикациях пропагандировалось утверждение об исконно русском характере западных губерний, требующем форсированного культурного сближения их с остальной Россией и особой защиты «русского дела» на западной периферии империи. Право на отдельность и инаковость – как с точки зрения административной политики, так и с точки зрения представлений о принадлежности к России – все больше ограничивалось пределами того своеобычного образования под названием «Царство Польское», которое как политический субъект, по статусу равный государству, возникло в результате Венского конгресса. А «западные губернии» как «исконно русские» территории стали усиленно приводиться начиная с 1825 года к единому знаменателю со внутрироссийскими областями66.
Хотя преднамеренный разрыв с давней традицией сотрудничества с местными (польскими) элитами был особенно заметен в «западных губерниях», рост напряженности в последующие годы не обошел и Царство Польское. Здесь тоже все чаще имели место нарушения Конституции императорскими должностными лицами и множились случаи административного произвола. После того как в 1826 году умер наместник Зайончек, должность главы правительства, закрепленная в Конституции, больше не замещалась, поэтому де-факто великий князь Константин стал высшим должностным лицом в Царстве Польском. Когда в 1830 году Николай I короновался в Варшаве польским королем, представители различных сословий представили ему длинный список жалоб на открытые нарушения права и Конституции. На высочайшее имя было подано более сотни петиций, авторы которых требовали усилить контроль над Государственным советом со стороны сейма – например, в вопросах бюджета. В новом сейме тоже звучали критические голоса, призывавшие к либерализации в области цензуры и образования.
Таким мнениям способствовал все более явный конфликт между Константином и Новосильцевым. В конце 20‐х годов Константин все более открыто выступал – даже перед царем – в поддержку польских интересов и призывал к продолжению пропольской политики Александра. В одном походя сделанном замечании, которое, однако, было отмечено польской общественностью, он в 1827 году даже открыто назвал разделы Польши «грабежом». Новосильцев же все активнее выступал против особого статуса Царства Польского – как против источника опасных конституционалистских идей, влияние которого считал крайне вредным для России. Одновременно он распалял в обществе возмущение по поводу конкуренции польских товаров на внутрироссийском рынке. В конечном счете Новосильцев выступал за то, чтобы в отношении Царства Польского проводилась такая же усиленная политика интеграции, какую он уже осуществлял в западных губерниях.
Этот спор внутри имперской элиты о направлении политики, проводимой в отношении Польши, оживил обмен мнениями в среде польской общественности, где было мало сочувствующих Константину, которого считали брутальным солдафоном, но зато было много энергичных противников и линии Новосильцева. Критика здесь звучала как из консервативного лагеря, образовавшего конституционную оппозицию в сенате во главе с Чарторыйским, так и из либерального, который по-прежнему группировался прежде всего вокруг калишской партии братьев Немоевских. Общий политический климат в Царстве Польском на рубеже 20–30‐х годов был очень напряженным и характеризовался все более открытой критикой многочисленных нарушений польской Конституции, а также более общей критикой постановлений Венского конгресса.
В дополнение к этому публичному выражению недовольства усилилась революционная риторика во многих тайных обществах. Активизировались они, как ни парадоксально, вследствие приговора, который польский сенат должен был вынести по приказу царя в отношении восьми членов Национального патриотического общества. Обвиненные в 1828 году в тесных контактах с декабристами, они, однако, были оправданы сенатом по обвинению в государственной измене, поскольку, с точки зрения сенаторов, планы переустройства Польши нельзя было классифицировать как преступление против государства. Относительно мягкие наказания, к которым сенат приговорил подсудимых, были поняты – особенно молодыми поляками – как закамуфлированное разрешение создавать подобного рода тайные общества.
Кроме того, в Польше также была воспринята и усвоена общеевропейская революционная риторика, которая в 1829–1830 годах вдохновлялась бурными событиями во Франции, Бельгии и Греции: освобождением греков от османского владычества, антимонархической Июльской революцией в Париже и отделением католического Юга Бельгии от протестантского Севера. Казалось, революционные проекты могут увенчаться успехом, и – по крайней мере, в некоторых тайных ложах Варшавы – теперь заговорили о вооруженном восстании против российского господства67.
Здесь появилось новое поколение активистов, под влиянием западной романтики и идеалистической философии прославлявшее «героический исторический подвиг». Лидеры общественного мнения, такие как Мауриций Мохнацкий и историк Иоахим Лелевель, уволенный из Виленского университета и теперь развернувший активную деятельность в Варшавском, намеренно выступали против старого польского истеблишмента, группирующегося вокруг Чарторыйского и Друцкого-Любецкого, и призывали к новому, страстному и деятельному польскому национализму. В романтическом мышлении Польша была не просто нацией, а еще и символом высших идеалов, таких как свобода, справедливость и братство. Поэтому революционный акт превращался в символический акт освобождения человечества68.
И вот небольшая группа энтузиастов революционного действия штурмовала 29 ноября 1830 года резиденцию Константина, попыталась убить великого князя и тем самым положила начало роковому бунту против российских властей. Учитывая, что спланирован он был плохо, по большей части даже вовсе никак, нельзя не признать удивительным тот факт, что эта дилетантская попытка государственного переворота, предпринятая несколькими военными, еще не получившими офицерских эполет, разрослась в настоящую польско-российскую войну, которая, пусть и ненадолго, пошатнула власть Петербурга в Царстве Польском. Здесь проявилась динамика революции, вынудившая даже таких сторонников сотрудничества с домом Романовых, как Чарторыйский и Друцкий-Любецкий, принять участие в повстанческом движении69.
То, что начиналось как акт молодых заговорщиков, направленный не только против петербургского господства в Царстве Польском, но и против польского истеблишмента, после нападения на дворец Бельведер и на брата царя привело к тому, что народ штурмовал Арсенал и захватил оружие, а русские войска были вытеснены из многих районов Варшавы. Воспользовавшись этим «восстанием улицы», радикальные антирусские силы объединились в «Патриотический клуб», который под руководством тех же Иоахима Лелевеля и Мауриция Мохнацкого попытался оказать давление на Чарторыйского и Друцкого-Любецкого, выступавших за переговоры с Петербургом. Уже 3 декабря 1830 года было сформировано временное правительство, а Юзефа Хлопицкого назначили главнокомандующим польской армией.
О том, как сильны были даже в этот момент надежды старого политического истеблишмента на компромиссное разрешение конфликта, свидетельствует тот факт, что Хлопицкий, 5 декабря ставший «диктатором», попытался маргинализировать революционные группировки и начать переговоры с Николаем I, с одной стороны, представляя самого себя гарантом восстановления мира и порядка, а с другой – требуя уступок для Царства Польского, в том числе объединения со старыми польскими территориями на востоке. Но царь оказался бескомпромиссным противником: он потребовал для начала безоговорочной капитуляции повстанцев. Непримиримая позиция Николая привела к эскалации конфликта и радикализации польских лидеров. 25 января 1831 года сейм объявил о низложении царя и образовал 30 января польское Национальное правительство, пять членов которого представляли основные политические течения: двое, в том числе Чарторыйский, принадлежали к консервативной фракции, два представителя так называемой калишской группы во главе с Винцентом Немоевским стояли на либеральных, легалистских позициях, в то время как Иоахим Лелевель был представителем левой радикальной оппозиции. В результате за одним столом оказались умеренные силы, все еще надеявшиеся договориться с царем, и жестко антироссийски настроенные сторонники национально-демократической революции. Этим внутренним компромиссом польское руководство значительно ослабило себя, так как у членов правительства почти не было общих представлений о пути выхода из конфликта и о будущем устройстве Польши – например, в том, что касалось сельского населения. Сказалась и власть сейма, мешавшая деятельности правительства: польский парламент с его 200 членами был далек от внутреннего единства, а между тем сохранял за собой полномочия по принятию решений в ключевых политических вопросах и даже в военных делах. Кроме того, восстание поставило под угрозу политическую архитектуру системы, созданной на Венском конгрессе, и таким образом стало делом международного значения. Пруссия и Австрия быстро заявили о солидарности с Россией. Не последним из факторов, заставивших Петербург реагировать энергично, был формальный разрыв Польши с домом Романовых70.
Обе стороны конфликта прибегли к мобилизации своих вооруженных сил. Первоначально у российской стороны было под ружьем 120 тыс. солдат, а в польской армии было чуть более 55 тыс. Однако Национальному правительству удалось довольно успешно нарастить свою военную мощь и к весне 1831 года мобилизовать около 80 тыс. человек. Таким образом, друг другу противостояли две необычайно многочисленные и хорошо вооруженные армии, а Гроховская битва с ее примерно 140 тыс. участников стала крупнейшей европейской баталией за период между Ватерлоо и Крымской войной71.
В ответ на детронизацию царя Национальным правительством российская армия под командованием фельдмаршала Дибича-Забалканского в феврале 1831 года вторглась на территорию Царства Польского. 25 февраля российские и польские войска сошлись в Гроховском сражении близ Варшавы, которое окончилось «вничью». Правда, польские войска были вынуждены отойти за Вислу, а русская армия заняла и разграбила варшавское предместье Прагу.
Тем не менее польским частям удалось перегруппироваться и нанести несколько поражений российским войскам, которые к тому же стали сильно страдать от холеры. Весной восстание перекинулось и на часть бывших польских восточных территорий. Особенно в Жемайтии оно опиралось на широкую социальную базу: в него включилось крестьянство, по преимуществу литовское. Под влиянием известий о том, что восстание охватило почти всю Литву, а польские войска одерживают победы в Мазовии, сейм в мае издал закон, по которому территории, потерянные Польшей в результате раздела 1772 года, включались в новое Польское государство. Это решение, однако, быстро стало чисто символическим, так как после поражения повстанцев в решающей битве при Остроленке 26 мая 1831 года и перехода командования царскими войсками в руки опытного генерала Ивана Паскевича победа России сделалась лишь вопросом времени. После того как Паскевич, тыл которому прикрывали пруссаки, перешел Вислу и стал угрожать Варшаве с запада, в столице вспыхнули беспорядки, вынудившие правительство уйти 16 августа в отставку. Чуть позже произошли бои в Праге, и уже 8 сентября 1831 года Варшава капитулировала. Остатки польской армии сначала укрылись в крепости Модлин, потом, в октябре, ушли в Пруссию, где были интернированы. Таким образом, польское восстание закончилось менее чем за год72.
Ноябрьское восстание и его подавление стали переломным моментом в истории Царства Польского и польско-российских отношений в целом. Произошедшая после него Великая эмиграция радикально изменила облик польского дворянства и образованного слоя. Из примерно 50 тыс. изгнанников, вынужденных осенью 1831 года покинуть страну, почти 6 тыс. обосновались во Франции (в основном в Париже). Эта диаспора в последующие десятилетия сильно влияла на развитие польской культуры и публичной сферы. Именно в ее среде возникла концепция Польши как «Христа народов» и культивировалось польское мессианство; именно ею был создан тот революционный пафос, который, охватив польское население районов, поделенных между Россией, Пруссией и Австрией, вдохновлял сформировавшиеся там мифологию восстания и риторику воссоединения. Один из главных центров польской эмиграции располагался в приобретенной семьей Чарторыйских городской усадьбе Отель Ламбер в Париже; в возвышенные слова и звуки облекали настроения этого сообщества польских беженцев такие творческие личности, как Фредерик Шопен, Зыгмунт Красинский, Юлиуш Словацкий и особенно Адам Мицкевич. Безусловно, наибольшей известностью в данном контексте пользуются дрезденские «Дзяды» Мицкевича – произведение, где он рисует образ распятой, как Христос, Польши. Эта радикальная революционная эсхатология, соединявшая в себе русофобию, польский мессианизм и универсалистский, но основанный на национальной идее пафос свободы, не у всех в эмигрантском сообществе вызывала симпатию (так, Зыгмунт Красинский изображал в своих произведениях призрак апокалиптического хаоса беснующихся толп, а Чарторыйский предпочитал скорее легалистскую модель конституционной монархии), однако именно она задала направление развития польского самоопределения и возвеличивания поляками себя как нации-жертвы, нации с великой миссией. Именно она послужила польским эмигрантам основой для их оживленных контактов с различными европейскими «освободительными движениями», а иногда и для активного участия в них: например, Лелевель установил связи с тайным обществом «Молодая Европа» во главе с Джузеппе Мадзини и основал в Берне его отделение под названием «Молодая Польша»73.
Не менее важное значение имел и извлеченный из неудавшегося восстания 1830–1831 годов урок, гласивший, что выступление против российского владычества без участия крестьянства обречено на поражение. Предлагались самые разные способы расширенной мобилизации сельских жителей – позиции радикального демократа Лелевеля отличались от взглядов более умеренных представителей Польского демократического общества во главе с Виктором Гельтманом или консервативных сторонников Чарторыйского в первую очередь по вопросу, в какой мере шляхте надо отказаться от своих старых привилегий. Общим для всех этих подходов было то, что польское крестьянство все больше перемещалось в центр интереса современников и их размышлений о политике. Тем самым были созданы предпосылки для формирования концепции, приписывавшей польскому народу (lud) – мифологизированному, якобы национально-аутентичному, – ключевую роль в восстановлении польской нации. В ходе польской рецепции позитивизма эта идея была подхвачена и получила дальнейшее развитие.
Но не только «большая» – парижская – эмиграция была катализатором идей и действий. Помимо нее, в существовавшем до 1846 года самостоятельном городе-государстве Краков, особенно в Ягеллонском университете, собирались влиятельные фигуры, поддерживавшие память о польской государственности, идею ее расширения до границ 1772 года и, не в последнюю очередь, идею ее реформы в духе Майской конституции 1791 года. Таким образом, определяющими факторами эры польского романтизма после 1831 года были – более, чем когда-либо прежде, – фундаментальный опыт утраты поляками собственной государственности и вера в возможность изменения неудовлетворительного статус-кво революционным путем. Одновременно это была кульминационная эпоха такого польского самосознания, в котором образ «себя» создавался путем четкого противопоставления «московитскому Другому», а поляки и русские рассматривались как представители двух антагонистических духовных начал74.
Ноябрьское восстание имело последствия и для российской идейной жизни. С одной стороны, именно тогда родился топос «неблагодарной» и «мятежной» Польши, который бытовал в среде имперской бюрократии и российской общественности до конца существования Российской империи. Яростное стихотворение Пушкина «Клеветникам России» – наглядный тому пример. Впервые оно было опубликовано в брошюре «На взятие Варшавы» и привело к длительной ссоре между Пушкиным и его польским другом-поэтом – Адамом Мицкевичем75. С другой стороны, споры по поводу польского восстания способствовали тому, что в России начались дебаты, участники которых стали обсуждать содержание понятия «русский». Спор между западниками и славянофилами в 1830‐е годы, конечно, имел более давние корни, но важнейший импульс был дан ему именно общественным возмущением по поводу «польского мятежа». В известном смысле триада «православие, самодержавие, народность», которую в те годы сформулировал недавно (1833) назначенный министр народного просвещения Уваров и которая стала идеологической основой российской государственности, тоже может рассматриваться как реакция на польское национальное восстание. Удивительная карьера Фаддея (Тадеуша) Булгарина, получавшего от государства привилегии за деятельность в качестве рупора правительственной пропаганды, тоже становится понятна только на фоне «польского вопроса». Здесь мы видим, как влияние мятежных провинций на внутрироссийские форумы общественного мнения уже предвосхищало многое из того, что мы будем наблюдать в интенсивном взаимодействии между периферией и центром в 1860‐е годы76.
Как же можно оценить значение этого долгого десятилетия после Венского конгресса для развития Царства Польского? Несмотря на все политические конфликты до и их эскалацию после 1825 года, это был все же период относительной стабильности, длившийся более пятнадцати лет. По крайней мере, применительно к Царству Польскому – но не к западным губерниям – можно утверждать, что, благодаря высокой степени государственной самостоятельности и участия населения в принятии политических решений, а также культурного развития, там образовалась атмосфера, первое время позволявшая значительной части польской элиты мириться с российским владычеством. И только когда со вступлением на престол Николая I усилилось вмешательство Петербурга в польские дела и обострились репрессии, этот фундамент стал давать трещины и начался подъем тех радикальных молодых сил, которые выдвинули лозунг насильственного изменения ситуации.
По иронии судьбы именно насыщенная культурная и образовательная жизнь процветающей Варшавы и послужила питательной почвой для этих радикальных настроений. Свободы, предоставленные Конституцией и политической системой, созданной в 1815 году, обеспечили наличие форумов, на которых – как раз к тому моменту, когда петербургские власти начали эти свободы урезать, – формулировалась все более фундаментальная критика российского господства. Поколение, воспитанное в это долгое десятилетие расцвета культуры, социальных и интеллектуальных достижений и надежд, не желало принимать все более авторитарную политику николаевского режима. После 1815 года образовалась – прежде всего в столице – стабильная сеть учреждений, организаций и связей, позволявшая польскому движению протеста и сопротивления становиться все более динамичным и радикальным.
Более того, именно эти пространства свободы в 1820‐е годы породили у людей сознание принадлежности к польской нации как к некой политической сущности, причем оно вышло за пределы узких кругов дворянства и интеллигенции в широкие слои общества. Ярким доказательством тому явилась всенародная поддержка восстания 1830 года, по крайней мере в Варшаве. Ноябрьское восстание, несомненно, значительно интенсифицировало этот длительный процесс формирования политических мнений и идентичности.
Не менее очевидным образом Ноябрьское восстание продемонстрировало, что и через пятьдесят лет после первого раздела представители польской элиты все еще рассматривали себя как культурное и политическое единство в границах, которые совпадали с границами старой польско-литовской аристократической республики. Выражения солидарности и высокая готовность населения идти добровольцами в отряды к повстанцам наблюдались не только в прусской и австрийской частях Польши: по крайней мере дворянская элита в западных губерниях России также приняла участие в восстании. Это показывает, насколько период с 1815 по 1830 год характеризовался волей к сохранению и частично даже к интенсификации связей между старыми польскими восточными территориями и Царством Польским. Несомненно, этому в значительной степени способствовали три польских университета – Варшавский, Виленский и Краковский. Многие деятели того времени, в том числе и Лелевель, работали в одном или нескольких из них, тем самым укрепляя межрегиональное общение. Кроме того, существовали многочисленные интеллектуальные кружки и литературные салоны, которые тоже поддерживали связи между польскими территориями. Трансграничный литературный и интеллектуальный рынок общественного мнения позволял идее польской нации распространяться по линиям этих связей. Не случайно три выдающихся романтика польской литературы – Адам Мицкевич, Зыгмунт Красинский и Юлиуш Словацкий – были родом из восточных «кресов». Благодаря развивавшемуся таким образом в 1815–1830 годах культурному национализму даже в те времена, когда единой польской государственности не существовало, идея одной Польши продолжала жить, а риторика воссоединения передавалась от поколения к поколению.
Есть и еще одна причина, по которой значение этих нескольких лет автономии Польши для последующего ее развития трудно переоценить. Дело в том, что период 1815–1830 годов представлял собой точку отсчета во всех последующих рассуждениях о том, как можно – и можно ли вообще – решить «польский вопрос» в политической системе Российской империи. Эту роль данный период играл и в проектах реформ Александра Велёпольского в 1860‐е годы, и в позднейших требованиях автономии, высказывавшихся более умеренной частью польского политического спектра, и в дискурсе той части царской бюрократии и российской общественности, которая была склонна уступить требованиям автономии со стороны Польши. Даже для противников таких уступок Царство Польское, созданное по милости Александра I, представляло собой важную точку отсчета: по их мнению, здесь можно было сразу наглядно убедиться, что предоставление значительной автономии только породило бы «мечту» о восстановлении старого Польского государства.
Однако в первый послереволюционный период эта мечта казалась далекой и недосягаемой. Под диктатом генерала Паскевича, ставшего императорским наместником, началась полоса угнетения длиной более двадцати лет, когда российские чиновники, цензоры и жандармы контролировали всю политическую и культурную жизнь в Царстве Польском.
53
Конституция 1815 года опубликована в кн.: Pölitz K. H. L. (Hg.). Die europäischen Verfassungen. S. 24–33; Сергеевский Н. Д. (ред.). Конституционная хартия 1815 г. и некоторые другие акты бывшего Царства Польского (1814–1881). СПб., 1907.
54
По проблематике, затрагиваемой в следующем абзаце, см. также: Долбилов М. Д., Миллер А. И. (ред.). Западные окраины. C. 81–92; Miller A., Dolbilov M. «The Damned Polish Question». P. 427–429; Кулик M. Польша и Россия. С. 105–107; Thackeray F. W. Antecedents of Revolution; Zawadzki W. H. A Man of Honour. Р. 259–280.
55
См. речь Александра при открытии сейма в 1817 году: Pölitz K. H. L. (Hg.). Die europäischen Verfassungen. S. 33–36. Об открытии университета в Варшаве см. также: Александренко В. Н. Из истории Варшавского университета. СПб., 1908; Щелков И. П. Очерк истории высших учебных заведений в Варшаве до открытия Императорского Университета // Варшавские университетские известия. 1893. № 8. С. 1–32. См. также: Kizwalter T. (red.). Monumenta Universitatis Varsoviensis. Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, 2016. Cz. I. Lata: 1816–1915; Kulecka A. (red.). Urzędnicy i urzędy w społeczeństwie XIX wieku. Zbiór studiów. Warszawa, 2017; Swiderski B. Myth and Scholarship. University Students and Political Development in XIX Century Poland. Kopenhagen, 1987. Особенно р. 86–129.
56
Обзорная работа по этой теме: Kulecka A. (red.). Urzędnicy i urzędy.
57
Наиболее важная общая работа по этой теме: Trencsényi B., Kopeček M. (eds). Late Enlightenment. Emergence of the Modern «National Idea». Budapest, 2006. Part 1: Images of the Future (from the 1780s to 1863). Также см.: Jedlicki J. A Suburb of Europe. Nineteenth-Century Polish Approaches to Western Civilization. Budapest, 1999; Idem. Błędne koło 1832–1864. Warszawa, 2008. T. 2: Dzieje inteligencji polskiej do 1918 roku.
58
См.: Jaworski R. Das geteilte Polen (1795–1918) // Jaworski R., Lübke C., Müller M. G. (Hg.). Eine kleine Geschichte Polens. Frankfurt am Main, 2000. S. 260–261; Wandycz P. S. The Lands of Partitioned Poland 1795–1918. Seattle, 1974. P. 79–82.
59
О Лодзи см. в особенности: Pietrow-Ennker B. Wirtschaftsbürger und Bürgerlichkeit im Königreich Polen. Das Beispiel von Lodz, dem «Manchester des Ostens» // Geschichte und Gesellschaft. 2005. № 2. S. 169–202; Eadem. Auf dem Weg zur Bürgergesellschaft? Modernisierungsprozesse in Lodz (1820–1914) // Hensel J. (Hg.). Polen, Deutsche, Juden. in Lodz 1820–1939. Eine schwierige Nachbarschaft. Osnabrück, 1999. S. 103–130 и другие статьи в этом сборнике; Porter-Szűcs B. Religion in Everyday Urban Life. Shaping Modernity in Łódź and Manchester, 1820–1914 // Berglund B. R., Porter-Szűcs B. (eds). Christianity and Modernity in Eastern Europe. Budapest, 2013.
60
Станислав Сташиц умер в 1826 году. Юлиан Немцевич прожил бурную жизнь: был адъютантом Костюшко, соратником Наполеона, несколько раз оказывался в изгнании, потом стал статс-секретарем в Царстве Польском и наконец в 1828 году был назначен президентом Научного общества. О том, как менялась Варшава, см. общие работы: Getka-Kenig M. Architektura i prestiż nowoczesnego urzędu. Przypadek budynków ministerialnych w Warszawie, stolicy konstitucyjnego Królestwa Polskiego (1785–1830) // Kulecka A. (red.). Urzędnicy i urzędy. S. 39–52; Leśniakowska M. Architektura w Warszawie. Warszawa, 2005; Łupienko A. Przestrzeń publiczna Warszawy w pierwszej polowie XIX wieku. Warszawa, 2012.
61
См. также: Долбилов М. Д., Миллер А. И. (ред.). Западные окраины. С. 91–92; Miller A., Dolbilov M. «The Damned Polish Question». P. 429–430.
62
О Новосильцеве см., в частности: Flynn J. T. The University Reform of Tsar Alexander I. P. 119–123; Lukowski J., Zawadzki H. A Concise History of Poland. Cambridge, 2001. P. 125–127; Wandycz P. S. The Lands of Partitioned Poland. P. 95–96.
63
О цензурных мерах после восстания декабристов в России вообще см.: Lincoln W. B. Nicholas I. Emperor and Autocrat of All the Russias. DeKalb, 1989. P. 235–250; Squire P. S. The Third Department. The establishment and practices of the political police in Russia of Nicholas I. Cambridge, 1968. Особенно p. 177–238.
64
По рассматриваемой далее проблематике см.: Долбилов М. Д., Миллер А. И. (ред.). Западные окраины. С. 94–96; Miller A., Dolbilov M. «The Damned Polish Question». P. 430–431; Ganzenmüller J. Russische Staatsgewalt und polnischer Adel. Особенно S. 102–143; Petronis V. Constructing Lithuania. Ethnic Mapping in Tsarist Russia, ca. 1800–1914. Stockholm, 2007. P. 100–109; Rodkiewicz W. Russian Nationality Policy. P. 135–136, 159–162; Seegel S. J. Mapping Europe’s Borderlands. Russian Cartography in the Age of Empire. Chicago, 2012. Особенно p. 74–76; Staliunas D. (ed.). Spatial Concepts of Lithuania in the Long Nineteenth Century. Brighton (MA), 2016; Idem. Making Russians. Meaning and Practices of Russification in Lithuania and Belarus after 1863. Amsterdam, 2007. Особенно p. 57–70.
65
Ср.: Miller A. The Romanov Empire and Nationalism. P. 59–60, 168–173 [рус. изд.: Миллер A. Империя Романовых и национализм. C. 54–77, 147–170].
66
Ср. в особенности: Долбилов М. Д., Миллер А. И. (ред.). Западные окраины. С. 103–117; Miller A., Dolbilov M. «The Damned Polish Question». P. 434–439; Ganzenmüller J. Russische Staatsgewalt und polnischer Adel. Особенно Кap. II и III.
67
Ср.: Davies N. Heart of Europe. The Past in Poland’s Present. Oxford, 2001. P. 142–146; Кулик M. Польша и Россия; Müller M. G. Der polnische Adel. S. 217–242.
68
Основная общая работа по этой проблематике: Trencsényi B., Kopeček M. (eds). National Romanticism. The Formation of National Movements. Budapest, 2007. Также см.: Jedlicki J. A Suburb of Europe; Idem. Błędne koło 1832–1864. T. 2: Dzieje inteligencji polskiej do 1918 roku.
69
Ср.: Долбилов М. Д., Миллер А. И. (ред.). Западные окраины. С. 96–100; Miller A., Dolbilov M. «The Damned Polish Question». P. 431–433.
70
Ср., в частности: Каштанова О. С. Польский вопрос в международной политике 1830‐х – начала 1860‐х гг. // Фалькович С. М. (ред.). Меж двух восстаний. Королевство Польское и Россия в 30–50-e годы XIX в. М., 2016. С. 383–461; Zernack K. Polen und Rußland. S. 323–324.
71
По рассматриваемой далее проблематике см., в частности: Носов Б. В. Подавление восстания 1830–1831 гг. и установление режима чрезвычайного управления // Фалькович С. М. (ред.). Меж двух восстаний. С. 15–89.
72
См., в частности: Davies N. Heart of Europe. Р. 142–148; Gill A. Freiheitskämpfe der Polen im 19. Jahrhundert. Erhebungen – Aufstände – Revolutionen. Frankfurt am Main, 1997. S. 131–188; Kieniewicz S., Zahorski A., Zajewski W. Trzy powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe. Warszawa, 1994; Lukowski J., Zawadzki H. A Concise History of Poland. P. 129–141; Roos H. Die polnische Nationsgesellschaft. S. 388–399.
73
См. об этом подробнее в работах: Фалькович С. М. Польская «Великая эмиграция» 1831 – начала 1860‐х гг. // Фалькович С. М. (ред.). Меж двух восстаний. С. 461–603; Kizwalter T. Über die Modernität der Nation. Der Fall Polen. Osnabrück, 2013; Долбилов М. Д., Миллер А. И. (ред.). Западные окраины. С. 112–113; Trencsényi B., Kopeček M. (eds). National Romanticism; Winkler H. A. Geschichte des Westens. Von den Anfängen in der Antike bis zum 20. Jahrhundert. München, 2009. Kap. «Europa in den frühen 1830er Jahren».
74
Об этом см.: Eile S. Literature and Nationalism in Partitioned Poland. Особенно р. 46–83; Landgrebe A. «Wenn es Polen nicht gäbe, dann müsste es erfunden werden». Особенно S. 166–176; Petersen H.-C. «Us» and «Them»? Polish Self-Descriptions and Perceptions of the Russian Empire between Homogeneity and Diversity (1815–1863) // Gerasimov I., Kusber J., Semyonov A. (eds). Empire Speaks Out. P. 89–120; Porter B. A. When Nationalism Began to Hate. Imagining Modern Politics in Nineteenth-Century Poland. Oxford, 2000. Р. 17–37; Walicki A. National Messianism and the Historical Controversies in the Polish Thought of 1831–1848 // Sussex R., Eade J. C. (eds). Culture and Nationalism in Nineteenth-Century Eastern Europe. Columbus, 1985. P. 128–142; Wierzbicki A. Spory o polską duszę. Z zagadnień charakterologii narodowej w historiografii polskiej XIX i XX wieku. Warszawa, 2010. Особенно gl. 2.
75
Пушкин А. С. Клеветникам России // Полное собрание сочинений: В 10 т. М., 1957. Т. 3: Стихотворения 1827–1836 гг. См. также: Хорев В. А. Роль польского восстания 1830 г. в историографии и историософии // Липатов А. В., Шайтанов И. О. (сост.). Поляки и русские: взаимопонимание и взаимонепонимание. М., 2000. С. 100–109 и другие статьи этого сборника; кроме того: Он же (ред.). Поляки и русские в глазах друг друга. М., 2000; Он же (ред.). Россия – Польша; Волков В. К. (ред.). Studia polonica: K 70-летию Виктора Александровича Хорева. М., 2002.
76
Об этом см.: Miller A., Dolbilov M. «The Damned Polish Question». P. 434–437; Фалькович С. М., Носов Б. В. Предисловие // Фалькович С. М. (ред.). Меж двух восстаний. С. 9–15, особенно 11–12; Он же. Заключение // Там же. С. 739–740; Глуховский П., Горизонтов Л. Ф. В. Булгарин в русско-польских отношениях первой половины XIX века. Эволюция идентичности и политических воззрений. СПб., 2013; Kappeler A. Rußland als Vielvölkerreich. S. 199–201; Miller A. Natsiia, Narod, Narodnost’ in Russia in the 19th Century. Some Introductory Remarks to the History of Concepts // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2008. Bd. 56. H. 3. S. 379–390; Miller A. The Romanov Empire and Nationalism. P. 139–159; Zernack K. Polen und Rußland. S. 323–330.