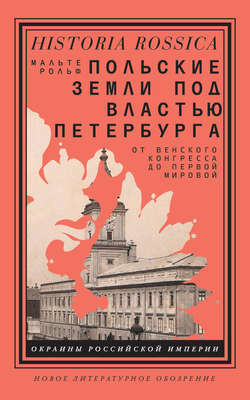Читать книгу Польские земли под властью Петербурга. От Венского конгресса до Первой мировой - Malte Rolf - Страница 6
Глава I
ВВЕДЕНИЕ
КОНТЕКСТЫ: ТЕРМИНЫ, КОНЦЕПЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ДИСКУССИИ14
ОглавлениеВ книге рассматриваются элиты Российской империи и самой западной ее провинции – Царства Польского. Основное внимание уделяется тому небольшому и закрытому кругу наиболее высокопоставленных чиновников – как правило, это были обладатели четырех высших классов по Табели о рангах, – которые, служа в правительственных инстанциях в Санкт-Петербурге и в местной администрации Привислинского края, определяли направление и реализацию имперской политики в отношении польских земель. Необходимо сразу сказать, какой смысл вкладывается в книге в понятие «российское владычество» (и в употребляемые синонимично с ним понятия «царская власть», «петербургская власть», «имперское господство»). Речь не идет об очередной попытке втиснуть столь многоликое и переменчивое образование, как Российская империя, в тесные рамки строгого определения. Скорее тут будет отмечен ряд важнейших для замысла этой книги рассуждений, высказывавшихся в ходе многочисленных дебатов об империи и имперскости. Некоторые выводы «новой имперской истории» (new imperial history) открыли новые перспективы для изучения российского присутствия в Царстве Польском. В том, что касается отношений между центром в Петербурге и польскими перифериями, невозможно констатировать ни четкой дихотомии «столица vs провинция» с характерным для нее иерархическим неравенством, ни якобы однозначного «колониального проекта» – например, в форме программы «русификации». В Привислинском крае существовали тесные взаимосвязи, отношения обмена и взаимодействия, иерархии были подвижны и постоянно становились предметом все новых и новых торгов и переговоров; здесь конкурировали множественные, в высшей степени непохожие друг на друга представления об интеграции провинций в структуру империи и о полноте проникновения в них власти центрального аппарата; здесь содержание споров вокруг «польского вопроса» формировалось в ходе контактов и конфликтов между периферийными и центральными акторами15.
Сказанное подводит нас к теме формирующего воздействия, которое имперское господство отказывало на подвластное общество. Ведь констелляции сил и процессы обмена в рамках описываемого здесь конфликтного сообщества определяли не только социальные, экономические и политические структуры Привислинского края. Они накладывали неизгладимый отпечаток и на культурные образы «себя» и «другого», существовавшие в сознании участников описываемых отношений. Имперские техники господства редко срабатывали так, как задумывали их поборники, но заложенные в их основу принципы включения и исключения приводили к тому, что под влиянием этих техник менялись рамочные условия, в которых люди встречались и разрешали свои конфликты.
Именно по этой причине внимательное рассмотрение того, как люди описываемой эпохи контактировали друг с другом, как осуществлялась между ними культурная коммуникация со всеми ее «продуктивными недоразумениями», имеет важнейшее значение, если мы хотим узнать что-то о том динамическом процессе, в ходе которого акторы приписывали себе и другим те или иные характеристики, намерения и действия. В числе прочего тут были важны и пограничные, амбивалентные зоны контакта, в которых столкновения между индивидами приводили в движение их сложившиеся ранее представления о себе и своем месте в социуме. Но сферы, где были возможны неортодоксальные взаимодействия, казавшиеся за пределами таких сфер немыслимыми, и те площадки, на которых культурные различия можно было обсуждать, пренебрегая обычными закрепленными иерархиями, были очень малы и немногочисленны – в силу антагонизма между бюрократией и населением в Привислинском крае16. И тем не менее даже в таком контексте конфронтации происходило взаимное влияние, образы Своего и Чужого формировались на основе взаимности, конфликтные столкновения порождали аналогичное ви´дение проблем, невзирая на все разногласия в том, что касалось предлагаемых для них «решений». В некотором смысле можно сказать, что имело место согласование мышления в отсутствие консенсуса. Даже враждебно относившиеся друг к другу, яростно спорившие друг с другом акторы ориентировались на один и тот же горизонт «польского вопроса», поскольку постоянно находились в диалоге друг с другом. Если власть распоряжалась штыками армии, это никоим образом не означало, что она обладает гегемонией в области конкурирующих интерпретаций происходящего в мире. Как будет показано на примере споров об усилении национального элемента в империи, концептуальные импульсы зачастую исходили от «колонизированных». Представления посланников центра о самих себе тоже формировались в этом конфликтном сообществе на периферии, а потом оказывали влияние на публичные сферы в столице.
Сказав это, мы затронули следующую основную идею данной книги: представления, концепции и практики, генезис которых нередко происходил в провинциях, затем поступали в сеть коммуникации и трансфера, охватывавшую всю империю. Если мы рассказываем историю империи как историю переплетений, взаимосвязей, круговоротов и ротаций, то должны отказаться от той фиксации внимания на центре, которая долгое время господствовала в том числе и в историографии Российской империи. Особенно применительно к Царству Польскому оказались правы те исследователи, которые говорят о немалом инновационном потенциале именно провинции как экспериментальной лаборатории «колониального модерна»17, причем сразу в двух смыслах. Во-первых, Привислинский край тоже представлял собой лабораторию по разработке модерных управленческих практик, ориентированных на интервенционистскую государственную бюрократию и часто выходивших за пределы того, что было характерно для административной деятельности самодержавия во внутренних районах империи. Как и в других европейских колониальных державах, методы управления, знания и понятия, сформировавшиеся на периферии, потом приходили и в метрополию. Недавние исследования по Габсбургской монархии уже показали, что подобные процессы имели место не только в странах, обладавших заморскими колониями, но и в сухопутной, континентальной империи18.
Во-вторых, – и в этом его заметное отличие от колоний других европейских империй – Царство Польское, и особенно Варшава в качестве его высокоразвитого городского центра, было встроено в общеевропейские процессы развития в гораздо большей степени, нежели подавляющее большинство других регионов Российской империи. Варшава была для нее новым «окном на Запад»; многие из преобразований, превративших в XIX веке европейские крупные города в мегаполисы, приходили в Россию именно через Польшу. Таким образом, «колониальная модерность» получила в Привислинском крае своеобразное значение: периферия оказалась плацдармом на пути к европейскости, которая для российских элит и на рубеже XIX–XХ веков не утратила своей роли желанного образца. Если в иерархии военной силы и власти Польша стояла в то время ниже России, то в культурной иерархии находилась, наоборот, на более высокой ступени. Те споры, которые были вызваны этой инверсией, указывают, однако, на ожесточенную конкуренцию между различными проектами модерности, сосуществовавшими в Привислинском крае. В эпоху fin de siècle [фр., буквально «конец века». – Примеч. ред.] среди государственных чиновников и российской общественности оживленно дебатировался вопрос о том, кто обладает суверенным правом на интерпретацию воображаемого «единого пути» европейского прогресса. В частности, спор с польскими концепциями латинской Европы укреплял позиции тех, кто выступал за собственный, российский цивилизационный проект и за то, чтобы в новом веке Россия пошла своим путем развития. Некоторые из представителей этого лагеря открыто заявляли о своем «антимодернизме», многие разделяли смутное недовольство по поводу неоднозначности модерных форм жизни и моделей общества. Все эти проекты были также выражением большого разнообразия концепций модерности, существовавшего в то время19.
Динамическая природа периферии проявлялась и в других сферах. Так, эскалация насильственных практик, характерная для последних лет существования царизма, началась именно в периферийных районах Российской империи. Как и в других крупных европейских державах, сначала вдали от центра возникали очаги, где насилие достигало экстремального уровня, и интенсивность кровавых вооруженных столкновений там опосредованно повышала средний уровень насилия по всей стране20. В Российской империи именно революционные группы стали прибегать к массовым убийствам в форме террористических актов. Труп полицейского на обочине дороги и губернатор, убитый в собственной карете, были знаками асимметричности методов ведения войны и революционных действий. В этом отношении периферия империи тоже оказалась областью особо интенсивного насилия. Достаточно часто своими действиями противоборствующие стороны только подогревали реакции друг друга, так что на перифериях государства начинали раскручиваться спирали насилия. Такая эскалация будет рассмотрена в книге на примере революции 1905 года в Привислинском крае.
Следует упомянуть еще одну концептуальную рамку. Несмотря на всю критику, высказываемую в науке по поводу строгого противопоставления центра и провинции, понятие колонии до сих пор служит для описания заморских владений европейских империй. Применительно к Царству Польскому этот термин вводит в заблуждение. Пускай доминирование петербургского аппарата власти над местным и сегрегация имперской управленческой элиты указывают именно в таком направлении, все же есть некоторые доводы против того, чтобы называть Привислинский край колонией, а Варшаву – колониальным городом. Во-первых, слово «колония» не играло сколько-нибудь важной роли в самоописании имперских акторов. Ибо, несмотря на то что Российская империя де-факто создала на своих перифериях множество зон с особыми правовыми режимами, претензия самодержца на абсолютность и всеохватность власти препятствовала формированию под протекторатом России областей с неодинаковой степенью зависимости от центра: в самопонимании самодержавия все территории империи были подчинены правителю в равной мере21. Эта концепция имперской интеграции имела далекоидущие последствия для проникновения государства в жизнь периферий. Ведь насколько слабы были административные структуры из‐за нехватки ресурсов и персонала, настолько же неоспоримым было притязание центра на единство империи как государственного образования. В период Великих реформ, если не раньше, Петербург начал активно бороться против особого статуса провинций и добиваться унификации администрации и права во всей империи. Этот унификационный проект охватывал и Царство Польское. Помимо прочего, он показал, что, с точки зрения центра, Привислинский край – это окраинная провинция империи, а не иностранная, хоть и зависимая территория.
И последнее, но не менее важное: термином «колония» затушевывается тот факт, что в польских землях, отошедших после разделов к России, доминирование метрополии над провинцией во многих отношениях оставалось неясным. Если, например, в военной сфере гегемония Петербурга была гарантирована вооруженными силами, то разница в экономическом и культурном развитии, даже с точки зрения императорских чиновников, часто была здесь не в пользу центра. Именно по этой причине трудно было говорить о цивилизаторской – столь характерной для европейского колониализма – миссии метрополии по отношению к польским провинциям, говорить так, чтобы это выглядело правдоподобно в глазах широкой общественности. Кроме того, все попытки петербургских властей заявлять, что они и на западной периферии своих владений осуществляют некую mission civilisatrice [фр. «цивилизаторская миссия». – Примеч. ред.], сталкивались с антагонистическим контрпроектом польской стороны, сила которого была обусловлена не только давней традицией, но и тем, что он опирался на единый общеевропейский набор ценностей22.
Именно из него польское национальное сознание черпало уверенность в себе и на нем базировало свою аргументацию за автономию по отношению к российским притязаниям на гегемонию и на полное включение Польши в империю. Идея польской нации и ссылки на давнюю государственную традицию были постоянным вызовом Петербургу. Таким образом, исследование, посвященное польско-имперскому антагонизму, не может не затрагивать того дискуссионного контекста, в котором рассматриваются сложные и конфликтные отношения между наднациональными империями и проектами наций и национальностей. Совершенно справедливо подчеркивается разрушающий систему потенциал многих конкурирующих национализмов в многонациональных империях. В общем итоге они подорвали легитимность монархий и авторитет центров и внесли значительный вклад в падение империй. Однако национальные историографии – даже новейшие – склонны изображать триумфальное шествие нации к суверенитету в телеологическом ключе. В конечном счете большинство теорий национализма последовало в этом за ними. Тем не менее тот факт, что национальные государства восторжествовали над распадающимися империями, не должен приводить исследователя к описанию этого процесса как неизбежного. Требует прояснения вопрос, почему империи, при всей своей хрупкости, так долго просуществовали и выдержали даже экстремальные нагрузки первых лет войны23. Прежде всего, империю не следует рассматривать как просто пространство, в котором происходили те процессы перехода к национальному принципу организации, которые в итоге привели к распаду империй. Скорее, имперское владычество правильнее было бы понимать и исследовать как определяющий контекст, который оказал значительное и неослабевающее влияние на споры о том, чтó есть нация и как она должна организовываться24.
Эта взаимосвязь имперской политики и постепенного перехода от имперского к национальному принципу, существовавшая в эпоху национализма, – одна из тем книги. Этим объясняется и предпочтение в пользу «ситуационного подхода», разработанного Алексеем Миллером25: ведь только при исследовании конкретной «ситуации», где переплетаются имперские и национальные взаимоотношения, существующие в конкретном регионе, мы сможем адекватно оценить сложные переплетения сети акторов и описать генезис представлений о «своем» и «чужом» как отношений обмена26. Так в центре нашего внимания оказываются взаимная коммуникация, ожесточенные дебаты по «польскому вопросу», конфликтующие и конкурирующие символики «империи» и «нации», а также многочисленные и противоречивые попытки отграничить «свое» от «чужого». Репрезентации притязаний на политическую власть соперничали и вместе с тем влияли друг на друга. Многонациональное и многоконфессиональное конфликтное сообщество в Привислинском крае позволяет это ясно увидеть27.
Среди участников этого переплетения взаимоотношений основное внимание в книге уделено государственным акторам и их концепциям и практикам имперской власти, т. е. сообществу представителей имперской элиты в Царстве Польском и в Варшаве, их внутренним и внешним социальным контактам и их культурной коммуникации в целом. Это объясняется в первую очередь тем, что в конфронтациях, происходивших в Царстве, они, занимая позицию власти, играли центральную роль. Но немаловажное значение имеет и то удивительное обстоятельство, что имперские элиты Привислинского края, в отличие от других регионов империи – остзейских провинций, Кавказа, Киевского или Виленского генерал-губернаторства, – до сих пор практически не становились предметом изучения: нет работ, посвященных локальным пространствам действия, репрезентационным стратегиям, а также обстоятельствам, навязывавшим представителям имперской элиты тот или иной образ действий. Недостаточно внимания уделялось до сих пор и жизненному миру этой категории обитателей Царства Польского. Нет пока (если не говорить о взаимодействии польского и еврейского обществ в этих провинциях) работ, посвященных составлению «карт» ментальных миров и горизонтов действий имперской элиты. Целью настоящего исследования является создание такого портрета имперской элиты в Царстве Польском, который отразил бы ее многослойность, внутренние противоречия и конфликтную коммуникацию с окружающим местным населением28.
Таким образом, открытых вопросов много: в какую структуру были встроены эти представители Петербурга на местах? Какие институты для осуществления имперской власти были сформированы в Царстве Польском до и после подавления восстания 1863–1864 годов? Кто были ключевые игроки в этой системе управления? Каковы были их сферы влияния и как формировалась конкуренция полномочий внутри этого административного аппарата, характерная для Российской империи? И последнее, но не менее важное: если говорить о ментальном горизонте, какие программные концепции, какие образы империи, какие представления этих чиновников о самих себе направляли их деятельность? Это – центральные аспекты, на которые будет направлено внимание в предлагаемой здесь истории структур и акторов петербургского владычества в Привислинском крае.
15
См., в частности: Hall C. Civilising Subjects. Metropole and Colony in the English Imagination, 1830–1867. Cambridge, 2002; Stoler A. L., Cooper F. Between Metropole and Colony. Rethinking a Research Agenda // Stoler A. L., Cooper F. (eds). Tensions of Empire. Colonial Cultures in a Bourgeois World. Berkeley, 1997. P. 1–56; Wilson K. Introduction. Histories, empires, modernities // Wilson K. (ed.). A New Imperial History. Culture, Identity, and Modernity in Britain and the Empire, 1660–1840. Cambridge, 2004. P. 1–26.
16
См., в частности: Bhabha H. K. Die Verortung der Kultur. Tübingen, 2000. S. 5.
17
См., в частности: Eckert A. Kolonialismus, Moderne und koloniale Moderne in Afrika // Baberowski J., Kaelble H., Schriewer J. (Hg.). Selbstbilder und Fremdbilder. Repräsentationen sozialer Ordnungen im Wandel. Frankfurt am Main, 2008. S. 53–66.
18
См., например: Binder H. Galizien in Wien. Parteien, Wahlen, Fraktionen und Abgeordnete im Übergang zur Massenpolitik. Wien, 2005; Buchen T., Rolf M. (Hg.). Eliten im Vielvölkerreich. Imperiale Biographien in Russland und Österreich-Ungarn (1850–1918) // Elites and Empire. Imperial Biographies in Russia and Austria-Hungary (1850–1918). Berlin, 2015; Maner H.-C. (Hg.). Grenzregionen der Habsburgermonarchie im 18. und 19. Jahrhundert. Ihre Bedeutung und Funktion aus der Perspektive Wiens. Münster, 2005.
19
По поводу постулата о многообразии модерности см. прежде всего: Eisenstadt S. N. Die Vielfalt der Moderne. Weilerswist, 2000.
20
См., в частности: Baberowski J. Diktaturen der Eindeutigkeit. Ambivalenz und Gewalt im Zarenreich und in der frühen Sowjetunion // Baberowski J. (Hg.). Moderne Zeiten? Krieg, Revolution und Gewalt im 20. Jahrhundert. Göttingen, 2006. S. 37–59, прежде всего S. 47–49; Holquist P. Violent Russia, Deadly Marxism? Russia in the Epoch of Violence, 1905–1921 // Kritika. Explorations in Russian and Eurasian History. 2003. Vol. 4. No. 3. P. 627–652, прежде всего p. 634–636.
21
На отсутствие дискурса о «колониях» в Российской империи недавно еще раз указал Майкл Ходарковский. См.: Khodarkovsky M. M. Between Europe and Asia. Russia’s State Colonialism in Comparative Perspective, 1550s–1900s // Canadian-American Slavic Studies. 2018. Vol. 52. No. 1. P. 1–29. Схожие аргументы выдвигаются в статье: Sunderland W. Empire Without Imperialism? Ambiguities of Colonization in Tsarist Russia // Ab Imperio. 2000. No. 2. P. 101–114. Призыв серьезно относиться к «языкам самоописания» империи и ее акторов содержится в работе: Герасимов И. В., Глебов С. В., Каплуновский А. П., Могильнер М. Б., Семенов A. M. В поисках новой имперской истории // Они же (ред.). Новая имперская история постсоветского пространства. С. 7–32. См. также: Dolbilov M. Loyalty and Emotion in Nineteenth-Century Russian Imperial Politics // Osterkamp J., Schulze Wessel M. (eds). Exploring Loyalty. Göttingen, 2017. P. 17–44; Gerasimov I. V., Glebov S. V., Kaplunovskij A. P., Mogil’ner M. B., Semyonov A. M. In Search of New Imperial History // Ab Imperio. 2005. No. 1. P. 33–56; Герасимов И. В., Глебов С. В., Каплуновский А. П., Могильнер М. Б., Семенов A. M. Языки самоописания империи и нации как исследовательская проблема и политическая дилемма // Там же. С. 1–12; Gerasimov I., Glebov S., Kusber J., Mogilner M., Semyonov A. New Imperial History and the Challenges of Empire // Gerasimov I., Kusber J., Semyonov A. (eds). Empire Speaks Out. P. 3–32; Миллер A. (ред.). «Понятия о России». K исторической семантике имперского периода. M., 2012; Sdvižkov D. ИмпериЯ / «Ich» und das Imperium. Das Kaiserreich und die russische Autobiographik, 1830–1860 // Aust M., Schenk F. B. (Hg.). Imperial Subjects. Autobiographische Praxis in den Vielvölkerreichen der Romanovs, Habsburger und Osmanen im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Köln, 2015. S. 113–134. Важны также сборники: Berger S., Miller A. (eds). Nationalizing Empires. Budapest, 2015. P. 1–30; Burbank J., Ransel D. L. (eds). Imperial Russia. New Histories for the Empire. Bloomington, 1998; Chulos C. J., Remy J. (eds). Imperial and National Identities in Pre-Revolutionary, Soviet, and Post-Soviet Russia. Helsinki, 2002; Evtuhov C., Gasparov B., Ospovat A., Hagen M. von (eds). Kazan, Moscow, St. Petersburg: Multiple Faces of the Russian Empire. M., 1997; Geraci R. P., Khodarkovsky M. (eds). Of Religion and Empire. Missions, Conversion, and Tolerance in Tsarist Russia. Ithaca, 2001; Hosking G. Russia. People and Empire, 1552–1917. Cambridge (Mass.), 1997; Карпачев М., Долбилов М., Минаков А. (ред.). Российская империя: стратегия стабилизации и опыты обновления. Воронеж, 2004; Кром M. M. (ред.). Новая политическая история: Сборник научных работ. СПб., 2004; Miller A., Rieber A. J. (eds). Imperial Rule. Budapest, 2004; Miller A. The Romanov Empire and Nationalism. См. также историографические обзоры: Sabirova A. Становление проблематики имперских и национальных исследований в современной российской научной периодике // Герасимов И. В., Глебов С. В., Каплуновский А. П., Могильнер М. Б., Семенов A. M. (ред.). Новая имперская история постсоветского пространства. С. 575–598; Семенов A. M. Англо-американские исследования по истории Российской империи и СССР // Там же. С. 613–628.
22
О польской претензии на европейскость см.: Eile S. Literature and Nationalism in Partitioned Poland, 1795–1918. Houndmills, 2000. P. 46–83; Landgrebe A. «Wenn es Polen nicht gäbe, dann müsste es erfunden werden». Die Entwicklung des polnischen Nationalbewusstseins im europäischen Kontext von 1830 bis in die 1880er Jahre. Wiesbaden, 2003. S. 112–227; Marung S. Zivilisierungsmissionen à la polonaise. Polen, Europa und der Osten // Hadler F., Middell M. (Hg.). Verflochtene Geschichten: Ostmitteleuropa. Leipzig, 2010. S. 100–123.
23
См.: Weeks T. R. Nation and State in Late Imperial Russia. Nationalism and Russification on the Western Frontier, 1863–1914. DeKalb, 1996. Р. 4. На эскалацию войны и значение этой динамики для усиления этнонационалистических сепаратистских настроений указано также в работах: Бахтурина A. Окраины Российской империи. Государственное управление и национальная политика в годы Первой мировой войны (1914–1917 гг.). M., 2004. Прежде всего с. 15–77; Balkelis T. In Search of a Native Realm. The Return of World War One Refugees to Lithuania, 1918–24 // Baron N., Gatrell P. (eds). Homelands: War, Population and Statehood in Eastern Europe and Russia, 1918–1924. London, 2004. P. 74–97; Gatrell P. War, Population Displacement and State Formation in the Russian Borderlands, 1914–24 // Ibid. P. 10–34; Roshwald A. Ethnic Nationalism and the Fall of the Empires. Central Europe, Russia, and the Middle East, 1914–1923. London, 2001; Sanborn J. A. Drafting the Russian Nation. Military Conscription, Total War and Mass Politics, 1905–1925. DeKalb, 2003. Прежде всего р. 74–82.
24
Об этом см. также: Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001.
25
Miller A. The Romanov Empire and Nationalism. P. 10–20. См. также недавно вышедшую работу: Berger S., Miller A. Introduction. Building Nations in and with Empires. A Reassessment // Berger S., Miller A. (eds). Nationalizing Empires. Budapest, 2015. P. 1–30.
26
Из новейшей литературы о месте России в польской политической и культурной вселенной см., например: Хорев В. А. (ред.). Поляки и русские в глазах друг друга. M., 2000; Он же (ред.) Россия – Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре. M., 2002; Fiećko J., Trybuś K. (red.). Obraz Rosji w literaturze polskiej. Poznań, 2012; Kirwiel E., Maj E., Podgajna E. (red.). Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce od końca XIX wieku do początku XXI stulecia. Myśl polityczna, media, opinia publiczna. Lublin, 2011; Iidem (red.). Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce XIX–XXI wieku. Opinia publiczna, stosunki polsko-rosyjskie, pamięć historyczna. Lublin, 2012; Kminikowska A., Pękała E. (red.). Polacy – Rosjanie. Wzajemne relacje. Gdańsk, 2007; Лескинен M. В. Польша и поляки в российских этнографических очерках конца XIX в. // Хорев В. А. (ред.). Россия – Польша. С. 134–155; Lewandowski A., Radomski G., Woydyło W. (red.). Rosja w polskiej myśli politycznej XX–XXI wieku. Toruń, 2013; Lewicki J. O uprzedzeniach w odbiorze i interpretacji wpływów rosyjskich w architekturze polskiej (o nieznanych i pomijanych przykładach inspiracji sztuką Cesarstwa Rosyjskiego) // Kminikowska A., Pękała E. (red.). Polacy – Rosjanie. S. 39–46, 217–226; Cybulski M. Rosja i Rosjanie w pamiętnikach Polaków (1863–1918). Warszawa, 2009.
27
Здесь, однако, надо указать на то, что данное исследование посвящено антагонизму преимущественно между поляками и Российской империей, а «еврейский вопрос» занимает второстепенное место. Это объясняется иерархией тем, которые привлекали внимание имперских акторов, описываемых в книге. Для представителей петербургских властей «польский вопрос» – по крайней мере, когда речь шла о Царстве Польском – однозначно имел приоритетное значение.
28
Направления для дальнейших исследований в этой области задали прежде всего Лукаш Химяк, Анджей Хвальба, Леонид Горизонтов, Ян Козловский, Кшиштоф Лятавец, Анджей Новак, Роберт Пшигродзкий, Катя Владимиров и Теодор Уикс. См.: Chimiak Ł. Memoriał Generał-Gubernatora Skałona w sprawie obchodów w Warszawie setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego // Przegląd Historyczny. 1996. Т. 5. S. 161–165; Idem. Kariery tzw. Bałtów w rosyjskiej administracji Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX w. // Ibid. 1997. T. 88. No. 4. S. 441–458; Idem. Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim 1863–1915. Szkic do portretu zbiorowego. Wrocław, 1999; Chwalba A. Imperium korupcji w Rosji w Królestwie Polskim w latach 1861–1917. Kraków, 1995; Idem. Polacy w służbie Moskali. Warszawa, 1999; Głębocki H. Fatalna sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej (1856–1866). Kraków, 2000; Горизонтов Л. Е. Парадоксы имперской политики; Kozłowski J. Wyżsi urzędnicy gubernialni i powiatowi w Królestwie Polskim w latach 1867–1875 // Przegląd Historyczny. 1996. T. LXXXVII. No. 4. S. 819–841; Idem. Dygnitarze rosyjscy nad Wisłą po powstaniu styczniowym // Kwartalnik Historyczny. 2001. T. 108. No. 2. S. 101–109; Idem. Urzędnicy polscy w Królestwie Kongresowym po powstaniu styczniowym (do 1880 r.) // Szwarc A., Wieczorkiewicz P. P. (red.). Unifikacja za wszelką cenę. Sprawy polskie w polityce rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku. Studia i materiały. Warszawa, 2002. S. 71–82; Latawiec K. Naczelnicy powiatów gubernii lubelskiej w latach 1867–1915. Próba charakterystyki grupy // Annales Universitatis M. Curie-Skłodowska: Historia. 2003. T. 58. S. 73–96; Nowak A. (ed.). Imperiological studies. A Polish perspective. Kraków, 2011; Paszkiewicz P. W służbie Imperium Rosyjskiego 1721–1917. Funkcje i treści ideowe rosyjskiej architektury sakralnej na zachodnich rubieżach Cesarstwa i poza jego granicami. Warszawa, 1999; Przygrodzki R. L. Russians in Warsaw. Imperialism and National Identities, 1863–1915. PhD Dis. Northern Illinois University. DeKalb, 2007; Vladimirov K. The World of Provincial Bureaucracy in Late 19th and 20th Century Russian Poland. Lewiston, 2004; Weeks T. R. Nation and State in Late Imperial Russia. Более полную библиографию см. в кн.: Rolf M. Imperiale Herrschaft im Weichselland; а также на сайте: https://uol.de/geschichte/geschichte-europas-der-neuzeit-mit-schwerpunkt-osteuropa/forschungsschwerpunkte/imperiale-herrschaft-im-weichselland/imperiale-herrschaft-im-koenigreich-polen-materialien/ (короткая ссылка: . https://bit.ly/2RX90ZA).