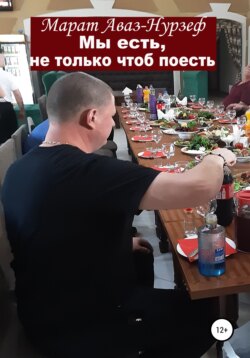Читать книгу Мы есть, не только чтоб поесть - Марат Аваз-Нурзеф - Страница 6
Сумаляк в окружающем мире
ОглавлениеПоследним «за», который в то же время стал первым и пока единственным выходом в так называемое Дальнее Зарубежье, был самолётно-челночный недельный десант в Дубаи. Последним, если не считать путешествия, совершённого спустя ровно 10 лет после Эмиратов, во второй половине сентября 2007-го. Но как его не считать! Впрочем, коль уж шевельнулись мозговые извилины, хранящие в себе картины, впечатления и оценки того, прямо скажу, нерядового вояжа по территории двух сопредельных стран, давайте их, те извилины, пока не будем препарировать, но вернемся к ним несколько позже.
Итак, сегодня 26 марта 2010 года, и я приземлился возле компьютера с намерениями самыми благими и не менее решительными.
На днях прошла информация: в Америке начались испытания туристического космолёта, на котором любой человек, кому позволяет здоровье, за 200 тысяч долларов может побывать на высоте 110 км, полюбоваться на земной шар, насладиться невесомостью. Число предварительных заявок уже перевалило за три сотни. Развелось же людей, у коих денег куры не клюют! Вообще-то богачей на свете, конечно же, гораздо больше, которым 200 штук баксов то же самое, что для меня 200 сумов (стоимость полбуханки серого хлеба в Узбекистане на сегодняшний день, пока сверху опять не поднимут цены). Но эти, спешащие выкинуть астрономическую для большинства людей сумму фактически за пустую блажь, видать, особо блажные. На Земле они, наверно, уже всё познали из того, что доступно только толстосумам. Но если на всё богатых и богатеньких всех пород и мастей посмотрим на фоне окружающего мира – окружающего одинаково, по большому счёту, что принца, что нищего! – то, положа руку на сердце, можем оценить истинное соотношение размеров, ценностей и значимостей: пылинка и система Тянь-Шань, Небесных гор (смысл названия в переводе с китайского). Да будь у меня таких бешеных денег, к тому же совершенно лишних, как у особых, я бы в небо не полез! На кой мне сдалось чудо невесомости в космосе, когда на Земле, на всех континентах, в каждом государстве, в любом населенном пункте, большом и малом, городском и сельском, столько интересного, что смотри, не насмотришься и не пересмотришь! Вот я и заявляю: никакой олигарх – хоть американский, хоть российский (пусть даже Алишер Усманов, постсоветский богатей №1, бывший наманганец, потом ташкентец, затем москвич, а с недавних пор, кажись, в основном забугорник), хоть какой бы то ни было иной (пусть даже наш, доморощенный и на месте же благоденствующий, типа Салимбая)! – не сможет лично сам, а не пером наёмных умельцев, рассказать, скажем, про праздник Навруз так содержательно и столь красочно, как в сегодняшних городах и весях Узбекистана это может сделать любая домохозяйка в кругу двух-трех товарок, собравшихся возле ворот или подъезда в импровизированном ток-шоу. Ну, пусть и не про весь Навруз, но про сумаляк – уж точно!
01. Это – сумаляк, которым меня угощали в кишлаке Хилал. Его я называю родовым: в нём исстари жили мои предки, родился и покоится отец, есть единокровные братья и сестры, у которых множество детей и внуков.
02. В Хилале, как и в других кишлаках Узбекистана, водятся давние традиции, что и видно на снимке: настоящий плов настоящие узбеки и сегодня едят руками, как то делывали деды и прадеды.
Сумаляк – блюдо весеннее, мартовское, хотя, конечно, его можно приготовить в любое время года. С некоторых пор, запущенных и протекающих поныне по инициативе и под руководством нашего дорогого Президента, сумаляк не менее популярен, чем всемирно знаменитый узбекский плов, а в Навруз даже затмевает его славу, выдвигаясь на передний план. Сумаляк варят повсеместно – и в столице Ташкенте, и в областных центрах, и в кишлаках. По этим административно-бытовым и историко-социальным структурам обитания и буду водить читателя, и посему сразу же демонстрирую характерные иллюстрации.
03. Это – Сквер, одна из самых уникальных достопримечательностей Ташкента, большое пространство в центре столицы, где благодаря вековым чинарам, хвойным деревьям, кустарникам и цветам создавался особый микроклимат, даже в летний зной более благоприятный для человека, чем в остальной части города. Помню времена, когда на постаменте стоял Иосиф Сталин, которого в своё время сменила большая голова Карла Маркса, в первые годы нового Узбекистана уступившая место Амиру Темуру (Тамерлану). Снимок сделан 16 октября той самой осенью 2007-го, куда мы, как обещано выше, ещё вернемся.
04. Один из уголков сегодняшнего Карши, моего родного города, административного центра Кашкадарьинской области, возникновение которого БСЭ (3-издание, т. 11, 1974 г.) относит к первой половине 14 века и даже не упоминает его древнего названия Насаф. С обретением Узбекистаном независимости начался бурный процесс восстановления исторической правды и справедливости, возрождения культурных ценностей и национальной гордости узбекского народа. В числе достижений в этом плане – празднование в 2009 году 2700-летия города Карши, который, как доказали узбекские археологи, вдохновлённые мудрым руководством нашего дорогого Президента, оказался на 20 веков древнее, чем утверждали источники периода Советской империи.
Образец зодчества мусульманского Востока, который видим на снимке, был специально восстановлен к юбилею и находится в части старого города, также подвергшейся большой реконструкции. Кирпичная стена, обрамляющая комплекс, стояла и в середине 1950-х годов. Правда, она была глухой, без однотипно фигурных оконцев по всему периметру, которыми она красуется ныне, и за ней никаких куполообразных построек не было видно, да их ни в моем детстве, ни в последующие десятилетия и не существовало. В начальных классах я часто проходил мимо, и помню, что поверх высокой стены тянулись ряды колючей проволоки, а по углам стояли вышки, в которых бдели часовые: за стеной была городская тюрьма.
(Потом казенный дом наказаний был переведен за город, в поселок Шайхалы, и шайхалинская зона с заключенными из разных уголков Державы играла определенную роль в широкомасштабном освоении Каршинской степи с 1969-го по 1990-й годы, имевшим титул Всесоюзной комсомольской стройки. С обретением же Ташкентом независимости от Москвы зона разрослась ещё больше – пришлых комсомольцев отправили по своим республикам, да туземных, видать, поразвелось! – и сюда приезжают родители со всего Узбекистана, чтобы проведать и поддержать своих незадачливых отпрысков.)
Справа на снимке, за стенами комплекса, видны мачты металлоконструкций, а вокруг них – черные точки птиц (подробнее о периоде нашествия тьмы пернатых в Карши будет сказано в главе «Городские виды»). Мачты – это прожектора освещения центрального стадиона «Насаф», на котором, помню, в день смерти Сталина состоялся скорбный митинг. Тогда мама и мне, пяти с половиной лет от роду, надела на руку траурную повязку. В те времена стадион был единственным в городе и никакого персонального имени ещё не имел. А за ним ещё и в начале 60-х тянулись довольно длинные фрагменты древней крепостной стены, поражающей мое детское воображение своей мощью. Эти сооружения из глины были снесены (где уж манкуртам знать, что надо было сохранить!), когда здесь стали строить так называемый Канал – продолжение Комсомольского озера при городском парке. В озере, а потом и в Канале мы купались и удили рыбу; в парке – слушали духовой оркестр, а сквозь ограду танцплощадки наблюдали таинственные и прекрасные забавы взрослых; на стадионе, при котором действовала ДСШ, – тренировались и играли в футбол. Озеро давно превратилось в лужицу, Канал – срыт и застроен, а реконструированная спортивная арена – доступна только болельщикам с трибун, да игрокам команды Насаф, выступающей в высшей футбольной лиге Узбекистана.
[Во Франции – «Первая лига», в Англии – «Премьер-лига», в Испании – «Ла Лига», в Италии – «Серия А», в Германии – «Бундеслига», в Бразилии – «Серия А», в Узбекистане – «Суперлига». Сборные команды по футболу названных стран Европы и Южной Америки – в мировых грандах, все – побывали в чемпионах, некоторые – неоднократно. А Узбекистан в рейтинге ФИФА, обновлённом на днях, в третьей декаде июня 2022-го, поднялся на 6 позиций и сейчас на 77-м месте. Зато по самоназванию – супер!]
Узбекские спортсмены, к слову сказать, за годы независимости сумели, благодаря чрезвычайной мудрости и неустанной заботе нашего дорогого Президента, взлететь на международной арене на такие высоты, о которых прежде и не мечталось.
05 Белое здание, попавшее в кадр (от 15.01.2010), – это величественный Дворец форумов, построенный в 2009 году по инициативе и под руководством нашего дорогого Президента. Башня с часами – Куранты (точнее – в главе «Без чего узбек не может»), ещё одна старая и славная достопримечательность Ташкента. Всадник на пьедестале – та же скульптура того же Тамерлана, национальной гордости того же Президента. Иначе говоря, это – то же самое пространство, бывший Сквер (снимок 03). Ему, Сахибкирану, конечно, округа виднее с пьедестала, чем пребывающим на нулевом уровне рядовым гражданам. Возможно, сыну открытых просторов и даже с возвышения не хватало обзору и воздуху в лесопарковом Сквере. (Есть мнение, что он появился на свет в пустынной зоне близ нынешнего Мубарека, одного из райцентров Кашкадарьинской области, а потом уж его отец Амир Тарагай был вынужден спасаться от врагов переселением в Кеш, теперешний Шахрисабз, считающимся официальным местом рождения Амира Темура.) Так или иначе, лес достопримечательных деревьев спилили (ни единым звуком не спросив разрешения у 23-хмиллионого народа, а тот почтительно и тактично даже бровью не повел в знак своего недоумения), пни раскорчевали, землю распахали, ёлками засадили. Кстати, гранитную голову Маркса гильотинировали сразу же, на заре государственной независимости Узбекистана. Весьма скоро свято место было занято всадником, поначалу созданным в гипсе и в спешке, в камуфляже под бронзу, вознесенным над нулём. Со временем памятник стал предательски покрываться белыми проплешинами, пока однажды, уже изрядно облезший, не был вдруг и совершенно незаметно для обывателя заменён изделием на более благородных материалах, приличествующих величию Властителя мира.
06. Мечеть в кишлаке Хилал, в 12 км от Карши. За годы независимости в Узбекистане отремонтированы и расширены все действовавшие в советские времена мусульманские заведения культа, построены сотни и сотни новых, открыты духовные вузы и средние учебные заведения. В Карши даже снесли одну из старейших узбекских школ, правда, в бытность СССР носившую имя Ленина, и немалые площади, ею занимаемые, отдали располагавшейся на втором плане старинной мечети, которая теперь владеет огороженной территорией, равной четырем футбольным полям. В нашем детстве она стояла полуразвалившейся и недействующей, служила крепостью в мальчишеских играх, но была реставрирована ещё в советские времена, и с начала 80-х стала главным храмом области, где на жума-намоз (пятничная молитва в полдень) собирались те, кто стал озабочиваться думами о душе (то есть в основном люди в возрасте): горожане, жители близлежащих кишлаков (в советские годы, в отличие от нынешних, там мечетей не было) и даже отдаленных районов.
Я бы не назвал узбеков глубоко и искренне верующими, свято соблюдающими догмы и установки Корана и Шариата, но склонность к обрядовости у них чрезвычайна. И никакое мероприятие, даже простое чаепитие на людях, не обходится без ритуальных слов, обращений, пожеланий, а то и молитв, которые непременно завершает омин – движение ладоней сверху вниз возле лица, касаясь или не касаясь его. В постсоветские времена всё это превратилось в этикет, нормы поведения. Но и сейчас упрощённой модификации омин, когда этикет ограничивается молчаливым, коротким, быстрым махом рук по кривой линии, принадлежит значительное место.
07. Каршинская гостиница «Jayhun» (Джайхун – древнее название реки Амударьи). Детали снимка весьма показательны и красноречивы: отель частный; официальные надписи представлены только на английском и узбекском языках, без русского, как это повелось с независимостью и особенно рьяно в провинциях (будто там подавляющее большинство населения Уильяма Шекспира и Бернарда Шоу читает в подлинниках!); причём узбекские тексты выполнены на латинице, на которую переведены национальная письменность и обучение в школах, колледжах и вузах; но объявление на жёлтом полотнище, означающее «Продаётся», дано по-старинке, на кириллице, дабы все, а не только дети и юношество, могли прочесть на ходу.
Замечательно, что Навруз – празднование весеннего равноденствия, уходящее корнями в зороастризм и преданное забвению в советские времена как имеющее религиозную окраску, – возвращён народу, и 21 марта –красный день узбекского календаря. Праздник уже обрёл некие традиции, нормы и правила. Официальная часть для всей страны заключается в том, что в Ташкенте ежегодно устраивается грандиозное, продолжительное шоу на площади в Национальном парке (бывший Комсомольский), на котором Глава Государства в присутствии камер Узбекского телевидения и специально приглашённой публики выступает с речью и здравицами. Затем начинается художественная часть, и под фонограммы музыки и песен не менее двух часов льются потоком выступления популярных певцов, сопровождаемых или чередующихся хореографическими постановками с участием огромного количества танцоров и плясунов. Толпы спецприглашённых на трибунах неустанно изображают народные массы и ликование. Телекамеры непрерывно ведут прямую передачу, которая до следующих представлений такого масштаба (скажем, 1-го сентября, в День Независимости), в коих устроители в первые же годы нового Узбекистана весьма поднаторели и преуспели, будет целиком или во фрагментах неоднократно дублироваться по всем каналам центральной и местных телекомпаний. А в завершение шоу Его Высокопревосходительство обходит строй артистов, раздавая им свои улыбки, рукопожатия и объятия. Все остальные граждане, кроме получения зрительских эмоций у голубого ящика, могут принять непосредственное участие в так называемых народных гуляниях в том же Национальном парке или в местных зонах культуры, где даже в сельских районах немало аттракционов для детей, а также заведений общественного питания: узбеки любят поесть, кушают по любому поводу, в провинциях до сих пор даже незнакомого человека, оказавшегося у ворот, приглашают зайти, и если тот не отказывается, первым делом начинают кормить. А пожевать и попить на улице, на людях, – узбекам и честь, и развлечение, и чуть ли не святое дело. Навруз празднуется и в организациях, и на предприятиях, и в учреждениях образования, и в махалля (административная ячейка объединения граждан по месту проживания), и в более мелких, стихийных группах. И всюду столы и угощения, и такие посиделки, так же муссируемые телевидением, тоже подаются как достижения Независимости и восстановления национальных ценностей. Однако высокая духовность, о которой в Узбекистане разглагольствуют на всех уровнях и политики, и деятели культуры, и платные работники целевых фондов и комитетов, если и зависит от застолий, то весьма незначительно. Не следует ли, коли уж возрождение и поднятие духовности ведутся сверху, подумать, а почему в Японии сохранились вековые традиции? В силу национальных особенностей? И того, что страна никогда не была под пятой колониализма или коммунизма? Безусловно, но этого мало, чтобы глубоко осознать, почему в Стране Восходящего Солнца до сих пор существуют такие обычаи, как ханами, цукими, юкими (соответственно, любование цветами, луной, снегом), а цветение сакуры (японской вишни) становится общенародным праздником. И не потому ли она стала и страной научных и технических технологий самого высокого уровня, что народ не только не растерял возвышенности чувств, но и выражает их естественно, непринужденно, без всяких культур-мультур, спускаемых сверху? И будь я на месте нашего дорогого Президента, я бы не стал всю мощь своего Аппарата, газет и телевидения, беззаветно преданных властям (независимо от учредителей и формы собственности), направлять только лишь на восхваление чревоугодия и демонстрацию обрядов, исполняемых артистами или группами фольклорной самодеятельности, но, в общем-то, уже не имеющих место быть в реальной жизни. Ведь и в Навруз есть, чем полюбоваться в пробуждающейся природе Узбекистана.
08. Кипень цветения черешни в одном из спальных микрорайонов Ташкента.
09. Персик, воспрянувший от зимней спячки. Снимок сделан в кишлаке Хилал.
Почему бы нам, узбекам, без котлов и столов не собираться в парках, садах и просто на улицах, чтобы восхититься цветущими черешнями и персиками, чтобы без еды и пития поговорить о преходящем и вечном, чтобы одарить друг друга своими или заимствованными рубаи?
Компьютер не включается без тока,
Без тока мыслей – и включать нет толка,
А в свете, от Любимой исходящем,
Поэт чеканит сердцем – Ей же! – строки.
[В книге рубаи и другие стихотворения автора (или их отрывки) приводятся курсивом. Кроме двух, данных целиком обычным шрифтом.]
Разве мы, узбеки, стали менее поэтичными, чем в былые времена, когда высоким материям и изящной словесности отдавали должное на своем уровне и одаренные личности, и султаны, и царедворцы, и духовенство, и рядовые люди?