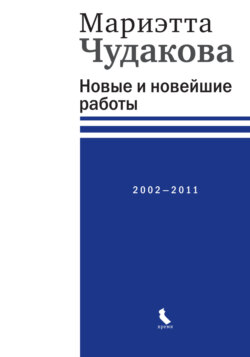Читать книгу Новые и новейшие работы 2002—2011 - Мариэтта Чудакова - Страница 6
«Военное» (июль 1941 г.) стихотворение Симонова «Жди меня» в литературном процессе советского времени
3
ОглавлениеЛирика в точном смысле слова в начале 30-х годов уходила из литературы и с середины 1930-х была практически полностью вытеснена с печатных страниц. Именно в рамке «лирического стихотворения» происходила под нажимом социума, опосредованного регламентом, сложная трансформация поэзии в непоэзию. Началась она вскоре после Октября исключением божественного, составлявшего уж не менее четверти всей лирической рефлексии, и метафорического материала. Поэзия, в которой невозможны строки «Так души смотрят с высоты на ими брошенное тело», невозможны, естественно, и реминисценции подобных строк, из которой вообще выскабливается религиозный словарь («душа», «ангельский», «рок» и т. п.), а также преследуется любое ячество, индивидуализму резко предпочтен коллективизм, «в штыки неоднократно атакована» (Маяковский) любая меланхолия, – попадает в совсем новые условия развития. Русская поэзия в ее отечественном печатном варианте, оказавшаяся тем не менее на особенном взлете (как и проза) на рубеже десятилетий в 1929–1931, отчасти и в 1932–1933 годах (в рамках данной работы мы не можем задерживаться на обосновании этих датировок и вынуждены постулировать), в 1933–1934 годах была подавлена огнем литературно-критической дидактики и оргмерами – заменена сюжетными повествованиями в стихах, балладами. С них и начал в свое время Симонов, поставивший себе задачу быстро и эффективно войти в литературный процесс.
Уже в 1940–1941 годах внутрилитературный напор все чаще стал выносить в печать любовную лирику (в основном уже учитывающую все ограничения: ее авторами были литераторы второго и третьего поколений[31], становление которых происходило уже в новом российском мире), и дидактическая критика ставила ей заслон – в соответствии с регламентом. «Стихи на “интимные” темы снова заливают потоком страницы наших журналов, – с неудовольствием фиксировала она. – Громадное большинство из них – безличные, вялые, ничтожные стишки, воспевающая на разные лады “милую” или “милого”. В одних случаях эти стихи сентиментально-слезливые. В других автор принимает псевдотрагическую позу этакого свирепого разочарованного мужчины. В обоих случаях настоящее поэтическое чувство отсутствует. Отсутствует связь с миром, отсутствует то органическое тонкое ощущение времени, которое наличествует в любовной лирике великих русских поэтов[32]. Блестящие образцы целостного сочетания общественной и любовной темы в советской поэзии – “Про это” Маяковского, главы из “Хорошо”. Здесь действительно раскрыта перед нами большая любовь, любовь гражданина своей эпохи, любовь человека, который распределяет свое сердце на секторы – личный и общественный. Подавляющее же большинство любовных стихов, появляющихся в периодике и сборниках, – это “любовная блажь”, не более. Поэты наши в последнее время охотно твердят о “праве на лирику”. Никто этого права, разумеется, у них не оспаривает. Но многие поэты сами своими стихами свидетельствуют о том, что никакого права на лирику у них нет»[33]. Подчеркнем, что приведенные оценки не имеют никакого отношения к качеству оцениваемых стихов. «Поэтическое чувство» могло и правда отсутствовать в них, но могло и присутствовать. Ссылки на Маяковского имеют опять-таки чисто политическое значение: они означают, что после водворения поэта в конце 1935 года в пантеон его лирика признавалась образцовой – независимо от того, что ее откровенность и т. д. совершенно не соответствовала теперешнему, предвоенному регламенту и ни в коей мере не могла «на самом деле» служить образцом.
Поворот к лирике замечен и зарубежной русской критикой – и тоже с неудовольствием: «Сейчас молодые поэты увлекаются лирикой чистой, пишут о любви. Но как раз эти стихи самые беспомощные, самые шаблонные из всей современной поэзии. Лирика душевной тепловатости Ярослава Смелякова напоминает не только Уткина, но порой и романсы Вертинского»[34]. Неудовлетворенность зарубежного критика понятна: это оценки «новой» лирики, слагаемой в вышеупомянутых предложенных условиях, то есть с радикальными ограничениями.
Только война, ее начало, опрокинувшее все ожидания и официозные стандарты, обозначившее угрозу самому существованию советского строя, шатнуло, в ряду других ограничений, запрет на лирику.
В цикле «С тобой и без тебя», вышедшем в 1942 году отдельными частями в журналах, отдельной книжкой, а также дважды в виде центрального раздела сборников[35], Симонов уходил от сюжетных опусов (на этом пути им были написаны еще до войны промежуточные лирические поэмы – также о любви: «Первая любовь»[36] и «Пять страниц») и в то же время – от поиска каких бы то ни было приветствуемых тем. Вполне по Маяковскому «эта тема пришла, остальные оттерла». Можно добавить с большой долей уверенности, что это был также второй случай после Маяковского, когда любовная тема была откровенно персонализирована и представлена на обозрение всесоюзному читателю, поскольку адресовалась женщине, гораздо шире известной, чем Лиля Брик, – одной из самых популярных актрис предвоенных лет Валентине Серовой (инициалы посвящения – «В. С.»). Правда, стихи не сопровождались, как издания Маяковского с фотомонтажами Родченко, портретами героини. Но это компенсировалось кинорекламой и кинокадрами. Они не были никаким образом, кроме имени актрисы, соединены с текстом посвященных ей стихотворений, однако давали читателю определенный визуальный комментарий к конкретизирующим и интимным строкам («…За то, что, просьб не ждя моих, пришла / Ко мне в ту ночь, когда сама хотела. <…> Твоей я не тщеславлюсь красотой, / Ни громким именем, что ты носила, / С меня довольно нежной, тайной, той[37], / Что в дом ко мне неслышно приходила» и т. п.). Эта персонализация, не скрываемая и даже подчеркиваемая автором связь с прототипом, раздражала сотоварищей по цеху, прошедших уже почти десятилетнюю муштру обезличивания лирики[38].
Пять-шесть стихотворений будущей книжки датированы автором еще предвоенными месяцами 1941 года. Неизвестно, впрочем, удалось бы напечатать эти стихотворения, где лирический порыв автора преодолел тяжесть регламента, если бы зима 1941/42 года, поставившая на кон само существование страны, не заставила метаться в поисках спасения ее властителей и не обрушила предвоенную версию регламента, а также если бы одним из звеньев книги не стало стихотворение «Жди меня», «заклявшее» учредителей и хранителей регламента и само продиктовавшее некоторые пункты нового регламента военного времени.
В те минуты, когда главный редактор «Правды», услышав впервые «Жди меня» в чтении автора, «забегал взад и вперед» по своему кабинету, качались весы, и чаша с лирикой перевесила.
Явилось решение: выдать воюющей за свое существование, вставшей на краю обрыва России лирику как знаменитые сто грамм перед боем.
Дальше пошла цепная реакция – и вслед за редактором всесильной «Правды» не менее всесильный Щербаков дополняет решение: выдать – вместе с запретной для всей советской послеесенинской печатной поэзии сексуальной составляющей.
Смешно даже думать, что беспокойство за жизнь Симонова, пусть даже очень полезного бесстрашного военного корреспондента «Красной звезды», могло бы побудить к разрешению публикации никаким образом не лезущего в игольное ушко регламента советской лирики стихотворения о том, как советские воины наспех обнимают советских женщин, на час запомнив их имена. Это было сугубо политическое решение, отразившее колебания регламента в военное время и роль поэтического опыта Симонова в выработке этого нового и, как стало ясно уже в течение второго послевоенного года, временного регламента. Это решение было лишь подкреплено желанием нейтрализовать взвинченное состояние автора и, позволительно предположить, в какой-то степени иррациональным воздействием «Жди меня».
В опытах своей фронтовой лирики Симонов безбоязненно-расчетливо прямо (а не только косвенно, как в стихотворении «На час запомнив имена…») затрагивал и устои советской семьи:
Мы называем женщину женой
За то, что так несчастливо случилось,
За то, что мы тому, что под рукой,
Простясь с мечтой, легко сдались на милость…
За нехотя прожитые года,
За общий дом, где вместе мы скучали,
Зовем женой за то, что никогда
Ее себе в любовницы б не взяли.
Мне хочется назвать тебя женой
За то, что милых так не называют,
За то, что все наоборот с тобой
У нас, моя беспутная, бывает[39].
Местоимение «мы» вызывающе претендовало на обобщение. Автор использовал к тому же недопустимые для предвоенного стихотворного стандарта слова и выражения:
Мне хочется назвать тебя женой
Не потому, чтоб свет узнал об этом,
Не потому, что ты жила со мной
По всем досужим сплетням и приметам[40].
Но главным образом Симонов выдвинул в своей фронтовой лирике универсальную антитезу: мужчина – женщина, давно идеологически перетолкованную и затушеванную в советской поэзии.
…Мужская привычка – в тоскливые дни
Показывать смятые карточки женщин,
Как будто и правда нас помнят они[41].
…Когда-нибудь в тиши ночной
С черемухой и майской дремой,
У женщины совсем чужой
И всем нам вовсе незнакомой,
Заметив грусть и забытье
Без всякой видимой причины,
Что с нею, спросит у нее
Чужой, не знавший нас, мужчина[42].
В одном из лучших своих стихотворений – «У огня», где Симонову удалось соединить сюжетную дань регламенту с несомненной лирикой, женщина уже получает полноту значения как воплощения ewig weiblich, и каждый эпитет не уменьшает, а увеличивает это значение.
Кружится испанская пластинка.
Изогнувшись в тонкую дугу,
Женщина под черною косынкой
Пляшет на вертящемся кругу.
<…>
Вечные слова «Yo te quiero»
Пляшущая женщина поет.
<…>
Но, как прежде, радуясь и веря,
Женщина вослед им запоет[43].
После окончания войны займутся необходимой операцией отделения канонизированного к тому времени «Жди меня» от неканонизированной, вновь выпавшей из послевоенного регламента «сексуальной» лирики[44]. И в 1950-е годы все это придется отвоевывать заново[45].
Словарь языка Пушкина говорит о магическом воздействии заклинания: «Заклинать, заклясть – 1. Ворожбой, колдовством подчинять магической силе, делать покорным тому, кто обладает тайными знаниями…»
31
См. нашу статью «Заметки о поколениях в Советской России» в настоящем издании.
32
Здесь ханжество такой силы, когда маска уже приросла к лицу.
33
Гринберг И. Стихи Константина Симонова // Литературный критик. 1940. № 11–12. С. 238.
34
Новосадов Б. Мысли о современной русской поэзии // Литературные записки. Рига, 1940. С. 114.
35
Новый мир. 1941. № 11–12; Красная новь. 1942. № 1–2; Новый мир. 1942. № 11–12; Симонов К. С. С тобой и без тебя. М.: Правда, 1942; Симонов К. Лирика. М.: Молодая гвардия, 1942 (о нем и шла речь в разговоре Симонова с Щ.); Симонов К. Стихотворения. 1936–1942. М.: ОГИЗ, 1942 (подписано к печати 9 ноября 1942 г. – почти на излете печатной лирики).
36
Примечательно, что эта поэма, окрашенная личной эмоцией не менее, чем «С тобой и без тебя» (хотя ее прототип скрыт от глаз читателя), опубликована только во время войны, и именно в книге 1942 г. «Стихотворения» (в виде трех глав, выбранных автором из черновой редакции, оставшейся незаконченной).
37
В молодогвардейском сборнике – с опечаткой: «нежной тайны той» (с. 62).
38
См. в прим. 5 цитату из воспоминаний Б. Рунина.
39
Красная новь. 1942. № 1–2. В послевоенных изданиях эти строфы изъяты.
40
В послевоенных изданиях – уже в иной, сглаженной редакции:
…Не для того, чтоб знали все об этом,
Не потому, что ты давно со мной…
(Стихи и поэмы. 1936–1954. М., 1955. С. 199. Курсив наш. – М. Ч.)
41
«Я пил за тебя под Одессой в землянке…» (Симонов К. Стихотворения. 1936–1942). В последней из цитируемых строк – также характерная, целиком симоновская нота (курсив наш. – М. Ч.).
42
«Через двадцать лет». Симонов К. Стихотворения. 1936–1942 (курсив наш. – М. Ч.).
43
Знамя. 1943. № 7–8 (курсив наш. – М. Ч.).
44
В сентябре 1954 г., через девять с лишним лет после завершения войны и смерти Щербакова, вскоре после смерти Сталина, в тот момент, когда официоз пробует сдержать третью попытку прорыва к новому типу литературной жизни, опытнейший, если не сказать прожженный, А. Тарасенков проделывал эту необходимую операцию, демонстрируя деланое удивление «парадоксальной чертой» симоновской лирики: «…в ней нарочито подчеркнуты чувственные мотивы. <…> С каким-то непонятным цинизмом поэт описывает тех “слабых душою”, для кого на войне понадобилось дешевое минутное утешение (далее цитирует «На час запомнив имена…». – М. Ч.). Мы далеки от ханжеского отрицания того, что так бывало. В жизни, как говорится, бывало всякое. Но как мог поэт <…> пытаться оправдать этот эрзац подлинных чувств (“Я не сужу их, так и знай…”) <…> Там, в стихах “Жди меня”, был большой человек, советский воин <…> Здесь вдруг показалось лицо – да простит нам поэт – старого гусара <…> А разве не странно было всем любящим симоновскую поэзию читать в годы войны некоторые признания, совсем уж мало достойные автора, известного нам по другим его произведениям. <…> То вдруг переходит к таким подробностям, которые, право, плохо вяжутся с подлинным реализмом и просто отдают пошловатостью:
Я верил по ночам губам,
Рукам лукавым и горячим…
<…>
Ты только ночью лгать могла,
Когда душою правит тело…
И снова ласки пред сном…
То, наконец, он обращается к женщине со словами благодарности, которые нельзя читать, не ощущая некоей брезгливости:
Спасибо за ночную красоту
Во власть слепому отданного тела»
(Тарасенков Ан. Константин Симонов // Тарасенков Ан. Поэты. М., 1956. С. 204–205). С некоторым колебанием, но считаем нужным напомнить, для уяснения, сколь огромным было в советские годы расстояние между личным опытом и взглядом – и печатным словом, тот когда-то «широко известный в узкий кругах» факт, что сам автор статьи был совсем не чужд всему описанному в осуждаемых им стихах и скоропостижно скончался сорока семи лет во время тайного свидания. И еще одно пояснение: язык и пафос инвектив Тарасенкова не был чужд Симонову тех лет. Он и сам мог бы написать нечто подобное, если бы речь шла о чужих сочинениях, да и писал (см. хотя бы статьи о повести Эренбурга «Оттепель» в двух подвалах «Литературной газеты» 17 и 20 июля 1954 г.).
45
См. об этом: Чудакова М. Возвращение лирики // Вопросы литературы. 2002. Вып. 3. С. 15–42.